Кухня Средневековья. Что ели и пили во Франции
Text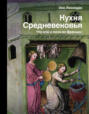


Zum Hörbuch
- Größe: 640 S.
- Kategorie: Kochen, Geschichte, beliebt
Вкусовая палитра Средневековья
Сохранившиеся до нашего времени английский и флорентийский трактаты о приготовлении пищи согласно различают три основных вкуса: «сильный» (или пряный), «сладкий» и «кислый». Горечь не пользовалась таким успехом – так, уже упоминавшийся английский трактат советует заглушать «ореховую горечь» сахаром. И наконец, что касается соли, ее использовали, по-видимому, куда скромнее, чем сейчас. Причиной тому была и высокая цена, и тяжелый соляной налог (габель), весьма непопулярный во французском обществе. Исключением был только Сентонж и несколько других местностей, где, собственно, и шла соледобыча, позволявшая местным жителям подсаливать хлеб, и это неизменно вызывало удивление путешественников.
Что касается «сильного» вкуса, ситуация совершенно ясна: его создавали пряности, которые в те времена щедро сыпали в большинство готовящихся блюд. Средневековые врачи особенно обращали внимание на перец (единственный из всех продуктов земли относящийся к высшей, четвертой, степени жара). Гвоздика соответствовала третьей, корица – второй, и, наконец, шафран – самой скромной, первой. Сладкий вкус создавался тростниковым сахаром – продуктом достаточно дорогим и потому не всем доступным, а также изюмом, черносливом, инжиром, финиками и, конечно же, медом. Местные предпочтения сказались и тут – если Англия и Пиренейские страны безусловно отдавали предпочтение сладкому, смягчая медом и сахаром жгучесть перца и кислоту вина, французы, наоборот, почитали важнейшими кислый и «сильный» вкусы, резко выделяясь в этом плане из прочих европейских стран. Повара вельмож и прелатов без колебаний отдавали предпочтение сочетаниям кислого и пряного, из которых, собственно, и получали оттенок, желаемый для конкретного блюда. Для того, чтобы добиться подобного эффекта, в дело шел длинный или гвинейский перец (второй из них вошел в моду во времена Позднего Средневековья). Дело доходило до того, что в чересчур «сладкую» корицу сыпали жгучий имбирь, а уксус, как слишком «слабый» для французского вкуса, заменялся едким соком незрелого винограда или зеленых яблок (т. н. «вержюсом»), который охотно добавляли к овощным или мясным блюдам.
Прославленный французский врач того времени Жак Деспар писал в одном из своих сочинений:
Итальянцы исключают потребление [вержюса] при гнилостной лихорадке, ибо он [по их уверениям] имеет обыкновение ухудшать состояние больного, а также спрыскивают блюда, предназначенные для больных лихорадкой, апельсиновым соком, дабы придать им кислоту и таковым образом сделать более аппетитными. Однако мы, французы, не располагая столь значительными запасами апельсинов, предлагаем больным лихорадкой именно вержюс, путем добавления его к соусам или же используем его в качестве приправы к мясным или рыбным блюдам, и ежели таковой вержюс приготовлен со знанием дела, нам не приходилось замечать, будто от него происходил вред или ухудшалось состояние больного.
Впрочем, на юге Франции, больше тяготевшем к средиземноморскому типу приготовления пищи, охотней использовались сок лимона, померанцы, айва или каперсы.
Кислое и пряное царствовали на кулинарном Олимпе Франции в течение 900 лет, лишь очень медленно и неохотно уступая свои позиции. И наконец, в XV – последнем веке Средневековой эры – пряности окончательно отошли на второй план, во времена Карла VII Победителя важнейшим продуктом стал сахар, а важнейшими вкусовыми оттенками – конечно же, сладкий и кисло-сладкий. Сохранившееся меню «для юной моей госпожи», послужившее примечанием к одному из поздних изданий «Книги о снеди» – основного кулинарного труда Позднего Средневековья, – рекомендует подавать на стол в качестве закусок вишни в сахаре, «пирог с отверстием в центре», испеченный с сахаром, затем – голубей с уксусом и сахаром, сладкий слоеный пирог, печенных на решетке куропаток в сахаре и, наконец, груши, опять же, в сахаре. Окончательно пряности во французской кухне ушли на второй план уже в XVIII веке, в качестве приправ к основным блюдам их сменили чисто французские петрушка, лук или ароматные травы.
Доступность
Северная и Южная Франция вплоть до Нового времени отнюдь не составляли одного целого. От Парижа до Тулузы конный путь требовал около недели, и разница между севером и югом сказывалась во всем – начиная от языка (на юге вплоть до Нового времени использовался окситанский, в то время как север говорил по-французски) заканчивая кулинарными пристрастиями.
Южная кухня тяготела к средиземноморскому типу, она родилась в климате более жарком и влажном, с характерной растительностью и животным миром субтропиков, в то время как более суровая и аскетичная северная вынуждена была руководствоваться куда более скромными ресурсами. К сожалению, если о северных предпочтениях (от Парижа до Нормандии) мы в достаточной мере осведомлены, юг по-прежнему остается во многом белым пятном. До нашего времени дошла единственная поваренная книга Прованса, написанная неизвестным автором на латинском языке с сильной примесью окситанских слов «Modus viaticorum preparandorum et salsarum» («Способ приготовления пищи и соусов»), в котором содержатся столь экзотические для Северной Франции блюда, как, например, raymonia – птица в гранатовом соусе, или matafeam (мягкий пирог с яблоками, яйцами и сахаром, с добавлением воды, настоянной на цветах апельсинового дерева (этот рецепт под именем matefaim и сейчас прочно удерживает свои позиции в южной кухне)). На Юге множество блюд принято было на испанский или итальянский лад подкисливать соком лимона, при том, что на севере этот фрукт был известен куда менее. Также чисто южной привычкой было готовить еду в небольших переносных печах (trapa), причем в них зачастую выпекались горячие пирожки. Если север тяготел к острому и кислому, юг, опять же на средиземноморский манер, предпочитал более нежные кисло-сладкие вкусовые гаммы.
Жиль ле Бувье, больше известный как «Герольд Берри», по месту своего рождения и названию должности, которую он занимал при дворе короля Карла VII, оставил любопытные записи, известные под именем «Книги описания земель», в которой за вычетом откровенных басен, вроде той, что жители балтийского побережья «питаются сырой рыбой», можно найти интересные сведения касательно «двух Франций». Так, во время путешествия по югу, жалуется герольд Берри, ему было почти невозможно отыскать привычный для себя пшеничный хлеб. Жители Лангедока сеяли пшеницу исключительно для продажи, в то время как для собственного потребления пекли просяной хлеб, за что недовольный путешественник окрестил их миллиофагами, то есть «пожирателями проса». И в то же время улитки, ставшие для нас неотъемлемой особенностью французской кухни, герольд почитает «итальянской едой», прозрачно намекая, что «итальянская лень и трусость» прямо связаны с улиточной медлительностью.
Известно также, что на юге основным жиром для жаренья и заправки было оливковое масло, так как соответствующие деревья росли в изобилии по всей стране, в то время как доставлявшееся с севера коровье масло было очень и очень недешевым, и – снобизм неистребим во все века – его покупали именно для того, чтобы пустить пыль в глаза гостям.
И наоборот, на севере, особенно в Бретани, огромные стада коров и давние традиции животноводства привели к тому, что молоко и масло превратились в неотъемлемые составляющие местной кулинарии. Ситуация заходила так далеко, что за неимением растительных жиров местное население продолжало употреблять сыр и масло во время постов, и никакие протесты священнослужителей не могли этого изменить. Оливковое же масло, с немалым трудом доставлявшееся с юга, уже здесь служило показателем богатства и престижа, «снобские» рецепты севера специально требуют добавлять в готовящиеся блюда «изрядное количество оливкового масла».
Юг издавна был страной вина; север также нуждался в нем хотя бы для церковных нужд, и виноград растили где только было возможно, однако вместо сладкого вина юга вкус северного вина был, как правило, кислым. Более того, Нормандия и северные районы страны, где виноград можно было выращивать с огромным трудом или нельзя было вообще, с давних времен пили пиво и сидр, приближаясь в этих своих привычках к голландско-немецкому региону. Но, как уже было сказано, наши знания о Южной Франции в Средние века практически ограничиваются вышеизложенным, потому в дальнейшем речь будет идти практически исключительно о севере.
Красота
Сохранившийся до нашего времени забавный средневековый анекдот рассказывает о некоем проповеднике, который стал, как водится, обличать людскую греховность и проповедовать аскетизм и покаяние, мотивируя это грядущим в скором времени концом света. Когда же его спросили о дате этого конца, проповедник несколько необдуманно отнес его к 1000-му году, отстоящему на сорок лет с момента, когда, собственно, он и начал свою речь. После чего проповедь успеха не имела, и потерявшие интерес слушатели разошлись кто куда: прожить сорок лет не рассчитывала даже молодежь[18].
Жизнь была короткой, а зачастую и полной лишений, потому и насладиться ею требовалось как можно полнее, не откладывая дела в долгий ящик, так как следующий год мог и не наступить. Подобные настроения, в достаточной мере находившиеся под спудом во времена Раннего и Высокого Средневековья, вылились в настоящий психоз погони за наслаждениями после эпидемии Черной Смерти и последовавшей после нее череды новых эпидемий, с завидной регулярностью посещавших страну, когда девизом целых поколений стало «ешь, пей, люби, ибо завтра ты умрешь!». Средневековье умело развлекаться, всей душой отдаваясь пирам, любви, азарту охоты или войны, восхищаясь пышными процессиями и хохоча над проделками шутов. В этой череде скоротечных земных удовольствий еда занимала далеко не последнее место. Угощение обязано было радовать гурмана отнюдь не только запахом и вкусом, оно должно было вызывать эстетическое наслаждение, пища обязана была быть красивой и притягательной, в чем не последнюю роль играл цвет.
Средневековье любило яркие и броские цвета: аскеты, подобные Св. Бернарду, утверждавшие, что цвета, как и все прочие земные соблазны, подлежат самому строгому осуждению как отвращающие человека от Создателя, оказывались в жалком меньшинстве. Оппоненты, принадлежащие к тому же духовному сословию, с куда большей для слушателей убедительностью доказывали, что чистый и яркий цвет возвышает душу, вселяет в нее высокие помыслы, приближая подобным образом к божественной благодати. Буйство красок присутствовало везде – разноцветными были статуи святых в церквях и оконные витражи, яркими цветами встречали сады, гербы на стенах замков и дворцов, знамена и мантии, раскрашенные вручную книги, гобелены, ковры, не говоря уже о том, что раскрашивали собак, охотничьих соколов, волосы и бороды. Средневековая косметика также поражала буйством оттенков, доходивших порой до аляповатости. Аристократы, клирики, горожане, сельские жители – все без исключения желали ярко и броско одеваться и столь же яркие и броские цвета видеть у себя на столе. Цветная кухня в Средние века была настоящим искусством. В своем окончательном виде она, конечно же, воплотилась при дворах принцев, богачей и высших прелатов, но хотя бы подкрасить пищу у себя в тарелке мог почти каждый. Так, сохранились изображения простой пшеничной каши, которой посредством шафрана был придан золотисто-желтый оттенок. И, конечно же, придворные повара и кондитеры изощрялись как только могли.
Документы того времени донесли до нас рассказы о подававшихся на пирах у знати пирожных, пирогах и прочих блюдах, сложенных в форме замков (причем на стене мог красоваться соответствующий герб), кораблей с матросами и даже архангела Гавриила, принесшего Марии благую весть.
Белый цвет для подобных изысков давали рис, белое куриное мясо, белый имбирь и, наконец, миндальные орехи. Не забудем, что каждый цвет на всем протяжении Средневековой эпохи имел определенное символическое значение, и снежная белизна говорила о невинности, чистоте помыслов. Оттенки красного (цвета могущества) предоставляло земляничное или вишневое пюре, в то время как петрушка, щавель, шпинат и множество других садовых трав нужны были для получения зеленой палитры (символа плодородия и богатства природы). Желтый цвет (в одежде употребляемый редко, но в блюдах выступавший символом мудрости и духовного возвышения) получался из шафрана, однако пряность эта в средневековую эпоху стоила весьма недешево, так что менее зажиточные граждане шли на хитрость, получая сходный оттенок с помощью яичного желтка. Оттенки синего и голубого (королевского цвета Франции) легко было получить, разбавив водой фиолетовый сок тутовых ягод. Коричневый цвет давали орехи. Черный ассоциировался с силой и властью, от природы достаточно темное мясо лесных животных и птиц дополнительно чернили, получая нужный оттенок с помощью обжаренного в масле хлеба. Так, одно из любимых аристократией блюд носило имя Голова Сарацина и должно было отличаться угольно-черным цветом. И наконец, тонкие накладные листики из золота и серебра придавали пище особенно величественный вид и представляли собой прерогативу принцев и высшей аристократии.
Престиж
Пристрастие средневекового человека к едким и острым пряностям хорошо известно и стало общим местом, переходящим из одной исторической работы в другую. Действительно, блюда средневековой Франции на современный вкус напомнили бы скорее о Мексике: тогдашние поколения, как было уже сказано, питали настоящую страсть к острому, едкому, кислому, пахнущему резко и пряно. Мясо буквально топили в перечном соусе, имбирь добавляли в пиво и вино, курятину обсыпали шафраном с такой щедростью, что она приобретала оранжево-желтый цвет. Ситуация заходила так далеко, что при попытке приспособить средневековые рецепты к современному восприятию долю пряностей приходится резко уменьшать, в противном случае средневековые блюда показались бы нам совершенно несъедобными.
Причина подобных пристрастий во многом лежит на поверхности, однако из одного научно-популярного издания в другое упорно кочует странный миф, будто предки не умели хранить мясо и другие скоропортящиеся продукты и вынуждены были потреблять их протухшими, пряности же сыпали в свои тарелки столь щедро, чтобы отбить запах тухлятины. Остается только пожать плечами и удивиться тому, как европейское человечество при таком порядке вещей поголовно не вымерло от пищевых отравлений. Впрочем, другой вариант той же басни (несколько более правдоподобный) утверждает, что мясо хранить все же умели – в виде солонины, и этой вот бесконечной солониной годами питались все, от короля до нищего, причем надоевший вкус забивали остротой перца.
На самом деле мясо хранили на ледниках уже со времен античности. Заметив, что в пещерах и подземных выемках прохладно даже в самую жаркую погоду, с этой целью стали использовать природные образования, а там, где их не было, в земле вырывали глубокие погреба. Зимой на реке топорами вырубали куски льда, доставляли их на место, к леднику приспосабливалась толстая деревянная дверь, и скоропортящиеся продукты прекрасно сохранялись днями и неделями. Несомненно, парная говядина или свинина в те времена стоила на рынке дороже «сохраненного» мяса, но подобная тенденция существует и сейчас. На самом деле, страшные сказки о тухлятине выдают лишь недоумение современного городского человека, не могущего взять в толк, как можно было существовать без холодильника (телевизора, компьютера… нужное подчеркнуть).
И наконец, третья гипотеза, приверженцем которой был, к примеру, известный романист Стефан Цвейг, утверждает, что пища европейского человека была достаточно пресной и однообразной на вкус, так что единственным способом доставить себе удовольствие от еды были индийские и малайские приправы. Однако и это не совсем так. Европа не была обделена ароматическими травами и овощами – во всех огородах росли лук и чеснок, в Южной Франции прекрасно известен был лимон (в северной кухне его замещал горький апельсин – померанец), в садах при замках выращивали дорогой шафран – список можно продолжать еще и еще. Чтобы понять, откуда у европейцев появилась пристрастие к индийским и африканским пряностям, следует коротко рассказать о том, как вообще эти заморские диковинки попадали на европейские столы.
Пряности доставлялись во Францию с островов Тихого океана, через Индию, Аравию и, наконец, венецианцев, составивших капитал на торговле с заморскими странами. Имбирь (в первую очередь имбирь!), гвоздика, перец, корица – по расчетам современных исследователей, каждое зернышко перца, каждая почка гвоздичного дерева должны была пересечь Индийский океан, с его штормами и пиратами, Красное море, аравийскую пустыню, где караваны также постоянно рисковали найти себе могилу из-за песчаных бурь, жажды и нападений бедуинов, Средиземное море и, наконец, пропутешествовать несколько недель на спине вьючного мула по столь же небезопасным европейским дорогам. В результате проходило не менее трех лет, прежде чем урожай перца, корицы, имбиря оказывался в конечном итоге на столе французского прелата или вельможи. Более того, правители всех земель, через которые проходил караван, не упускали случая поживиться за его счет более или менее «законным» образом, так что каждый мешок товара не менее десяти-двенадцати раз облагался разнообразными пошлинами. В результате цена заморских диковинок в Европе доходила до заоблачных высот и более того, постоянно росла. Перец или гвоздику взвешивали на ювелирных весах, обязательно в закрытом помещении, чтобы ни одна драгоценная пылинка не была случайно унесена ветром. Перцем можно было расплачиваться по весу как золотом или серебром, за перец приобретать права гражданства.
Однако мало и этого. Не стоит забывать, чем были Индия и прилегающие к ней земли в сознании людей той эпохи. По средневековым понятиям, рай располагался в Индии, и счастливые жители этой страны были здоровяками, доживавшими до возраста Мафусаила, пряности, росшие на этой земле, пропитывались эманациями рая, питали свои корни из четырех рек, вытекавших из источника в саду Эдема. С перцем, корицей и т. д. было связано множество интересных легенд – так, например, полагалось, что перец вызревает в змеиных гнездах, где ядовитые гады ревниво охраняют его от людей, и единственный способ добыть драгоценную пряность – поджечь гнездо, заставив его обитателей искать спасение в бегстве, после чего перец (исконно белый как снег) становится черным от жара… и т. д.
Справедливость подобного умозаключения можно продемонстрировать с помощью полуанекдотической, но совершенно реальной истории о кратковременном триумфе гвинейского перца. Растение это носит ботаническое имя мелегетта и растет в Западной Африке. Появившись в Европе около XIII века, оно изначально не привлекло к себе внимания, оставшись скромной составляющей врачебных рецептов. Однако в конце XIV – начале XV века некий не слишком обремененный географическими знаниями, или наоборот – хитрый и изворотливый – купец, чье имя осталось неизвестным, дал гвинейскому перцу новое имя «райское зерно» (фр. grain de paradis). По расхожему объяснению, таинственное растение происходило не то прямо из Эдемского сада, не то непосредственной близости от него. Слово «райское» немедленно сделало свое дело, и спрос, а вместе с тем цены на заморскую диковинку взлетели до головокружительных высот. Популярность «райского зерна» оказалась столь высока, что оно потеснило все давно известные пряности, уступив разве что имбирю. Впрочем, уже через 30–40 лет сенсация лопнула. Первые португальские мореплаватели сумели определить, что родина гвинейского перца находится в Африке и растение это ничем не отличается там от всех прочих. Покров интригующей таинственности был сорван, и гвинейский перец оказался забыт столь же быстро, как ранее взлетел на вершину славы. Более того, забвение оказалось столь прочным, что лексикографы XVII–XVIII веков, не в силах определить, о какой пряности идет речь, ошибочно отождествили ее с кардамоном. Забавно, что англичане, итальянцы и каталонцы, называвшие это растение на своих языках куда более прозаичными именами, никогда не находили в нем ничего особенного.
Суммируя еще раз, повторимся: пряности в ту эпоху были не просто «диковинным» а высокопрестижным товаром, потребление которого свидетельствовало о власти, богатстве и высоком положении хозяина дома, его приобщенности к высшим сферам бытия. Пряности из простой еды превратились в символ и оставались в этом качестве до эпохи Великих географических открытий, когда начавшиеся путешествия португальцев в Индию развеяли вековые легенды и увеличение товарооборота вызвало катастрофическое падение цен, превратив перец, имбирь и т. д. в простые приправы, в качестве которых они существуют и до нынешнего времени.
