Umfang 200 Seiten
1953 Jahr
Дневник незнакомца
Über das Buch
«Дневник незнакомца» Жана Кокто – это не классические мемуары или дневники, но глубоко интимные и глубоко философские размышления «глашатая нового искусства». Кокто пишет о природе, поэзии и красоте, психоанализе, свободе и смертной казни, дружбе, памяти и рождении идей. Вспоминает встречи и беседы с Сартром, Стравинским, Прустом и Пикассо. И в этих очерках раскрывается личность Кокто, одного из самых оригинальных художников века.
В формате a4.pdf сохранен издательский макет книги.
Genres und Tags
очерки Кокто, одного из самых оригинальных художников. Тут и мемуары и пережитый опыт и исследования и творческий процесс и размышления обо всем на свете: о природе, поэзии, красоте, свободе, дружбе… и воспоминания о встречах с Сартром, Стравинским, Прустом и Пикассо…
Жан Кокто "Дневник незнакомца". Маленькая, по сути, книжечка. Но емкая. )) (Как любила говорить наша учительница истории в школе )) )
Что это все из себя представляет - трудно определить однозначно. Это такая смесь... или, может быть, правильнее сказать - сплав... Тут главным образом размышления и исследования сути творческого процесса, сути поэзии. Но также и размышления обо всем на свете - от пережитого опыта (а автор, живший в известную эпоху в известной географической зоне) определенно должен был что-то пережить!) до новых данных науки... и сразу же, автоматически - попытки встроить эти новые данные в свою систему (очень интересно )) ) Тут и краткие вставки - почти что мемуары... автор, если верить тексту, мемуары не любит, писать их не собирается и всячески от них отмахивается, но все-таки какие-то моменты он упоминает, и это выходит очень ярко и завлекательно. Прямо хочется еще что-нибудь почитать об этой эпохе (в принципе, я могу перестать лениться и шугаться и почитать Жана Маре, хотя, по правде говоря, он меня слегка пока напрягает )) ).
Я думаю, это достаточно личный текст... можно сказать, откровенный. В него надо вчитываться, вдумываться. Автор еще так все необычно и парадоксально излагает - какие-нибудь фрагменты можно долго рассматривать, прикидывать... Как вот, например, когда автор размышляет о переводах и о том, как текст при этом искажается. Он же перед этим помещает нечто вроде вступления, где приводит разные случаи непонимания.
«В поезде. Первый господин: «Который час?» Второй господин: «Вторник». Третий господин: «Значит, это моя станция». Нелегко друг друга понять. В Падуе, в одном отеле, путешественник спрашивает у служителя: «Скажите, где я могу найти Джотто?» Ответ: «В конце коридора направо». Нелегко друг друга понять. Если бы земля находилась дальше от солнца, она бы не почувствовала, когда оно начнет остывать, и солнце долго виделось бы нам солнцем. Они грели бы друг друга без тепла. Нелегко друг друга понять. Особенно трудно понять друг друга в нашем мире, где языки воздвигают между произведениями непреодолимые барьеры. Чтобы перебраться через эту стену, произведениям приходится влезать на нее с одной стороны и падать по другую сторону в таком виде, что и полиция не опознает. Редким авторам повезло при таком перелезании. Перевод – это не только брачные узы. Это должен быть брак по любви. Говорят, Малларме, Прусту и Жиду повезло в таком браке. Мне чуть было не повезло с Рильке. Но Рильке умер. Он начал переводить «Орфея». Что касается меня, то по свету бродят такие безумные переводы моих произведений, что невольно задаешься вопросом, а читал ли меня переводчик. Откуда тогда дифирамбы, которые поют нам за границей? Полагаю, что дело в паре, утратившем форму сосуда, но несущим мираж того, что этот сосуд содержал. Джинн из арабских сказок, способный перенести куда угодно театральный зал.»
При первом прочтении я просто поулыбалась занятному изложению и абсурдным ситуациям. Потом еще пораздумывала - и вот мне пришло в голову, что это же тут автор изложил действительно разные случаи! В смысле, сначала идет разговор в поезде - это непонимание, вызванное тем, что собеседникам наплевать друг на друга, они друг друга не слышат, не обращают внимания, воспринимают только собственные мысли, на них и отвечают. Второй случай - это как раз чисто языковые моменты, люди, говорящие на разных языках. А вот третий - это же вообще интересно! Это получается непонимание двух сущностей, которые просто находятся в разных сферах существования... И вот вопрос - а возможно ли тут какое-то понимание в принципе? )) Далее, размышляю я - не ведут ли эти рассуждения к тому, что нам требуется для понимания произведения не только перевод с одного языка на другой (это в сущности ерунда, и автор тут легко отмахивается от возможных шероховатостей и искажений), но и перевод с учетом этих самых разных сфер существования? Разве не интересно об этом подумать? )) Достаточно многие люди не понимают некоторых видов/стилей юмора, или там поэзии, скажем... вот для них перевод этого всего? )))
Если говорить о фрагментах личного (мемуарного) характера, то я размышляю, что тут тоже все не так однозначно. Как кажется на первый взгляд. Вот, скажем, для примера, как автор в одном месте пускается в рассуждения, что - ему приписывают то, что он не говорил, не писал, не думал вообще, ему создают какой-то дикий образ, который к нему не имеет никакого отношения - так вот это даже хорошо, и как бы это его защищает, потому что все эти придумывающие и приписывающие нападают и оскорбляют совсем не его, а не существующий образ, а он этого всего даже не замечает! Вот я думаю, что это, наверно, все-таки скорее что-то вроде самогипноза... Что если бы автор действительно "не замечал" упомянутых нападок, то он бы и не замечал - они бы вообще прошли мимо него... Наверно, все-таки это его больно задевало - не зря же в других местах упоминается о бегстве из Парижа, где "практикуют пытки с поеданием жертвы живьем муравьями" и прочее.
Нет, я не берусь утверждать, что над всей этой книжкой сидела и думала. )) Просто какие-то моменты особенно запомнились и при обращении на них внимания - продолжали как бы разворачиваться, производить новые впечатления... Конечно, по уму надо всю книгу так и читать. Но как-то сейчас так много книг, что торопишься поскорее прочитать и перейти к следующей... Мы избалованы. ((
Но, конечно, самое интересное - это то, что автор пытался выстроить касательно творчества. Он так выразительно пишет... Вот я думаю, что по этой манере текст вполне можно отнести к поэзии - пусть не по форме, но по сути! Игра с образами, с метафорами... Он тут все переводит на творчество и поэзию. Основная мысль - что все это является частью чего-то существующего вне нас, и только в малых количествах взаимодействующего с нашим миром, прорывающегося сюда в виде произведений (будь это стихи, романы или фильмы). Автор произведений при этом всего лишь является проводником, через которого это нечто может в наш мир проникнуть и здесь закрепиться. Поэтому автор должен быть скромным и смиренным... не заблуждаться насчет своей значимости и своих авторских прав. (Наверно, по нынешним меркам такая точка зрения не очень популярна )) )
В общем, все это очень интересно. Мне даже почти захотелось посмотреть какие-нибудь фильмы Кокто. Но я не обольщаюсь - увы, у меня по-прежнему чудовищный несмотрец. (((
«Красота – всегда результат неожиданного происшествия, внезапного перепада от устоявшихся привычек – к привычкам, еще не устоявшимся. Красота вызывает оторопь, отвращение. Иногда омерзение. Когда новое войдет в привычку, происшествие перестанет быть происшествием. Оно превратится в классику и потеряет шокирующую новизну. Собственно говоря, произведение так и останется непонятым. С ним смиряются. Те, кто в самом деле видел происшествие, уходят потрясенные, не способные ничего объяснить. Те, кто ничего не видел, выступают в роли свидетелей. Они высказывают свое мнение, используя событие как повод обратить на себя внимание. А происшествие остается на дороге, окровавленное, окаменевшее, ужасающее в своем одиночестве, оболганное пересудами и донесениями полиции.» *** «Человек пытается спрятаться в миф от самого себя. Для этого все способы хороши. Ложь – единственная форма искусства, которую публика принимает и инстинктивно предпочитает реальности.» *** «В нас живет ангел. Мы должны быть его хранителями.» *** «Наша сумбурная эпоха попалась в ловушку художников: она постепенно привыкла сравнивать картины не с моделью, а с другими картинами.» *** «… В других странах обо мне судят по моим произведениям, в то время как в моей собственной стране, напротив, о произведениях моих судят по тому образу, который мне сотворили.» *** «Возможно, изобретя калейдоскоп, мимоходом открыли великую тайну. Все его бесчисленные комбинации – суть производные трех элементов, внешне друг другу чуждых. Вращательное движение. Осколки стекла. Зеркало.» *** «Печальное знание, что наши клетки столь же чужды нам и не ведают о нашем существовании, как звезды.» *** «Утонченные, жестокие чудовища, в высшей степени самцы и вместе с тем андрогины: л е т а ю щ и е у г л ы; так я представлял ангелов до того, как убедился, что их невидимая сущность может принимать форму поэмы и становиться зримой без риска быть увиденной.» *** «Мы с готовностью подчиняемся судьбе, поскольку убеждены, что у нее одно лицо. На самом деле судьба многолика, ее лица противоречат друг другу и друг с другом едины, как два профиля Януса.» *** «Театральная пьеса гораздо убедительней, чем фильм, потому что фильм – это история призраков. Во время фильма не происходит обмена волнами между зрителями и актерами из плоти и крови.» *** «Кто желает войти в мой дом, входит в него. Кому там нравится, остается. Я никогда не загадываю наперед. Когда меня спрашивают, что я унесу с собой, если мой дом загорится, я отвечаю: огонь.» *** «Можно уничтожить мои холсты, можно уничтожить меня самого. Можно уничтожить наши видимые формы. Но перспектива времени и пространства не даст уничтожить невидимое. Потому что произведение живет за пределами своего существования. Оно посылает импульс, даже если разрушено.» *** «Слава произведения порождает тот же самый трепет, который мешал китайцам смотреть на своего императора. Если бы они осмелились, то ослепли бы. Лучше уж с самого начала ничего не видеть.» *** «Истинная слава начинается тогда, когда прекращается всякий суд, когда видимое и невидимое перемешиваются, когда публика аплодирует не пьесе, а тому представлению о ней, которое сложилось у нее в голове, аплодирует самой себе за то, что оно сложилось.» *** «Странствия переведенных произведений никак не связаны с трудностями их написания. Это справедливо. Ведь они странствуют. Они отдыхают от нашего назойливого надзора.» *** «Я родился с открытыми ладонями. Деньги и произведения утекают у меня сквозь пальцы. Если они хотят жить, пусть живут. Я ограничиваюсь тем, что пишу их, потому что не могу молчать: не уносить же их с собой в могилу.» *** «Что начертано, то начертано. Оно становится добычей толкователей. Случается, именно так я узнаю, что именно я туда вложил. Правда, это вовсе не означает, что я это туда не вкладывал. Совсем наоборот. Просто невидимый уровень фильма (невидимый для меня самого) становится достоянием археологов души, которые способны проанализировать приказы, управляющие моей работой, но для меня лишенные смысла. Я осознаю это позже, когда мне задают вопросы и я даю разъяснения, опираясь на суждения других. Изначально я сам себя не слишком хорошо понимаю. Я вижу только видимое. Это ослепление работой.» *** «У меня есть преимущество: я не знаю достаточно хорошо ни одного языка, чтобы переводить. Статья в немецкой или английской газете смущает меня больше, чем поэма Шекспира или Гете. Яркий текст обладает своим рельефом. Мои усики чувствуют этот рельеф, как слепые – азбуку Брайля. Знай я хорошо один из этих языков – и поэма испугала бы меня непреодолимыми барьерами эквивалентов. Но я знаю плохо и потому щупаю ее, глажу, трогаю, нюхаю, верчу во все стороны. Я улавливаю малейшие шероховатости бороздок. Мой рассудок трется об эти шероховатости, как иголка граммофона. Из этого выходит не та музыка, что записана, но китайская тень этой музыки. А она вполне соответствует ее сути.» *** «Эйзенштейн рассказал мне, что кадры из его «Броненосца «Потемкин» были переделаны в документальные фотографии русского военно-морского флота. Когда фильм показывали в Монте-Карло, Эйзенштейн получил письмо: «Я был одним из моряков, которых собирались расстрелять под брезентом». Меж тем эпизод с брезентом Эйзенштейн придумал, равно как и одесскую лестницу, на которой столько его соотечественников, как они утверждали, чудом избежали смерти. Легенда вытесняет реальность настолько, что ее можно потрогать пальцем, она превращается в булочку, заменяющую нам хлеб насущный. Бесполезно пытаться предугадать каким образом это произойдет. В какой части пищеварительного тракта. Что там будет раздуваться и что сморщиваться.» *** «Иные события, записанные в хронике… запутаны до непостижимости. Пока какой-нибудь Мишле или новый Дюма не опутают их своими вымыслами.» *** «Память пренебрегает правилами. Живые и мертвые действуют сообща на импровизированной сцене под роковым потоком света. Память ничем не связана. Она сочиняет. Совмещает. Перетасовывает. Она показывает нам спектакль, правдивость которого превосходит реализм, являющийся лишь плоским копированием нашей ограниченности. Память делает нас безграничными, ломает хронологию. Наши нейроны плывут точно водоросли в ночной реке и соприкасаются между собой без нашего участия и контроля. Мы живем жизнью, свободной от движения по рельсам. Просыпаемся – и снова включается контроль. Память раскладывает материал по местам. Теперь она выдает нам какие-нибудь обрывки, да и то с неохотой.» *** «Единственной моей политикой была политика дружбы. Весьма непростая программа для эпохи, в которую политика как таковая разделяет людей, и так, что можно прочесть где-нибудь, что Девятая симфония Бетховена – гимн коммунизму. Беречь дружеские связи считают соглашательством. Вас настоятельно зовут либо в один лагерь, либо в другой. От вас требуют порвать сердечные узы, если они тянутся к обеим сторонам баррикады. И все же мне кажется, что мы принадлежим к партии ищущих друг друга одиночеств.» *** «… И даже если мы сами не молоды, важно, чтобы молоды были наши произведения.»
Это не дневник в общепринятом смысле – скорее, сборник размышлений на разные темы, дающие представление о личности автора. Причём личности в срезе времени, как итог определённого отрезка жизни.
Если вы хотите почитать о распорядке дня режиссёра, съёмках фильмов, его личной жизни, друзьях, трансформации каких-то взглядов, об эпохе, в которую тот жил, в конце концов – вам точно не сюда. Здесь много философии и очень мало конкретики, облечённой в такие многословные, обтекаемые фразы, что порой казалось, будто я погружаюсь в транс. Встречаются интересные рассуждения, вызывающие читателя на ответные размышления. Но в моём случае они не привели ни к пересмотру собственных взглядов, ни к внесению каких-то корректировок в повседневность – и суть их очень быстро забылась.
Однако в процессе чтения книга была очень хороша своим медитативным воздействием. В качестве непродолжительного чтения после трудового дня или перед сном она почти бесценна.
Я не испытываю и тени стыда при лицезрении физического эксгибиционизма, но внутренний эксгибиционизм меня шокирует. Более того, он кажется мне весьма подозрительным.
Когда Морис сидел без гроша, он набивал карманы туалетной бумагой. Он её комкал, и тогда ему казалось, что в кармане у него хрустят тысячные купюры. «Это придаёт уверенности», – говорил он.
Я считаю, что противоречивость – основа повседневных исследований и что если быть честным, то собственные ошибки исправлять нельзя.
Родные, как правило, откладывают для нас некоторую сумму денег, которую нам не отдают, а берегут на тот случай, «если с нами что-то случится», но они забывают, что в этой жизни с нами всё время что-то случается, и мы ежеминутно умираем так же, как умрём однажды.
Смотреть на неудачи как на везение.
Разве наша эпоха не породила понятия «бегства», в то время как единственный способ убежать от себя – это дать себя завоевать?


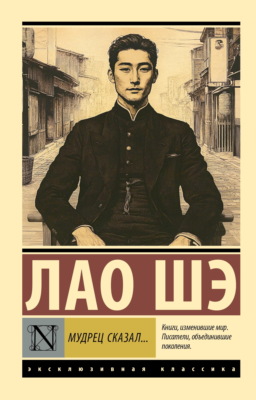

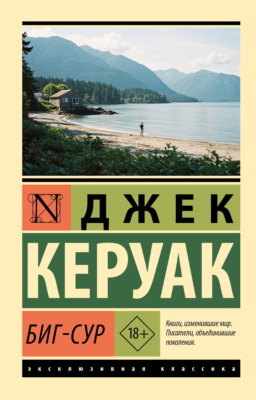
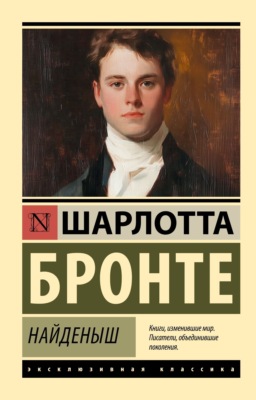
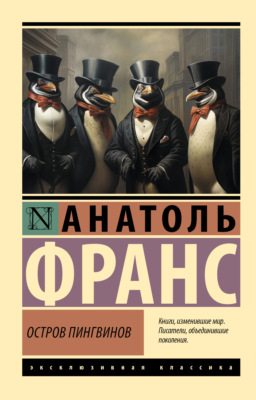
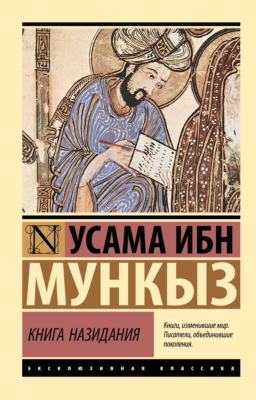
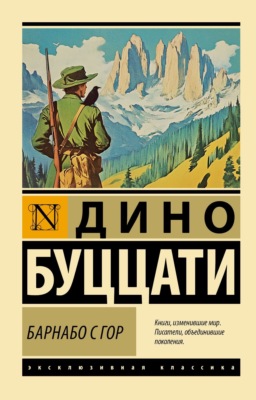

Bewertungen, 3 Bewertungen3