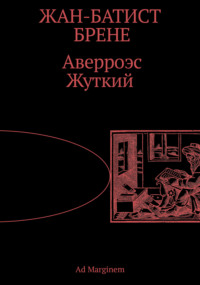Buch lesen: "Аверроэс Жуткий"
JEAN-BAPTISTE BRENET
Averroès l’inquiétant
© 2015, Société d’Édition Les Belles Lettres, Paris
© ООО «Ад Маргинем Пресс», 2025
* * *

К читателю
(пер. А. Шестакова)
…в атеизме есть автономное ego, но это ego, по необходимости конечное и осознающее свою конечность (смертное). В теизме же (ego) cogito возводится к некоему (id) cogitat (и – по сути – к некоему cogitor); так, я могу быть собой и мыслить себя как себя, только если я причастен бытию и мышлению некоего Я, которым сам не являюсь; ego есть то, что оно есть, – ego cogitans – не само по себе, а через (или в) Я, которое им не является; поскольку это Я по определению бесконечно, ego в теизме причастно бесконечности и может представлять себя таковым (бессмертным), но это ego не автономно.
Александр Кожев. Заметка о Гегеле и Хайдеггере
Зачем читать книгу «Аверроэс Жуткий» в России?
Чем книга, посвященная средневековому мыслителю Аверроэсу, представителю давно минувшей арабо-мусульманской культуры, может быть интересна русскоязычному читателю? И – не столь очевидный вопрос – какую пользу может принести погружение в критическую (мягко говоря) рецепцию аверроизма «латинской» и, шире, западной мыслью? Словом, как эта борьба, которую вновь и вновь подпитывали ненависть к мусульманскому философу и вытеснение его идей, которым не было конца в значительной части Европы, может касаться носителей русской культуры?
Разумеется, любой человек (и русскоязычный читатель не меньше любого другого) может испытывать желание расширить свой культурный кругозор, в частности в области философии. И с этой точки зрения книга Жан-Батиста Брене является подлинной жемчужиной: она не только впечатляет эрудицией, не только на многое проливает свет, но еще и читается как роман, даже как детектив, в котором «подозреваемый» – Аверроэс – оказывается обвинен в тяжком преступлении, ибо он якобы низводит человека ниже животного, к состоянию «стены». В чем ужас философии Аверроэса? В том, что она-де лишает человека самого драгоценного, что у него есть – его разумности, – и оставляет ее Богу; она, говоря метафорически, «выкалывает глаза» человеку, повергает его в безумие, отворяет его душу дьяволу и дочиста растворяет его в некоем cogitatur, где он оказывается никем и его Я теряет автономность.
Если так, то любой думающий человек должен заинтересоваться этой книгой – ведь она говорит не просто о латинских или арабских авторах, она говорит с человеком о человеке, о его роли, о его идентичности, о его фантазиях и страхах, о его отношении к Богу. Возможно. Но для русскоязычного читателя в ней есть еще одно важное достоинство. Должно быть, его не слишком удивит эта ненависть Запада к Аверроэсу, эта охота на него, это стремление представить его как врага, наводящего ужас на «леса Аравии». Возможно, он угадает за этой яростью «роковой спор Востока и Запада», в который вовлечен и сам. Не исключено, что таков главный побудительный мотив к тому, чтобы читать эту книгу в России, держа в уме мучительный вопрос: «С какой стороны в этой истории я?», а за ним и другой, отнюдь не лишенный оснований: «Не считает ли Запад и нас, русских, страшными „двойниками“ из тех, о которых в ней говорится?»
И наконец, нельзя не отметить более конкретное обстоятельство, которое наверняка удивит любого знатока русской религиозной философии Серебряного века. Дело в том, что труды Аверроэса, обозначившие вершину одного из направлений средневековой арабо-мусульманской мысли, явственно перекликаются с идеями того, кого можно считать отцом русской религиозной философии, – Владимира Соловьёва.
Вот что книга Жан-Батиста Брене может поведать русскому читателю о русской философии. Родство двух мыслителей тем более поразительно, что Соловьёв, насколько нам известно, о нем не подозревал. Иначе говоря, имело место не воспринятое им внешнее влияние, а самое что ни на есть подлинное родство, настолько глубокое, что в конце жизни Соловьёв пришел к тем самым идеям, о которых идет речь в этой книге. Судите сами.
Брене начинает с описания «преступления» обвиняемого: Аверроэс якобы совершил «ноэтическое унижение», то есть унизил разум. То есть еще до «космологического унижения» человечеству был нанесен ужасный удар – сомнение в принадлежности ему разума. Иначе говоря, до того как Коперник открыл, что Земля не является центром Вселенной, Аверроэс совершил другое открытие – что разум есть достояние не столько человека, сколько Бога, то есть что центр или, скорее, вершина человечности – интеллект – человеку не принадлежит. А что говорит Соловьёв (атакуя, между прочим, одно из великих имен «западной философии»)?
Следует провести далее и тем самым смирить горделивую аналогию, которую Кант проводил между Коперником и собою: он, Кант, как некий Коперник философии, показал, что земля эмпирической реальности, как зависимая планета, вращается около идеального солнца – познающего ума. Однако астрономия не остановилась на Копернике, и теперь мы знаем, что центральность солнца есть лишь относительная и что наше светило имеет свой настоящий центр где-то в бесконечном пространстве. Так же и кантовское солнце – познающий субъект – должно быть лишено не подобающего ему значения. Наше я, хотя бы трансцендентально раздвинутое, не может быть средоточием и положительною исходною точкой истинного познания… 1
Тезис Соловьёва вполне однозначен, и он живо напоминает идеи Аверроэса – даже выбором выражений. «Мысль, – пишет он, – самым актом своего объективного формулирования трансцендирует свою субъективную актуальность и императивно постулирует универсальность интеллекта» 2. В сердцевине Человека или, вернее, в его высшей точке, говорят латиняне (и, шире, люди Запада), должен иметь место его Разум; однако, если следовать мусульманскому философу или русскому религиозному мыслителю, нужно, наоборот, признать наличие «разума», который не принадлежит человеку напрямую. Нужно вывести человека вовне себя. Латиняне, опираясь на связь между «разумом» и «зрением», негодовали: «Аверроэс выколол нам глаза!» А Соловьёв? Мы должны по примеру Одиссея, пишет он, выколоть глаза тщеславной западной мысли (сравниваемой, конечно же, с Полифемом) и дать ей тот же ответ, что некогда дал он: мыслящий субъект – никто!
Тут житейское воззрение – то самое, для которого солнце встает с востока и в виде блестящей тарелочки передвигается по огромной голубой чаше, опрокинутой над землею, – это самоуверенное, но до чрезвычайности недостоверное воззрение, по-видимому исправленное, но на самом деле лишь запутанное и испорченное школьным догматизмом Декарта и Комп[ании], – опять выступает со своим излюбленным вопросом: «Да кто же этот субъект? Чтобы становиться разумом истины, нужно существовать, а существовать в собственном смысле значит быть субстанцией, – так не есть ли этот ваш субъект мыслящая субстанция или вещь Декарта, монада Лейбница, отдельная индивидуальная „душа“ старой спиритуалистической психологии? А если нет, то о ком же вы говорите? Кто этот субъект? Назовите его по имени!» На такое требование школьно-житейского воззрения, как на вопрос ослепленного циклопа Полифема, субъект философии должен, подобно хитроумному Одиссею, ответить так: «Кто я? Никто!» 3
Итак, Аверроэс и Соловьёв выкалывают глаза западной мысли. Что это значит? Для Соловьёва это значит отвергнуть декартовское cogito, которое он сравнивает со средневековым понятием без философского паспорта. Соловьёв (как и до него Аверроэс) не признаёт представления о субъекте, единолично владеющем своей мыслью:
Декартовский субъект мышления есть самозванец без философского паспорта. Он сидел некогда в смиренной келии схоластического монастыря, как некоторая entitas, quidditas или даже haecceitas. Несколько переодевшись, он вырвался оттуда, провозгласил cogito ergo sum и занял на время престол новой философии. Однако ни один из его приверженцев не мог толком объяснить, откуда взялся этот властитель дум и кто он такой. 4
Болезненный удар – тем более что он направлен на Декарта, едва ли не главного представителя западной мысли. И, помимо Декарта, на концепцию человеческого субъекта, якобы самостоятельно распоряжающегося мышлением. «Можно считать такие вещи, как l’existence personnelle, l’humanité, l’âme 5, за самый прекрасный товар, – восклицает Соловьёв, – но нельзя не видеть, что это сплошная контрабанда» 6.
Затем русский философ приводит тревожные случаи, когда роль мысли, причем мысли о себе, самосознания, выполняет безумие, – такие случаи, которые исключались Декартом, а вместе с ним – классической эпохой и – в некотором смысле – всей западной философией. Собственно говоря, это случаи «одержимости», показывающие, что человек насквозь проницаем для чуждой ему идентичности. И здесь вновь слышна перекличка с красноречивыми страницами книги Жан-Батиста Брене об Аверроэсе и его ненавистниках на средневековом Западе. Вот что пишет Соловьёв:
В одном специальном издании не так давно сообщалось, что во время эксперимента по гипнотизму, во Франции, одна скромных нравов молодая девица из рабочего класса под влиянием внушения принимала себя, судя по ее минам, жестам, словам и поступкам, сначала за пьяного пожарного, а потом за архиепископа Парижского. Не ручаясь, конечно, за полную достоверность именно этого факта, привожу его только как пример многих компетентно засвидетельствованных и занимающих науку случаев раздвоения, растроения и т. д. личности. Ясно, что такие факты, хотя бы их было гораздо меньше, в корне подрывают мнимую самодостоверность нашего личного самосознания или обычную уверенность в существенном, а не формальном, или феноменологическом только, тождестве нашего я. <…> Ведь безусловного и внешнего критерия для нормальности наших состояний или готового ручательства за отсутствие в данном случае гипноза или чего-нибудь подобного мы, философски говоря, допустить не можем. Да и житейски говоря, как спящий обыкновенно не знает, что он спит, и безотчетно считает себя бодрствующим или, точнее, не ставит вопроса о различии этих состояний, так и загипнотизированный субъект не отдает себе отчета в своем положении и чужие внушения прямо принимает за собственное самосознание. Следует заметить, что формальный, или феноменологический, субъект при этом вовсе не изменяется: я, мне, меня, мое остаются как ни в чем не бывало. Оно и неудивительно: субъекту сознания, как такому, нечего изменять в себе, так как в нем самом по себе ничего и не содержится, – это только форма, могущая с одинаковым удобством вмещать психический материал всякой индивидуальности – и модистки, и пожарного, и архиепископа. 7
Эти случаи приводятся Соловьёвым для того, чтобы поставить под сомнение и подвергнуть критике идею существования человеческого субъекта, распоряжающегося собственными мыслями и даже своей личной идентичностью, а значит – замкнутого на себе. Конечно, западный ум, привыкший к представлению о человеческой идентичности, позволяющей каждому быть ответственным субъектом, возмущает подобная деперсонализация, указывающая на общий разум, в котором индивид значит меньше, чем некий центр, разделяемый им со всеми остальными. Хуже того, ум – гордость человечества, с точки зрения европейской мысли, под пером русского и арабского мыслителей оказывается «отдельным разумом».
Однако для Соловьёва, как и для Аверроэса, которому, согласно выводам Жан-Батиста Брене, удивительным образом вторит ключевая идея русского философа, речь идет о расширении человеческого Я до абсолюта – богочеловечества. Или, другими словами, о «самопознании», в то же самое время являющемся «познанием истины», то есть о познании себя, которое приводит нас к знанию, нам внеположному, к знанию о себе как богочеловеке, человеке, способном быть Богом. Таков смысл и замысел всей философии Соловьёва: обожествить человечность. Этот замысел напоминает о себе в последних строках «Теоретической философии»:
Дельфийское изречение, если оно шло от доброй силы, а не от Пифона, не могло внушать познания к себе как эмпирического хаоса, или как логической отвлеченности; оно должно было указывать на субъекта в третьем смысле, как истинно философского; он же определяется не в своей материальной пестроте и не в своей формальной пустоте, а в своем безусловном содержании, как становящийся разум самой истины. Следовательно, познай самого себя значит познай истину. Γνῶθι σαυτόν – γνῶθι τὴν ἀλήθειαν. 8
Познавать самого себя не значит всматриваться в себя, пусть даже в свою человечность, – это значит быть «становящимся разумом истины» 9, а истина не что иное, как другое имя Христа, так что самопознание, по мысли Соловьёва, предполагает самозабвение ради слияния с Богом. О Соловьёве можно было бы с незначительными поправками сказать то, что Жан-Батист Брене пишет об Аверроэсе:
По Аверроэсу, мыслить – значит для человека «соединяться» с умопостигаемым через свои образы (из которых умопостигаемое выделяется) и тем самым формально соединяться с деятельным разумом, родителем действительного умопостигаемого. В каждом акте мысли, в каждом абстрагировании понятия внешняя исходно субстанция, каковой является деятельный разум, не остается чуждой мне как некий деятель вовне, а становится отчасти моей формой, то есть тем, что определяет, конституирует меня в самом моем бытии. И чем больше я мыслю, говорит Аверроэс, тем больше с нею соединяюсь; чем больше я мыслю, тем больше меня оформляет деятельный разум, так что движение познавательного усвоения приобретает безусловно онтологическое значение. Мыслитель не просто приумножает свое знание, свое когнитивное содержание – он движется к полной завершенности сущности, начальным состоянием которой является «материальный» разум, разум нашего детства. 10
Кем становится человек? Богочеловеком, говорит Соловьёв. И ту же мысль Брене вкладывает в уста Аверроэса:
Может сложиться впечатление, что человек Аверроэса очарован, когда над ним парит глаз-разум, по отношению к которому он – объект, игрушка. Справедливо, впрочем, и обратное: уподобляясь Первоначалу, человек перестает быть воображением, способным изменять тела, и становится благодаря своему разуму пластической силой, осуществителем бытия вещей: он становится философом – человекобогом, который чарует мир. 11
Так чем же может заинтересовать российских читателей эта книга об Аверроэсе? Тем, что она пронизана той же заботой, что владела человеком, которого называли «совестью России» и который открыл Россию философии, – возможно, величайшим русским мыслителем Владимиром Соловьёвым. И, как ни удивительно, благодаря этой книге становится понятно, что разлад между Россией и Западом разыгрывается в том числе и на философской территории, где у Соловьёва был выдающийся предшественник – Аверроэс Жуткий, которого Европа без устали отторгала от себя.
Рамбер Николя, французский философ, переводчик, автор книги «Совесть Сталина. Александр Кожев и русская философия»
Die kostenlose Leseprobe ist beendet.