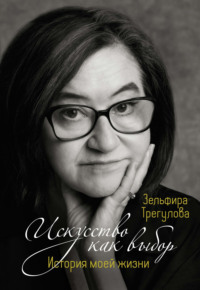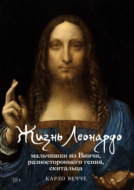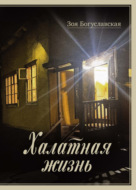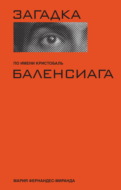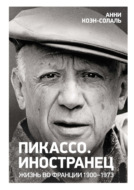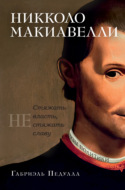Buch lesen: "Искусство как выбор. История моей жизни"
© Трегулова З.И., текст, фотографии, 2024
© Олег Зотов, фотографии, 2022
© Адыль Юсифов, фотография, 2024
© ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус», 2024
КоЛибри®
* * *
Начинаю эту книгу 9 марта 2023 года, через месяц после того, как пришлось уйти из Третьяковской галереи. Встречаясь с огромным количеством людей, давая многочисленные интервью, я часто слышала: «Вам бы начать писать мемуары…» Понятно, что в суете бесконечного множества каждодневных дел, когда пытаешься держать в руках и отследить ниточки всех проектов, событий, проблем, это было невозможно. Сейчас, пока не захлестнула еще волна новых проектов и новых проблемных вопросов, которые не отпускают даже ночью, – сажусь и пишу.
С чего начать – с детства, наверное, ведь в это время происходит так много важного, что определяет потом жизнь уже взрослого человека. С детства, которое прошло в Риге, куда мои родители приехали в 1945 году, сразу после войны. Мама – после работы на объединенной Алма-Атинской киностудии. В Алма-Ату она, выпускница находившегося в эвакуации в Самарканде Ленинградского института киноинженеров, попала по распределению, и сразу на площадку, где Эйзенштейн снимал «Ивана Грозного». Работала она тогда ассистентом звукооператора, это было потрясающее введение в профессию, впрочем, не без проблем – за нерасторопность однажды получила от великого режиссера по полной программе. Отец – после фронта. В сентябре 1941-го их, студентов пятого курса, досрочно выпустили из ВГИКа и отправили на передовую. Отец был военным кинооператором, снимал взятие Берлина, Потсдамскую конференцию и даже Курляндский котел, его кадры есть в знаменитом фильме «Неизвестная война» с Бертом Ланкастером, вышедшем в 1978 году.
Живший с начала 1920-х в Москве, отец был очень красивым и обаятельным человеком. Женился он первый раз еще до войны, но пока был на фронте, жена его бросила. Понятно было желание уехать из Москвы и начать жизнь сначала. Новую жизнь он начал в Риге, куда его отправили с задачей укрепить тамошнюю операторскую школу. Здесь он снова женился – на женщине старше себя, далеко не красавице, но с очень сильным характером. Примерно в это же время отец познакомился на киностудии с моей мамой.
Это было непростое время – мужчины, тем более с руками и ногами, были наперечет. Среди подруг-однокурсниц моей мамы только две вышли замуж сразу после войны, еще одна – уже после сорока лет, в начале шестидесятых, а остальные либо оставались старыми девами, либо рожали ребенка вне брака, для себя.
Моя мама очень любила моего отца, который стал первым и единственным мужчиной в ее жизни. Но он был женат, в браке было двое детей, и мама, понимая, что ей не выиграть в этой борьбе, не стала и начинать. Но решила, что у ее любви, несмотря ни на что, должно быть продолжение – я.
Я дорого ей досталась: во время войны мама работала на строительстве Чуйского канала. После тяжелых земляных работ внутри у нее все было смещено и надорвано, и ей пришлось шесть месяцев лежать в больнице на сохранении беременности.
Маме было 35 лет, когда я родилась. Тогда, в 1955 году, это очень рискованный возраст для первых родов – даже при нормальном общем здоровье. У подруги моей мамы поздние роды закончилось очень печально – ребенку повредили мозжечок, и девочка почти двадцать лет жила в лежачем состоянии при полном отсутствии интеллекта. А меня спас при рождении замечательный старенький врач, который щипцами вытащил 3,5-килограммового ребенка, и у меня все детские годы оставалась галочка на переносице, след от тех виртуозно наложенных щипцов.
* * *
Я помню себя с трех с половиной лет – зимой 1958 года у моей бабушки Афифя, маминой мамы, которая жила во Фрунзе, случился инсульт, и мы поехали на поезде к ней. Хорошо помню купе, долгую дорогу, верблюдов за окном вагона, еду, которую продавали на остановках поезда. Помню бабушку, в кровати, старую, с резкими чертами лица, показавшуюся очень страшной. Она протянула ко мне руки и позвала: «Внученька, подойди», а я испугалась, заплакала и спряталась за мамой. Сейчас я понимаю, как тяжело ей было – и принять меня, рожденную вне брака – в традиционной татарской семье это считалось бесчестьем, – и понять, что я ее испугалась, и знать, что другого раза не будет. Бабушки действительно не стало через полгода после нашего приезда, а тогда, в день нашей единственной встречи, меня, заплаканную, увезли к другим родственникам, где все старались меня успокоить, приласкать, вкусно накормить. Из Фрунзе мы поехали в Чолпон-Ата, там в большом доме с огромным садом жила мамина сестра, которая была замужем за директором одного из крупнейших в Советском Союзе конных заводов. Помню тепло этого дома, моих трех кузин, двор с курами и петухами, которых мне доверили кормить.
Хорошо помню Ригу своего раннего детства. Латвия была тогда чем-то вроде мини-заграницы: в самом конце 1950-х годов каждое утро дворники мыли с мыльной водой асфальт перед домом, молочница оставляла на лестнице перед коммунальной квартирой молоко и творог, а маму в магазине и на рынке называли «кундзе» – госпожа.
Лет до пяти в Риге я жила дома с нянями, а мама безостановочно работала – она была звукооператором на Рижской киностудии. Помню, как ждала ее вечерами на даче в Яундубулты, на Рижском взморье, где мы снимали комнату. Помню, как мне нравилось спать с ней в одной кровати. Мама любила меня беззаветно, я никогда больше в жизни не видела, чтобы мать так любила своего ребенка. И она для меня была таким центром вселенной, человеком, которому я безоговорочно верила.
Когда мне исполнилось пять лет, маме пришлось отдать меня в детский сад – уж очень сложно было с нянями. Одна из них потеряла меня во время прогулки, слава богу, что в трех кварталах от дома, и я, будучи четырех лет от роду, сама смогла дойти, подняться по лестнице на шестой этаж и достучаться до соседей. Другая няня умерла от диабета фактически у меня на глазах, когда мы жили на даче. Еще одна ушла, украв наши вещи, – все как по Райкину. Да и финансово это становилось все тяжелее.
Мне было очень трудно в детском саду, хотя воспитатели вроде были не грубые, но я остро ощущала оторванность от мамы, в особенности когда детский сад выезжал на лето на взморье, и я до последнего ждала, что мама успеет приехать с работы до начала отбоя и я смогу с ней перед сном увидеться.
А летом 1962 года началась эпопея со школой. Мама очень хотела, чтобы я поступила в лучшую школу города Риги, 40-ю среднюю с углубленным изучением английского языка. Я рано начала говорить, в пять лет свободно читала и знала много стихотворений наизусть, но была одна незадача – я сильно картавила. Хорошо помню визит в начале лета к директору школы Антонине Павловне Морейн, очень красивой даме, которая сама тестировала всех, кто хотел поступить в 40-ю среднюю. И она сказала маме, что обязательно примет меня, если к августу я избавлюсь от «фефекта фикции». Все лето мама каждую свободную минуту мучила меня: «скажи рыба», «скажи рак», и наконец в злости и ярости я выпалила правильно эти проклятые слова. В школу меня приняли. В одном классе со мной оказался мальчик, с которым меня всегда ставили в пару на занятиях танцами в детском саду. Мы сидели с ним за одной партой в первые годы учебы в школе и даже немного дружили домами – помню, что у него была невероятной красоты мама и отец моряк.
Со школой мне страшно повезло: все учителя были очень достойными и требовательными, уровень преподавания в ней – по советским меркам высочайший, а что касается языка, то английскую литературу и историю преподавала носительница языка, уроженка Канады, Эльвира Августовна Пулка. Мой очень хороший английский – из школы, я никогда после не учила этот язык, а владею им свободно и, главное, свободно на нем пишу. Это знание языка, помноженное на чтение в студенческие и аспирантские годы огромного количества литературы на английском, плюс активнейшая коммуникация с зарубежными музеями в 1990-е годы послужили поводом для разговоров среди наших зарубежных партнеров, что я в свое время окончила институт военных переводчиков и выполняю еще некие функции помимо искусствоведческих. Но нет, всего-то 40-я средняя школа города Риги. Было очень приятно лет десять-пятнадцать назад увидеться с директором школы Антониной Павловной и сказать ей спасибо за жесткость и последовательность, проявленные при моем поступлении в школу. Ей было уже за девяносто, но она до последних дней оставалась человеком с ясным умом и сильным характером. Нет нужды говорить, что, когда в 1968 году начался массовый отъезд учеников школы с родителями в Землю обетованную – а среди моих одноклассников было много выходцев из еврейских семей, – ее уволили.
Но конечно же, советская школа была советской школой, хотя, к чести наших педагогов, надо сказать, что они всегда приветствовали самостоятельный ход мысли и индивидуальное суждение. Я помню, что в параллельных классах было несколько талантливейших учеников, мысливших крайне неординарно – это проявлялось и в ответах на уроках, и в сочинениях – в особенности на свободную тему. Каждый из них стал в дальнейшем выдающимся специалистом в своей профессии.
Я, в отличие от большинства своих одноклассников, была ребенком застенчивым и зажатым. К тому же, по всей видимости, во мне был слишком силен комплекс отличницы. И я ею была – окончила школу с одной лишь четверкой по физике. Дружила я с девочкой Наташей, очень одаренной, высокой, красивой, существом вольным, с трудом вписывавшимся в обычные рамки. Она жила неподалеку, ее родители были врачами, старше моей мамы. Я очень часто бывала у них дома, в двух больших парадных комнатах в коммунальной квартире, где даже сохранился камин с двумя прекрасными обнаженными кариатидами – очень занятно было прикасаться к ним. У них был телевизор, а у нас – нет. Я делала вместе с Наташей уроки, ее родители кормили меня ужином. Моя мама часто работала допоздна, а потом забирала меня из этого гостеприимного дома. Только повзрослев, я узнала, что моя подруга была приемной дочерью этой четы врачей: у ее названого отца, еврея, жившего и до войны в Риге и призванного в сорок первом на фронт, погибли в концлагере первая жена и две дочери. Вспоминая его, я не могу сегодня себе представить, как он жил с этой трагедией в сердце, когда занимался своей приемной дочерью и мной. Моя подруга прошла сложный путь, не реализовав тех больших возможностей, которые в ней были заложены, но придя в состояние гармонии с самой собой и с миром.
Не хотела бы долго останавливаться на подробностях нашей жизни в коммунальной квартире, это был сущий ад, в особенности для нас с мамой, как неполной семьи. Сколько оскорблений в адрес моей чистюли-матери летело ей в спину. «Всех чистоплотных бар расстреляли в семнадцатом году!» – самое мягкое из того, что нам довелось услышать. Какими только бранными словами не называли меня! Все истории с плевками в кастрюли, с ваннами, в которых соседи держали картошку и солили огурцы, с бесконечными скандалами и рукоприкладством – все правда, и я очень хотела бы пожелать человеку, придумавшему коммунальные квартиры, вечно мучиться в коммуналке на том свете.
Но я все равно с ностальгией вспоминаю свое детство с мамой в коммуналке в огромном доходном доме эпохи югендстиля в двух комнатах: в бывшей столовой, с балконом, выходящим во двор, и в маленькой каморке, в которой прежде жила прислуга и которая стала моей комнатой. Я очень хорошо помню обстановку в доме в конце 1950-х годов – это была тяжелая черная или очень темная мебель. Вначале мама, решившая с началом оттепели сменить обстановку, стеклом соскребла со всей мебели темную тонировку, и мебель стала цвета натурального дерева. Но потом она решилась на более радикальный шаг – содрала со стен традиционные обои, оштукатурила их и пригласила с киностудии художника-оформителя, который покрасил каждую стену комнаты в свой цвет и расписал их от руки различными геометрическими орнаментами. Я только теперь понимаю, что мы жили внутри настоящей художественной инсталляции. Мама выбросила всю старую мебель и купила новую, стильную – изящные треугольные столики, удобные кресла, легкие книжные полки. На самом деле это было инстинктивное желание освобождения от прошлого, которое нужно было оторвать и отбросить от себя. Потом, когда я в 1987 году смотрела фильм «Покаяние», я вспомнила об этом и поразилась тому, как точно это стремление выражено в фильме Тенгиза Абуладзе.
Начало. Введение в искусство
В моей детской жизни были четыре дня, которые определили мое будущее, и это не просто слова. На ноябрьские праздники 1962 года – я училась тогда в первом классе – мама решила взять меня в организованную Рижской киностудией поездку в Ленинград – город, в котором она до войны училась. Всех поселили в гостинице далеко от центра, в комнатах, где стояло по несколько кроватей, а туалет был в коридоре. У меня прекрасная память на цифры – койко-место стоило 80 копеек. Посмотрев на это, мама решила отсоединиться от группы, и мы переехали в «Асторию». Номер в этой гостинице стоил 3 рубля 50 копеек в сутки, но боже мой, что это был тогда за номер! Оригинальная, начала ХХ века белая мебель в стиле Louis XVI с красной обивкой, большая кровать с альковом и красной же бархатной занавеской. И рукой подать до Эрмитажа! Этот музей, конечно, поразил тогда мое воображение – и интерьеры Зимнего дворца с отделкой малахитом, и античный отдел – а книга Куна «Легенды и мифы Древней Греции» уже была моей любимой, много раз перечитанной, и, конечно, залы с живописью старых мастеров. Помню свои первые впечатления от «Мадонны Литта» и «Мадонны Бенуа» Леонардо. «Мадонна Литта» понравилась мне тогда гораздо больше, а сегодня я, бывая в Эрмитаже, в первую очередь иду к «Мадонне Бенуа». И если в 1962 году перед обеими картинами стояло огромное количество соотечественников, то в последние годы, по крайней мере до пандемии, приходилось в буквальном смысле пробиваться через толпы фотографирующихся на фоне этих картин жителей Поднебесной. Очень хорошо помню свои впечатления от Рембрандта – я ведь видела «Данаю» еще до нападения на нее, и это невозможно забыть, именно поэтому, увидев через много лет картину после реставрации, я больше к ней не подхожу. И самое сильное впечатление – «Возвращение блудного сына», любимая картина моей мамы, в студенческие годы очень часто ходившей в Эрмитаж.
Это был ноябрь 1962 года, шли дожди, но мы все равно поехали с мамой в Царское Село. Группу, к которой мы присоединились, водила по дворцу и парку совершенно удивительная женщина-экскурсовод, с правильнейшей русской речью – такой сегодня не услышишь, и она, несмотря на моросящий дождь, смогла вдохнуть в меня, семилетнюю девочку, абсолютную любовь к этому месту, к Пушкину, к архитектуре и искусству в целом. Из купленных открыток и вырезанных из детских книжек фигурок я мастерила маленькие театры, где Царское Село становилось главным местом действия. Оставшиеся от сдачи после похода в продуктовый магазин копеечки тратила в расположенном рядом с домом газетном киоске на новые открытки с видами Ленинграда и пригородов. Мама очень любила Ленинград и очень хорошо его знала вместе со всеми пригородами – Павловском, Царским Селом, Ораниенбаумом.
Меня еще в детские годы поражало, какими образованными были и она, и все ее поколение. Ведь мама и ее братья – средний и младший – окончили школу в ауле Шахринау (ныне Шахринав) в Таджикистане, куда добралась с детьми бежавшая из Немцев Поволжья1 после ареста мужа в 1928 году моя бабушка Афифя. Мама знала наизусть всего «Евгения Онегина», вообще она была очень начитанна и, что меня немного смущало, громко пела дома оперные арии, которые слышала в молодости в Кировском театре. Объяснением ее исключительной образованности может служить и то, что мой дед Хасан все время говорил бабушке (которая, по рассказам мамы, не умела читать и писать), что дети должны получить хорошее образование, и то, что среди учителей в школе аула Шахринау было много когда-то столичных педагогов, сосланных либо по разным причинам бежавших вглубь Средней Азии, как и семья моей мамы. При этом из всех братьев и сестер высшее образование смогла получить только мама, предпоследний, шестой, ребенок, и то потому, что она окончила школу (с золотой медалью, кстати) в 1938-м, через два года после принятия Конституции 1936 года, снявшей запрет на получение высшего образования для детей врагов народа. Ее младший брат очень любил поэзию и посылал ей с фронта нарисованные от руки маленькие открытки, где цитировал по памяти «Шильонского узника» Байрона. Он погиб под Берлином 30 апреля 1945 года в возрасте девятнадцати лет. Похоронку получили уже после окончания войны, и моя бабушка – а младший сын был всеобщим любимцем и пошел на фронт добровольцем – настолько переживала эту потерю, что на пару лет помутилась рассудком.
В трех кварталах от нашего дома в Риге находился самый известный в городе магазин с книгами по искусству, он располагался по дороге в школу, куда я ходила пешком. Я часто останавливалась и смотрела на витрины, иногда мы с мамой туда заходили, и так в доме стали появляться книги о Ленинграде – я просто бредила этим городом – и об искусстве. Одной из первых и самых любимых стала книга «Юному художнику» с прекраснейшими текстами о самых важных произведениях мирового искусства и с черно-белыми репродукциями. Очень хорошо помню, как мы долго стояли в магазине и я уговаривала маму купить роскошный альбом по Эрмитажу. Стоил он по тем временам немало, а мы жили с мамой от зарплаты до зарплаты, иногда не укладываясь в эти рамки, и тогда мама занимала у коллег пятерку до получки или шла и срочно брала небольшое пособие, которое ей платили как матери-одиночке. Помню, как долго рассматривали книгу Нины Дмитриевой о Пикассо прежде, чем ее купить, как покупали «Театральную улицу» – мемуары балерины Тамары Карсавиной, – а я ведь еще мечтала стать балериной и регулярно ездила, с мамой или одна, в Старый город в здание Малой филармонии на занятия в один из лучших в Риге танцевальных ансамблей. Дома была маленькая балетная энциклопедия, были и открытки с фотографиями из балетных спектаклей, и для меня имена великих балерин – русских и зарубежных – Галины Улановой, Тамары Вячесловой, Майи Плисецкой, Ксении Рябинкиной, Иветт Шовире, Марго Фонтейн – не были пустым звуком, за каждым стояла история, и я перед зеркалом пыталась воспроизвести позиции или па, которые видела на тех фотографиях. В Риге был и есть замечательный Театр оперы и балета, в какой-то момент в XIX веке его дирижером был Рихард Вагнер, было прекрасное хореографическое училище с замечательной школой мужского танца – оттуда вышли великие танцовщики Михаил Барышников, Марис Лиепа, Александр Годунов. Мы часто ходили с мамой на балетные спектакли, именно там в детстве я впервые увидела и классические балеты – «Лебединое озеро», «Спящую красавицу», и постановки современных хореографов.
Итак, две детские страсти – балет и Ленинград. После первой поездки в этот удивительный город – а я ведь еще не сказала о впечатлении о самом Ленинграде, о его людях, которые тогда, в 1962 году, были совсем другими, чем десятилетиями позже, и поражали вежливостью, красотой речи – на мамин вопрос «Что тебе подарить на день рождения?» я неизменно отвечала – поездку в Ленинград. И мы стали ездить туда на 13 июня, мой день рождения.
Во второй приезд в этот город, попав на улицу Росси, остановились у дверей Вагановского училища. И это была драматическая дилемма – повернуть ручку и зайти или не расстраивать себя вполне возможным поражением. Я уже начинала быстро расти, набирать вес, из худенькой девочки превращаясь во вполне оформленного подростка, и в душе понимала, что балерины из меня не получится – в первую очередь по физическим параметрам. Ручку не повернули, и правильно сделали. Зато, находясь внутри этого уникального ансамбля, еще раз почувствовали совершенно особый масштаб и продуманность Петербурга-Петрограда-Ленинграда, когда здания вдоль улицы или площади не просто возводятся и создаются, а формируют и оформляют огромное пространство, и именно в этом состояла главная художественная задача для тех архитекторов, которые планировали и строили этот невероятный, «умышленный», пользуясь словами Достоевского, город. Город, который с первого раза зацепил меня и не отпускал долгие годы.
В этот второй приезд мы попали в Павловск, где в конце 1930-х некоторое время жила моя мама и потому знала и парк, и дворец наизусть. Ленинградский институт киноинженеров из-за нехватки общежитий в городе снимал там комнаты для студентов в дачных домах, и Павловск стал для мамы совершенно особенным местом. Стал он таким и для меня. На тот момент в Павловске были отреставрированы почти все главные интерьеры Воронихина и Бренны, и качество реставрационных работ было самым высоким – были еще живы удивительные мастера-реставраторы, да и попасть в стилистику неоклассицизма Павловского дворца задача менее сложная, чем воссоздать барочные интерьеры Царского Села. Павловск поразил своей меланхоличностью, камерностью и изысканностью. Ты попадал в какой-то иной мир, не имевший ничего общего с обыденной советской реальностью, да еще и в ее латвийском изводе с достаточной ограниченностью кругозора и возможностей.
А потом я попала в Москву. Мне было десять лет, когда Марат, муж моей кузины и тезки Зельфиры, уговорил маму отпустить меня с ним на лето к родственникам на Иссык-Куль с заездом в Москву. Там я жила у маминой студенческой подруги, жены художника Виктора Васина. Их дочь Саша училась в Суриковском институте, а за год до моего приезда к ним она была на практике в Риге, где мы с ней познакомились и, несмотря на почти десятилетнюю разницу в возрасте, подружились.
Именно Саша привела меня впервые в Третьяковскую галерею и в Пушкинский музей. В Третьяковке больше всего запомнился «Демон» Врубеля, а вот посещение Пушкинского стало настоящим открытием совершенно нового мира искусства. Саша – невероятно открытый и эмоциональный человек, она очень ярко и образно формулировала свои впечатления, и я полностью попала под обаяние ее личности и искусства импрессионистов и постимпрессионистов, которое она мне открывала. У меня правда как будто пелена спала с глаз – я увидела совсем другое искусство, не то, с которым была знакома прежде. Помню невероятно острое ощущение открытого цвета и пронизывающего все света. Было лето, солнечный день, и сквозь плафоны высоких залов основного здания Пушкинского музея, где тогда были представлены импрессионисты, проникал солнечный свет, который усиливал эффект импрессионистического сияния полотен французских художников. Я была ошеломлена, заворожена и в этот момент поняла: я хочу, чтобы это стало частью моей жизни. Я очень благодарна Саше Васиной – ее страсть и умение найти точные слова, чтобы донести всю полноту ощущений до десятилетней девочки, оказали решающее воздействие и определили то, чем я стала заниматься и чем занимаюсь всю жизнь.