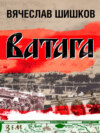Buch lesen: «Емельян Пугачев, т.2», Seite 61
4
Крестьянское восстание на правом берегу Волги подымалось во весь рост. Суд над лихими помещиками и жестокими приказчиками в барских вотчинах главным образом чинился самими крестьянами на мирских сходах.
Вот весьма картинное письмо земского человека, Афанасия Болотина. Он крепостной князя Долгорукова, помещика Саранского уезда, владельца села Царевщины. Афанасий Болотин доносил своему господину:
«Государю сиятельному князю Михайле Ивановичу. Государыне сиятельной княгине Анне Николаевне58.
При сем вашему сиятельству за известие представляю, что прошлого 12 июля город Казань от известного врага и государственного злодея Пугачева претерпел великое разорение. А с 24 июля месяца алаторские, саранские и пензенские дворяне обратились в бегство и чрез вотчину вашего сиятельства, чрез Царевщину, столько ретировалось, что не можно было исчислить. Дворяне валом валили трое суток. На которых смотря и вашего сиятельства приказчик Михайла Марецкий взял только намеренье отпустить свою хозяйку, которую и отпустил.
А 28 числа получили известие, что означенный тиран Пугачев был в Алаторе и многое множество казнил господ. А потом и в Саранск прибыл и тут господ и приказчиков, купцов, старост, выборных казнил, что и числа нет. И как в Саранске оная штурма производилась, то черный народ во всех жительствах своих господ ловил и возил в Саранск для смертной казни. А вашего сиятельства крестьяне в те дни имели поголовные сходы. И в то же число, как приказчица Варвара Ивановна Марецкая уехала, ее мужа в нощи крестьяне сковали. Узнав об этом в дороге, приказчица вернулась домой в Царевщину. Она пришла на сход и стояла пред крестьянами на коленях с сыном своим Дмитрием, и оба просили со слезами, чтоб из желез отца и мужа выпустили. Стояли они на коленях и предавались плачу и неутешному рыданию – женщина и отрок, мать и сын. И тут, смотря на них, никто из крестьян не мог удержаться от слез. И тут свирепствующие злодеи из крестьян вашего сиятельства не умилосердились и сказали, что-де «мужу твоему так и должно быть».
А на другой день сам приказчик Марецкий обще со своею хозяюшкой Варварой Ивановной и с Митенькой сошед скованный на сход и говорил крестьянам:
– Помилуйте! За что меня безвинно сковали? В чем я пред вами виноват?
А крестьяне стали навстречь ему доказывать:
– Как же ты не виноват, что ты на барской работе всех крестьян помучил.
А он им ответил:
– Не от меня это, а единственно по строгости его сиятельства законов.
Да притом же они, крестьяне, ему говорили:
– Самолично ты, Марецкий, мирских наших покосов по два года отдавал помещице Жердинской и за каждый год брал с нее по шестьдесят рублей в свою пользу.
На что приказчик Марецкий им сказал:
– Истинно напрасно! Ведь я отдавал покос с вашего же мирского приговора.
Они на то сказали:
– Мы отдавали покосы, убоясь тебя.
Он говорил:
– Чего вам меня бояться? Просили бы господина своего князя.
На что они сказали:
– Господин нас не послушал бы, он делал все по-твоему, что тебе было надобно. А ты нас завсегда бил и плетьми стегал.
И так приказчик продолжал просить крестьян, стоял со всей семьей на коленях, семья плакала, он говорил:
– Ну пусть я виноват во всем и делал где по воле, где по неволе... Простите меня, мои батюшки!
Они сказали:
– Нет тебе прощения.
С тем он, бедный, от них и пошел в свои покои и стал со всеми своими домашними прощаться. И сколько тут народу ни было, все стояли в превеликих слезах, кроме тех злодеев, которым надобно было везти его в Саранск.
Итак, пред вечером, схватили его, посадили в кибитку, повезли в Саранск на убиение. Домашние да и знакомые великому плачу предались.
И путем-дорогою, подъезжая к селу Исе, навстречу им злодейской толпы казаки. И говорят:
– Кого везете?
Они сказали:
– Приказчика.
Казаки говорят:
– Каков был?
Мужики сказали:
– Добрых сковавши не возят.
Казаки им говорят:
– Ну, бейте его.
Мужики сказали:
– Нет, помилуйте! Мы его бить не можем: мы так от него настращены, что и мертвого-то станем бояться.
Казаки прочь отъехали. При том случае на степи под селом Исою народу было множество: крестьяне везли всех своих господ на смертную казнь. А мужики вашего сиятельства, те, которые везли приказчика Марецкого, увидали, что невдалеке впереди них на дороге убивают помещиков: Авдотью Жердинскую, барина Слепцова с женою, барина Пересекина с женою, Авдотью Шильникову и прочих. Видя сие смертоубийство и слыша вопли, на всю степь испускаемые, мужики вашего сиятельства, их пятеро, очерствев сердцем и Господа Бога позабыв, стали убивать приказчика Марецкого: один вдоль боку обухом, другой – дубиною, а третий, подскоча, саблей срубил голову.
С тем оные злодеи и приехали ко двору в Царевщину и сказывают приказчице, нечаянной вдовухе Варваре Ивановне с сыном ее Митенькой, что-де муж твой Михайло Юрьич Марецкий приказал долго жить.
– А ты, приказчица, отдай нам деньги, сто двадцать рублей, которые муж твой взял себе с помещицы Жердинской за покосы. А не отдашь, и тебя отвезем.
Которые она и отдала. Да тут же Панька Кожинок взял шесть рублев за свои побои: когда был пойман с соломою вашего сиятельства, с четырьмя возами, за что и сечен кнутьями по приказу Марецкого. Яковом Пряхиным взято десять рублев за побои от того же приказчика Марецкого в бытности в старостах в 772 году. Васильем Дреминым, по оказавшемуся на нем начетному меду семнадцать рублев – взято им обратно.
Да тут же, по приезду, в ту ночь зачали приказчиковых овец бить и стряпать – ждали своего злодея и тирана Пугачева, называя его батюшкой Петром Федорычем, третьим императором. Причем и попам отдали приказ, чтоб всем собором встретили со святыми иконы.
А 31 числа июля ехал злодейской толпы казак, который признан вотчины полковника Бекетова Пензенского уезду крестьянин, который сослан был господином своим на собственные его, Бекетова, Каинские сибирские железные заводы. Который в тою злодейскую толпу и попался. И ехал он побывать к родственникам чрез ваше село Царевщину. Которого встретили с колокольным звоном, с образами, с хлебом и с солью и с вином. И тут оный казак, а имя его Костянтин, который им сказал, что в Пензу идет батюшка наш Петр Федорыч. И тут мужики, стоя, все собравши, большие и малые, перекрестились и от вашего сиятельства отложились. Да не только от вас, но и совсем – от милостивой нашей монархини Екатерины Алексеевны.
А первого числа августа прибыла ввечеру злодейская партия, составленная из дворовых людей сел Исы, Сытинки и Кошкарева и из разной сволочи. И тут господский дом и приказчиков дом весь ограблен. Которые злодеи тем же вечером и уехали.
Второго августа, то есть в субботу, еще прибыла злодейская толпа человек до шести, пограблен табун вашего сиятельства, да не столько теми разбойниками, сколько вашими крестьяны.
А третьего числа, то есть в воскресенье, прибыло еще злодеев человек до ста, которыми достальные стоялые жеребцы, и в погребах вареные конфеты, и в житницах самые тонкие холсты пограблено и поедено все без остатку. И письменные дела сколько разбойниками, вдвое того крестьянами – все подраны. Да тут же с фабрики ткачей, конюхов и человек семьдесят из крестьян набрали и погнали с собой, много пошло и по охоте.
А крестьяне как в житницах, так и в полях хлеб, а на скотных дворах скот и на пчельнике пчел – все разделили. И фабрика вся разорена фабричными ткачами, а тальки розданы тысяч до шести, все по крестьянам.
Сего августа 4 числа милостию Бога в город Пензу четыре эскадрона уланских прибыли, и за злодеем учинена погоня. А его сиятельство князь Голицын, сказывают, своею армиею его встретил, и, что Бог совершит, не знаемо. Наших два человека охотников убито. Слыша такие тревоги, крестьяне вашего сиятельства называют князя Голицына злодеем. А разделенную вашу рожь хотят с трусости все посеять на ваши десятины. А в гублении приказчика хотят приносить вашему сиятельству винность и говорят тако: «Наш князь милостив, простит». Вашего сиятельства всенижайший и покорнейший слуга рабски земской Афанасий Болотин, купец Елатомский. От 6 августа 1774 году».
Подобных донесений своим господам от их служащих и крепостных сохранилось довольно много.
Глава III
Долгополов действует. В царских чертогах. Смятение среди дворян
1
Улучив время, когда Пугачев прогуливался вдоль берега попутной речонки, ржевский купец Долгополов подошел, поклонился, молвил:
– Царь-батюшка, ваше величество. Приспела мне пора-времечко в Петербург возвращаться, наследнику престола, а вашему сынку богоданному отчет отдать. Сделайте Божескую милость, отпустите...
– Нет, Остафий Трифоныч, – возразил Пугачев, прищуриваясь с недоверием на прохиндея. – Ты еще мне сгодишься.
Пугачев не без основания опасался отпускать от себя такого выжигу: «Учнет там невесть чего плести». А тут, в обозе, он вовсе безопасен.
Долгополов, согнав с лица подобострастную улыбку, прикрякнул, сказал:
– Я бы вам, царь-государь, из Нижнего много пороху прислал. У меня там девять бочонков зелья-то оставлено у купца Терентьева в укрытии, у дружка. В подвалах его каменных. А чтобы незнатно было, что это порох, я сверху-то толченым сахаром засыпал. Под видом сахара и подсунул купцу-то.
– Коли не врешь, так правда...
– Как это можно, ваше величество, чтоб государю облыжно говорить!.. – воскликнул Долгополов, всплеснув руками и отступив на шаг. – В молодости не вирал, а уж под старость-то...
– Ладно, пущу, – подумав, ответил Пугачев, – только не прогневайся: своего человека с тобой отправлю...
– Да хоть двух! Еще мне лучше, сподручней ехать будет. Твоему доверенному и тот порох передам с рук на руки.
Дня через два, тихим летним вечером, Долгополов выехал из стана Пугачева. Провожатый, илецкий казак Осколкин, проехал с ним не больше полсотни верст, затем в попутном селе напился и отстал.
Долгополов ехал теперь один, с возницей, лошадей получал по выданной пугачевской Военной коллегией подорожной. Настроение его было приподнятое, радостное. Он словно из тюрьмы сбежал, и вот перед ним снова воля. Да будь им неладно, этим головорезам, мало ли он, Долгополов, страху с ними претерпел; сегодня стычка, завтра стычка, еще слава Богу, что в плен не угодил. Они, разбойники, чуть что – так и по коням, а он на коне, как баран на корове. Нет, довольно, с него хватит...
Хоть он и мало покорыстовался от Пугачева – самозванец, чтоб его лихоманка затрясла, прижимист, лют, согруби ему, он живо – камень на шею да в воду, но лишь бы Долгополову во всем благополучии до Питера добраться – у него на уме дельце затеяно великое... то есть такое дельце, что Долгополов, ежели праведный Господь благословит, генералом будет и по колено в золоте учнет ходить... «Подай, подай, Господи! А я уж, грешный раб твой, каменную часовню всеблагому имени твоему сгрохаю во Ржеве, в триста пудов колокол повешу! Трубы обо мне трубить будут... Сама матушка Екатерина деревеньку с мужиками отпишет мне, к ручке своей допустит... Знай, воевода Таракан, знай, треклятый обидчик Твердозадов, знай, вся Россиюшка, кто есть Остафий Долгополов!»
Невзирая на тревожное время, проведенное Долгополовым среди пугачевцев, прожорливый купец порядочно-таки отъелся, подобрел, налился на степном воздухе здоровьем, из заморыша в порядочных годках превратился он в крепкого и совсем будто бы не старого человека. Но плутовские глаза его те же, и козлиная бороденка та же.
Пугачевские разъезды на дороге, мужицкие пикеты при околицах восставших деревень, осматривая документы за государственной печатью, относились к нему, как к царскому посланцу, предупредительно. Крестьяне наперебой тащили его в свои избы, топили баню, кормили его, делясь последним, расспрашивали про «батюшку» – все ли здоров наш свет, да много ли скопил возле себя мужиковской силушки, да куда намерен путь держать?
И день, и два, и три едет Остафий Долгополов во всем благополучии, сытый, веселый, любуется природой: лесами, полями, рощами, речонками, а вот на горе вдали белеет благолепного вида Божий храм, глядят на Долгополова обширные барские хоромы. И только он шапку сдернул, чтоб перекреститься на святую церковь, – шасть к нему из-за кустов разъезд.
– Кажи документы, проезжающий! – бросил с коня усатый малый в лапоточках, за поясом пистолет, у бедра сабля, сам слегка подвыпивши.
– С нашим превеликим удовольствием, – проговорил купец и, вынув из шапки подорожную, подал ее усачу в лаптях.
Тот повертел ее пред глазами, поколупал сургучную печать, спросил:
– Куда правишься?
– А еду я к самому наследнику престола Павлу Петровичу в столичный град Санкт-Петербург. Да ты, служба, прочти в бумаге-то...
– Кто послал тебя?
– А послал меня сам государь Петр Федорыч...
– Ребята, хватай его! – неожиданно крикнул усатый малый.
Долгополов не больно-то испугался этого крика, только весь злобой вспыхнул.
– Как смеешь, пьяная твоя рожа, на меня, государева слугу, орать?! – в свою очередь закричал он на усача в лаптях. – Я, мотри, в больших чинах у государя-то хожу. Мотри, живо на осине закачаешься!..
Усач захохотал и крикнул:
– Это у какого такого государя? Какой еще государь нашелся?
– Петр Федорыч! Великий император!..
– Ванька! Сигай к нему в тарантас да заворачивай к селу, – приказал усач другому парню.
Долгополов смутился, не на шутку перетрусил. Да уж полно, не от казенного ли какого отряда дураки это посланы – подозрительных людей хватать?
А усач в лаптях, держась за пистолет, сказал Долгополову:
– Чегой-то шибко много развелось этих самых Петров Федорычей. А истинный царь-батюшка, взаправдашний Петр Федорыч государь, завсегда с нами ходит. Видишь барский дом? – сердито ткнул он нагайкой по направлению к селу. – Вот тамотка он, отец наш, жительство имеет. Он тебя, супротивника, спросит, кто ты такой есть. Поехали!
Долгополов кричал и ругался, выходил из себя, потрясал кулаками. Его горбоносые лошаденки, нахохлившись, неохотно свернули с большака на проселок, усач в лаптях припугнул их нагайкой да заодно вытянул ею и купца.
Остафий Трифоныч вскоре был втащен за шиворот по каменным ступеням барского дома с белыми колоннами к самому крыльцу. Из распахнутых окон доносился шумный говор, бряканье посуды, пьяные выкрики, раскатистый хохот, запьянцовская разухабистая песня и грузный топот плясунов. Видимо, шла там гульба. Долгополова крепко держали за руки. Он все еще продолжал кричать, буйно сопротивлялся.
Вокруг дома подремывало несколько заседланных лошадей, под кустами в разных позах валялись спящие крестьяне, в изголовьях одного из них сидел мальчишка лет пяти, он теребил храпевшего человека за бороду и сквозь горькие слезы тянул: «Да тят-а-а, вста-ва-ай, мамынька кличет». Угасший костер, палки, вилы, два опорожненных штофа брошены в истоптанную траву, два старика сидят, согнувшись, на пеньках, курят трубки, морщинистые лица их скорбны. Грязный, весь в репьях, вонючий козел, привстав на дыбки, тянется губами к свежим листкам молодой липы.
Вдруг с треском распахнулась дверь, и на крыльцо вылез из барского дома присадистый мужик в домотканом зипунишке, за опояской – топор, в руках – жирная селедка, головка зеленого лука. Пошевеливая скулами и коричневой всклокоченной бородой, он неспешно прожевывал пищу. Нахмурив брови и окинув шумевшего Долгополова недружелюбным взором опухших глаз, он сипло спросил:
– Чего, так твою, орешь?
– Вот, пымали птичку-невеличку. Сказывает, от какого-то Петра Федорыча едет, от государя, ха-ха-ха!
– Поди, доложь батюшке, – пропойным голосом сказал мужик; оторвав зубами кусок селедки, он поправил топор за опояской и, пошатываясь, стал спускаться в палисадник к зеленым кустикам.
И вот, окруженный пьяными гуляками, появился во всей славе «сам царь-государь Петр Федорыч Третий».
Долгополов разинул рот, вытаращил изумленные очи, попятился. Пред ним стоял, подбоченившись, толстобрюхий детина, бывший поставщик «высочайшего двора» в Петербурге, разоренный Барышниковым мясник Хряпов. С тех пор, как Долгополов встретился с ним в питерском трактире, в день похорон Петра III, прошло двенадцать лет, однако Долгополов сразу же узнал когда-то знаменитого по Питеру мясоторговца. Боже мой, Боже мой, что же это деется на белом свете!
Долгополов не был осведомлен про то, что мясник Хряпов, вышедший на оброк крепостной крестьянин, еще в молодых годах перебрался в столицу и быстро там разбогател, затем, три года тому, уже разорившийся, появился в Москве на чумном бунте, в пьяном виде ввязался в драку с подавлявшим мятеж воинским отрядом, вместе с прочими попал в тюрьму, где и просидел около двух лет. Не мог знать Долгополов и того, что мясник Хряпов, оплакивая свою горькую судьбу, возненавидел сильных мира сего: вельмож, помещиков, богатых купцов и всякое начальство, что, прослышав о мятежной заварухе среди казаков на вольном Яике, он прошлой зимой пробирался к себе на родину, в деревню. Он полагал набрать там ватагу храбрых и двинуться на помощь к «батюшке». Он понимал, что на Яике под Оренбургом великие дела вершит не царь, а самозванец, но Хряпова это нимало не смущало, царь ли, не царь ли, только бы разумный да отчаянный человек был «батюшка». Он так и говорил тогда: «Пойду служить умному разбойничку».
Хряпов стоял перед Долгополовым, весь налитый жиром, весь красный, тяжело пыхтящий, под волглыми глазами морщинистые, дряблые мешки, на переносице кровавая подсохшая ссадина, к неопрятной, подмоченной водкой бороде пристали хлебные крошки, рыбьи косточки. Чрез оба плеча, по казакину с позументами, две генеральские ленты, на груди военные ордена и сияющие звезды. Густые волосы, смазанные маслом и причесанные на прямой пробор, спускались к ушам, как крыша. Он был изрядно выпивши. Его поддерживали под локотки два низкорослых пьяных старичка с подгибавшимися в коленках ногами. Старички похохатывали, утирали ладонями мокрые рты, притопывали в пол пятками и, потешно избоченясь, гнусили:
– С его величеством гуляем, с самим батюшкой!
Из-за плеч широкотелого Хряпова, сверкая на Долгополова глазами, выглядывали хмурые бородачи с малоприятными лицами.
– Вались в ноги, волчья сыть! – крикнул Хряпов на купца. – Сам император пред тобой!
Но Долгополов, состроив самую лисью, самую преданную физиономию, заулыбался во все лицо и, выбросив вперед руки, елейным голосом воскликнул:
– Здрав будь, кормилец наш, Нил Иваныч, батюшка! Вот где приспело встретиться с тобой!
Хряпов тряхнул локтями, брюхом, всем корпусом – потешные старички отскочили прочь – и, выкатив глаза, гаркнул на Долгополова:
– Ах ты, крамольник, песий сын! Какой я тебе Нил Иваныч?! Вались в землю, а то сказню!.. – И он ударил кулаком в ладонь, кресты и звезды на его груди зазвенели.
А бородачи, высунувшись из-за его спины, принялись засучивать рукава своих сермяг.
– За что же меня хочешь сказнить-то, Нил Иваныч? – собрав морщинки на вспотевшем лбу, жалобно проговорил Долгополов. – Ежели ты у нашего государя в великих генералах ходишь, так ведь и я-то у батюшки не обсевок в поле... Ведь я, мотри, послан его величеством...
– Замолчь! – топнул Хряпов, заплывшее жиром лицо его стало зверским, пугающим. – Повешу!
– Побойся ты Бога, Нил Иваныч... – молитвенно складывая руки, пролепетал Долгополов. – Вот у меня и ярлык от государя императора... Он, пресветлый царь, с воинством своим сюда шествует. А меня передом послал... Мотри, худо будет...
Обалделые глаза Хряпова вылезали из орбит, на припухших губах появилась пена, он надул щеки, чрезмерно тяжко задышал и не своим голосом гаркнул:
– Вздернуть! Раз он, сволочь, меня государем императором не признает – вздернуть!
Тут выскочил из кустов страховидный дядя с топором за поясом и, поддергивая штаны, шустро поднялся по ступенькам на крыльцо.
– Кого вздернуть-то? Пошто вздергивать-то? Дозвольте, царь-государь, я этому старому петуху, растак его, голову топором оттяпаю... – и мужик выхватил остро отточенный топор.
Остафий Долгополов, видя свой последний час, рухнул Хряпову в ноги, пронзительно завопил:
– Винюсь, винюсь! Я все наврал, батюшка! А теперича вспомнил: вы есть истинный государь Петр Федорыч Третий, ведь я у вас в Ранбове во дворце бывал, видывал вас самолично... Ребята! Не сумневайтесь, это истинный государь наш...
Пьяный Хряпов ткнул его ногой в сафьяновом желтом сапоге и, что-то пробурчав, повернулся обратно в дом.
В прах поверженного Долгополова схватил за шиворот страховидный дядя с топором:
– Вставай, козья борода! Андрюшка, Васька, ведите его под ворота к петле.
Долгополов стал вырываться, стал кричать истошным голосом:
– Братцы! Что же это... Сударики! Я вам денег... Ведь я купец из Ржева-Володимирова...
– Иди, не упирайся, так твою! Нам от батюшки даден приказ купцов не миловать...
– Караул! Караул! – жутко завизжал купец, увидев висевшие под воротами трупы. – Мужики, не озоруйте! Паспорт у меня... Денег дам...
– Молись Богу, черная твоя душа... – прохрипел дядя с топором. – Андрюха, спущай веревку!
– Господи! Прими дух мой с миром, – молитвенно воскликнул Долгополов и устремил глаза к небу. – А вы, дурачье сиволапое, не царю, а вору служите, мяснику Хряпову...
И когда петля уже была накинута на шею Долгополову, вдруг где-то за околицей ударили один за другим три выстрела, рассыпалась дробь барабана, загремело «ура»...
Мужики, их человек пятнадцать, бросились от Долгополова врассыпную. В барском доме и около поднялась суматоха, послышались крикливые, перепуганные голоса:
– Втикай, братцы!.. Догуля-я-лись! Солдатня пришла! Пропали! Батюшку-то береги!
– Где батюшка? Вавила! Митька!
– Тройку, тройку царскую сюда!..
– Пали из пушки!.. Ой, Господи Христе!
От сильного волнения сердце Долгополова остановилось. Он закрыл глаза и повалился наземь.
Кругом все крутилось как в вихре. С колокольни неслись заполошные звуки набата. Взад-вперед бестолково скакали на клячах, неумело встряхивая локтями, трезвые и пьяные мужики. Мясник Хряпов, сорвав с груди кресты и звезды, охая и кряхтя, залезал с какой-то бабой в барскую пролетку.
– Всем бекетчикам головы долой! – свирепо орал он, стреляя из пистолета в воздух. – Так-то они караулят императора!
– Окружа-а-ють! Казаки окружають, солдатня! – галдели с колокольни.
– Огородами, огородами!.. В лесок беги! – будоражили воздух раздернутые голоса.
Десятками, сотнями устремлялись спасаться в ближайший лесок кой-как вооруженные люди из хряповской ватаги. Стрельба и воинственные крики раздавались со всех сторон.
Слепая черная собака, сидя на перекрестке и задрав вверх морду, жутко выла. Стайками носились возле крыш быстрые стрижи, со свистом рассекая тугими крыльями вечерний тихий воздух.
Длительный обморок Долгополова кончился. Кончилась и уличная суматоха. Наступили прохладные сумерки. Долгополов не сразу пришел в память. Он то ощущал себя при смертном часе, то ему представлялось, что он уже по ту сторону бытия и ожидает, когда ангел смерти поведет его душу к престолу Бога... Но вот баба в сарафане протянула ему ковш студеной воды, он с жадностью половину ковша выпил, другую половину, согнувшись, вылил на полуплешивую свою голову, чтобы освежить горящий мозг и привести в порядок взбудораженные мысли.
И, быть может, впервые в жизни его охватило высокое человеческое чувство благодарности. Он взглянул в лицо стоявшего перед ним офицера, вмиг залился слезами, повалился ему в ноги.
– Ваше благородие! Спа-спа-спаситель мой!.. От неминуемой смерти избавили меня, – выскуливал Долгополов, заикаясь, и лицо его как-то просветлело, и слезы капали из глаз его.
– Кто вы такой и как очутились здесь? – спросил загорелый, со строгим взглядом офицер.
От этого отрезвляющего голоса все благостное с души Долгополова разом схлынуло. Он снова сделался самим собой, как будто и не бывал в зубах у смерти. Прихлюпывая, пофыркивая носом и вытирая голову холщовым фартуком, поданным ему бабой, он, спасая себя, начал выкручиваться пред офицером, стал врать ему о своем несчастном положении, о том, как он скитался по разным городам в поисках беспутного своего сына, уехавшего с товарами еще по весне из Ржева-города и невесть куда скрывшегося: то ли вьюнош спился с кругу, то ли угодил в лапы богомерзкого разбойника Емельки Пугачева.
– А имеется ли у вас паспорт и отпускной билет на проезд? – сухо спросил офицер.
– В наличности, ваше благородие, в наличности. – Долгополов достал из штанов складень, отогнул зубами лезвие ножа и стал им вспарывать подкладку казакина, где были зашиты документы.
К офицеру со всех сторон солдаты подводили связанных крестьян, молодых и старых, испугавшихся и наглых, трезвых и подвыпивших. Вытаскивали с чердака и подвалов господского дома, подводили долговолосых лохматых людей, беглых монахов, дьячков или бородатых нищебродов, одетых кто во что горазд: в барские халаты, в женские кружевные капоты, в парчовые душегреи, в рваные пестрядинные портки и растоптанные лаптишки – какой-то святочный потешный маскарад. Привели трех кричащих, в голос плачущих и пьяных баб в кисейных и муслиновых платьях, в кокошниках с самоцветными каменьями. Кого-кого тут не было, и больше всего – господских челядинцев, дворни. Но главный зачинщик, мясник Хряпов, умчался на тройке вороных.
Невообразимый гвалт стоял в воздухе: одни молили о пощаде, другие клялись в верности матушке Екатерине, третьи, наиболее хмельные, ругали солдат и офицеров, горланили песни, орали: «Не робей, братцы! Сей минут батюшка вернется с воинством своим... Ур-ра третьему ампиратору!»
Поднялся ветер, зашумела листва, пыль коричневым вьюном закрутилась на дороге. Но вот, разрывая все звуки, резко затрубила медная труба горниста. Командирский строгий голос офицера приказал:
– Всех на конюшню! Плетей! Палок! Да виселицу изладьте.
И сразу стало тихо. Лишь ветер шуршал листвой да пронзал наступившие сумерки такой заунывный, такой пугающий вой собаки.