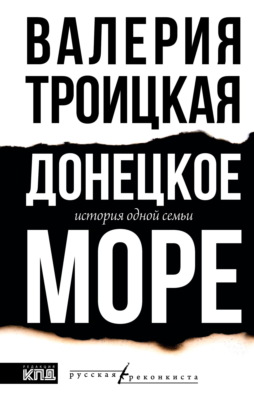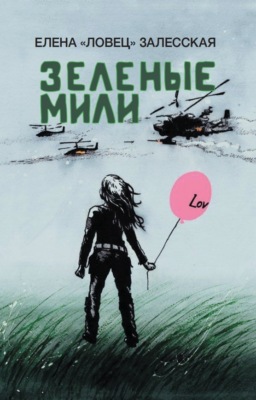Buch lesen: "Земля незнаемая. Сборник"
Земля незнаемая
О Русская земле! Уже за шеломянемъ еси!
Зима была малоснежной. Злая поземка вилась по невысоким вылизанным сугробам, срывала фонтанчики колючего снега, раскачивала сухие травы. Маленькое негреющее солнце лениво всползало на ярко-голубой небосклон. Морозный ветер жестоко стискивал лицо, от него слипалось в носу и перехватывало дыхание.
Трое взлетели на гребень невысокого холма, спешились, прячась за молодым сосняком. В распадке лежала деревня – домишки из кривых дубовых бревен, очеретяные крыши, скудные дымки из волоковых окошек.
Один из троицы, совсем молодой еще, скуластый, черноглазый с остренькой, тщательно подбритой бородкой, сдвинул на затылок рысий треух, подобрал полы стеганого дорогого халата и полез в неглубокий сугроб. Осторожно выглянул из-за лапника и тут же возвратился. Тщательно сбил снег с войлочных расшитых сапог, повернул к спутникам смуглое лицо с красновато-коричневыми плитами здорового румянца, белозубо ухмыльнулся:
– Айда подразним урусов – и легко взлетел в седло аргамака.
У колодца всадники остановились и, не спешиваясь, стали задирать баб, набиравших воду. Молодой, маслено блестя глазами, дразнил крепкую голубоглазую молодку в расшитом кожухе:
– Эй, девка, поехали со мной. Любить тебя буду, золотом обвешаю, мясо каждый день кушать станешь, любимой женой тебя сделаю!
Та сердито сплюнула:
– Тьфу ты, нечисть, басурменин треклятый!
Подхватила ведра, но не ушла, встала в сторонке – разбирало любопытство.
Вылезшие из избенок мужики задумчиво смотрели на всадников, тихонько переговаривались.
Один из них могучий, кряжистый с лицом словно дубовое корье, прищурил остренькие глазки:
– А знатная у кипчака сабля – вся в серебре. Да и кони на загляденье, вот бы продуванить. Филипп, ты сходил бы за рогатинами.
Филипп, здоровенный нескладный дылда, с красной, словно обваренной рожей и торчащими из-под пояркового колпака патлами, просипел:
– Сходить недолго, да ведь они ждать не станут – перебьют как куропаток.
– Ништо, мороз здоровый, тетивы мигом полопаются.
– Эх ты, темнота. Сразу видно – пришлый. Они их в бараньем сале вываривают, никакой мороз не страшен. Да и у князя нашего семь пятков на неделе, да все разные. То воюет с ними, то братается. Намедни опять двух половчанок в наложницы привез. Тронь этих, завтра шкуру с тебя спустят. Давно ли Рюрик Киевский у Долобска нашему княженьке сала за шкуру залил, едва со своим дружком поганым Кончаком ноги унес.
Маленький мужичонка, утерев нос рукавом, проговорил с опаской:
– Вы бы, братья, того… Поосторожней. Дойдут до тиуна такие речи…
Филипп пренебрежительно глянул на него:
– Кроме тебя и донести некому. И прозвище у тебя верное “Болтай ногами”, так и смотришь как бы сбегать да нашептать на кого. Гляди, загнем салазки, света белого не взвидишь.
Половцы, заподозрив неладное, тронули коней. Молодой вытянул плетью деревенского дурачка Агашку, торчавшего посреди дороги, обернулся, крикнул:
– Травка подрастет – приеду за тобой, девка. Жди!
Захохотав, гикнул и троица мгновенно исчезла в сполохах бешеной поземки.
Тогда въступи Игорь князь въ злат стремень
И поеха по чистому полю
Солнце ему тьмою путь заступаше;
Нощь стонуще ему грозою птичь убуди,
Свист зверинъ вста…
Дубрава тонула в предрассветном сумраке. В верхушках деревьев осторожно пролетел ветерок, залопотали листья. Угасающие угли костра спрятались под пушистым пеплом, остро потянуло смолистым дымком. Высоко в ветвях неожиданно громко застонала горлинка. Часовой, опираясь на копье, охваченный тяжкой дремой, вздрогнул испуганно, поспешно протер глаза. На покатом лугу паслись стреноженные кони, коноводы, негромко переговариваясь, грелись кипяточком. Кто-то, со сна взлохмаченный, выбрался из груды спавших вповалку, спотыкаясь, поплелся за кусты, присел на корточки.
Под обвисшими сводами отволгшего за ночь шатра было душно и сыро. Человек, лежавший на узком топчане, похрапывал, потом скрежетнул зубами, застонал – тяжко, мучительно. Дернулся, просыпаясь.
Отодвинув полог, в шатер бесшумно проскользнул старый гридень Демьян, тронул лежавшего за плечо:
– Утро, княже.
Откинув овчину князь тяжело поднялся с походного ложа, покряхтывая намотал портянки. Демьян помог натянуть мягкие козловые сапоги. Накинул алое корзно, вышел. Втянул ноздрями влажный воздух.
Князь спал дурно, мучали тяжелые предчувствия. В голове шумело после вчерашней попойки больше напоминавшей тризну. В гневе сжал кулаки, припомнив хмурые лица ближних бояр, племянника Святослава Ольговича, осторожные уклончивые речи черниговца Беловолода Просовича.
Демьян слил из кожаного ведра, тихо проговорил:
– Княже, сотник Трибор к твоей милости.
К князю шагнул рослый сотник из дружины брата Всеволода, ходивший на разведку брода. Холщовые порты и рубаха перепачканы илом и тиной. Небрежно махнул поклон, дерзко щуря светлые разбойничьи глаза, белозубо осклабился:
– Есть добрый брод, княже. К вечеру доберемся.
Сотник посинел от утреннего холодка, его заметно трясло. Небось весь Оскол излазил. Игорь поморщился – распустил брательник любимчика. Вояка лихой, слов нет, но не по чину дерзок. Кинул Демьяну:
– Чару!
Трибор одним махом осушил чару крепчайшего меда – разгладилось лицо, повлажнели глаза.
Игорь, вздохнув, сказал:
– Ступай, поднимай сотню.
Трибор от избытка молодости, силы, подогретый медом, закинулся, заорал лешачьим голосом:
– Поднимайся, волчья сыть, мыши причинные места поотгрызают!
Вылезший из шатра воевода Ольстин Олексич, тронув вислый ус, проворчал:
– Вишь ты, разорался, шпынь ненадобный.
Через час, тихо снявшись, дружины вышли в путь. Позвякивали сбруи, мягко стучали копыта. Впереди был Оскол.
А мои ти куряне сведоми кмети:
под трубами повити,
под шеломы взлелеяни,
конец копия вскормлени,
пути имь ведоми,
яругы имь знаеми,
луци у них напряжени,
тули отворени,
сабли изострени…
Дружины переправлялись по песчаному перекату. Брод, вначале мелкий, размесили, уже кое-где подплывали кони.
Шум, гам, матерная ругань. Дружинники цеплялись за натянутые с берега на берег вервия, погружались с головой, отплевывались, тащили в поводу коней. Надсаживались десятники, лупили нагайками неловких.
Вои на плечах тащили снаряжение, мелькали голыми задницами, выбираясь на низкий илистый берег. В стороне, на тщательно оберегаемой мелкоте, здоровенные мускулистые куряне бережно передавали по цепочке тяжелые конские тороки, плотно упакованные в тюки шатры, воеводские и княжеские укладки и прочую обозную дребедень.
Князь Игорь, уже на том берегу, перекосив жесткое высокомерное лицо, нервно ходил взад-вперед, постегивая ивовым прутиком по голенищам сапог.
Всеволод, небрежно кинув на траву корзно, безмятежно развалился на нем. Сын Владимир и племянник Святослав Рыльский угрюмо переговаривались, усевшись на корневище старой ракиты.
Князь был зол и испуган, мучительные сомнения легли на душу тяжелым камнем.
Все вначале складывалось удачно. Сколь можно в младших княжишках ходить? Хорошо там в Киеве двоюродному братцу Святославу править. Там большие дела, власть, влияние. Хочу – половцев сокрушу, хочу – княжишков за горло возьму. С такими силами что хошь можно сотворить. Удачлив. Песни о нем слагают, на гуслях тренькают. А тут хоть лопни – земли грошовые, подумаешь – Новгород-Северский.
Как тщательно силы берег, от двух походов, затеянных Святославом уклонился. Что сраму-то было! Княжишки, ровно псы бешеные накинулись. Не могут простить союза с Кончаком, будто сами без греха.
Игорь вспомнил поражение под Долобском, где его с Кончаком наголову разбил Рюрик Ростиславович – скрипнул мучительно зубами. Пришлось удирать с Кончаком в одной лодке.
Ладно, потрясу половцев, совсем другой разговор будет. Ненавидяще, слепо, уставился на реку – я с вами поквитаюсь! И сразу внутренне осел. Да, все шло прекрасно. Выступили дружины сына и племянника, подошли черниговские ковуи, возглавляемые Ольстином Олексичем, все ладилось до этого проклятого знамения. И ведь не пустяк – силы небесные. Князь поежился, вспомнив, как страшно потемнело среди белого дня, как взбесились кони, как завыл ручной волк Архонт. Испугались все. Закрестились даже те, кто втайне Перуну поклонялись.
Игорь сжал кулаки – все, все против него. Все стали отводить взгляды, мямлить – словно им хребет перебили. Едко перекосился: трусы. Хотя, конечно, неплохо бы и вернуться. Однако, прикинув во сколько кун серебра уже обошелся поход, горестно махнул рукой. Мало позору, да ведь еще полкняжества разорил. Куда теперь – только вперед.
Натужно взял себя в руки, приосанился, сжал губы и сделал суровые глаза, как у Михаила Архангела на иконе, резко пролаял воеводе:
– Вели пошевеливаться! Ползают, как клопы. К вечеру чтобы шатры стояли. Брод старой жабе по титьки, а они уж тонуть начали. Кто станет захлебываться, велю как смерда батогами пороть.
***
Нежным изумрудным золотом сияла молодая трава, ракиты свешивали ветви в неподвижную воду, взблескивала, чертила гладь реки играющая рыба.
Загорелись неяркие еще костры. В холодеющем воздухе резко и дразняще разносился запах варева из котлов.
Гридни проворно раскинули кошмы, на чистой холстине расставили кубки, блюда. Кухари притащили жареную дичину, натужно приволокли котел с ароматной ухой.
Всеволод, которому горе веревочкой, потер здоровенные ладони, мягко рухнул мощным телом на кошму. Переполненный жизненной силой, непристойно громко заорал:
– А подавай-ка, князюшка, меды стоялые!
Выпили изрядно. Всеволод, обняв Игоря за плечи, душевно твердил:
– Един ты у меня брат. Один свет светлый.
Высуслив очередную чару меда, стал хвалиться:
– Не бойся ничего, брате. Таких, как мои куряне нигде больше не сыщешь. Ты ведь того не знаешь – я отроков от мамок забираю, в дружине воспитываю. Сколь кун серебра потратил, от наложниц отказался – стремена и седла, и сбрую построил. Сабельки легонькие угорские для молодиков купил. Ни днем, ни ночью покоя дружине не даю. Ну уж по трудам и награда, не витязи – чистые волки. С завязанными глазами где угодно проскачут. А Трибора, сотника моего, что брод искал, видал? Коленями ребра коню ломает, кулаком по пьяному делу посадскому череп раскроил, право слово – не вру.
По ночной прохладе перебрались в шатер. Всеволод потянулся за чарой. Игорь нахмурился:
– Дост, брате. Время походное, сколь можно.
Всеволод сочно захохотал:
– Брат, ты за кого меня держишь? Мои дозоры во главе с вернейшими сотниками рыщут по степи. Ты ведь не удосужился поберечься от внезапного нападения, а мои охранения уже стоят на два полета стрелы вокруг лагеря – мышь не проскочит. Твои вои дичину на ночь жрали, мои кроме каши ничего не получили, негоже с полным брюхом ложиться – не отдохнуть и легкости не будет. Это мы с тобой можем дурака валять, да и то, когда я обо всем распорядился и жестоко всем наказал. А что до хмеля – гляди!
Всеволод мгновенно выхватил засопожный нож, хекнув, сильным движением метнул его. Тяжелый клинок наполовину вошел в древко шатра.
Свистнул гридню:
– Ну-ка вытащи.
Гридень, уперевшись ногой в столб, двумя руками пытался выташить нож. Смеясь, Всеволод поднялся, легко выдернул клинок – шатер затрясся. Сунул нож за голенище, хватил чарку угорского. Потянулся к бараньей ноге с чесноком, зачавкал:
– Хмель вышел, скажу все, что на душе, не серчай, брат. В поход этот я не верю. Не из-за знамения – на земле много народов живет, поди узнай кому вышние знак подавали. Нет у тебя сил в одиночку половцам носы квасить, хорошо, если малость потрясем их, да ноги целыми унесем. Иду потому что брат ты мне. Хоть это ты и сдуру затеял, а пойду с тобой до самой домовины.
Спал князю умь похоти
И жалость ему знамение заступи
испити Дону великаго.
"Хощу бо, рече,-копие преломити
конец поля Половецкаго…"
Припекало. Дружины шли длинными колоннами по четыре в ряд. Копыта мягко выбивали из молодой травы прошлогодний сухой прах, опадавший ленивыми облачками. Плавились ослепительно наконечники копий. Шли сторожко, по бокам колонны, на расстоянии полета стрелы рыскали разъезды, здесь всего можно было ожидать – земля незнаемая, поле Половецкое.
Накалились брони и шеломы. Струйки пота катились под бармицей, стекали за шиворот. рубаха намокла, хоть выжми, кожаная подкольчужница противно елозила по ней.
Даниил расстегнул мокрый скользкий ремень, снял шелом и пристроил его на луку седла. Ветерок приятно обдул голову. Слева ослепительно сияли меловые холмы, кое-где испятнанные потеками красной глины, покрытые дубовым лесом – его молодая листва радостно горела на солнце. На вершинах утесов раскинули плоские темные кроны могучие корявые сосны. Островки ракит были до того нежны и кудрявы – хотелось погладить их рукой как голову ребенка.
Даниил бросил поводья, задумался. Слабеет власть золотого Киевского стола. Князья поглощены своими заботами, грызутся, как бешеные псы, дробят земли между своим многочисленным потомством, путаются с погаными, натравливают их на своих же. Половцам того и надо – им все в мошну. Пылают русские города и деревни, ветры посвистывают над русскими костями. Почуяли роскошь, хотят жить как угры, чехи, веницейцы, а взять неоткуда. Обдирают смердов, по деревням рыщут тиуны, выколачивая подати. Ставят смердов на правеж, отнимают последнее – сами себя лишают богатства.
Уж вроде в Любече при Мономахе решили: “Каждо да держит отчину свою” – чего больше? Нет, и этого мало, дай у соседа земли отберу. Ах, князья, князья, как докричаться до вас?
Вот и Игорь, снедаемый завистью к удачным походам Святослава, решил в одиночку пройтись по Половецкому полю. Разгорелось сердце – славы хочется. Даниил едко усмехнулся – ну и добычи, конечно. Да побольше.
А не дай бог не получится? Подумать страшно: Новгород-Северская, Черниговская, Курская земли, Путивль и Рыльск остались без прикрытия. Попробуй скажи. И то хорошо, хоть взяли.
Не любит Даниила Игорь, считает Святославовым наушником. Да и взял-то только из-за того, чтобы не вздумалось донести Святославу.
Даниил вспомнил, как на недавней пирушке черниговец Беловолод Просович осторожно завел речь о возможной неудаче. Игорь уставил на него бешеные глаза, процедил:
– Хочу копье преломить в конце поля Половецкого.
Неистовой водей своей переломил всех. Даниил вздохнул: сила солому ломит. Копыта коней зашуршали в палой листве, крепко запахло сырой прелью. Колонна втягивалась в сумрачный распадок, пронизанный золотыми солнечными стрелами.
Длъго ночь мрькнетъ
Заря светъ запала
Мгла поля покрыла.
Щекотъ славий успе;
В распахнутый полог шатра тянуло теплым влажным запахом листвы и молодой травы, мокрой землей. В недалеком ракитнике одурело заливался соловей. Даниил отбросил перо, сдвинул в сторону деревянные дощечки, покрытые воском, для скорой записи. Бережно приподнял пергамент, покрытый вязью, полюбовался.
Прошла спазма, стиснувшая горло, уходила постепенно сладкая боль, что наполняла сердце, оставляя светлые слезы, покой и опустошенность.
Он несколько раз перечитал написанное, уже не вникая в смысл, вслушиваясь только в музыку стиха. Хорошо! Он знал, что хорошо, что на всем Божьем свете никто лучше не напишет.
Закинул руки за голову, потянулся. Красноватый скудный язычок каганца всколыхнулся, затрепетал.
В голубом, размытом лунным светом, проеме полога появилась темная рослая фигура, согнувшись, бесшумно скользнула внутрь. Человек, споткнувшись о ноги спавшего у входа гридня Луки, ругнулся сквозь зубы матерно, выправился как кошка и с размаху опустился на затрещавший ивовый лежак.
Хороший приятель, сотник Трибор, белозубо ухмыльнулся:
– Пишешь, Боян?
Даниил с удовольствием посмотрел на него. Рослый, сухой, с шапкой спутанных русых кудрей. Глубокий вырез кожаной замасленной подкольчужницы открывает мощную мускулистую шею.
Расстегнул пряжку пояса, ловко стащил перевязь меча, бережно уложил его возле себя. Вытянув длинные ноги, кокетливо воткнул в кошму звездчатые угорские шпоры.
Даниил засмеялся:
– А ты, брат, от нагайки вовсе отказался?
Трибор вспыхнул, загорячился:
– Ты, друже, зря смеешься. Чего животину нагайкой пороть, тут только чуть под бока поддал – и летит, как птица. Угры, брат, не дураки, шпоры – доброе дело.
Даниил хмыкнул:
– То-то ты своему аргамаку намедни бока дегтем мазал. Какая разница – нагайкой ты его исхлещешь или шпорами затерзаешь.
Трибор махнул рукой:
– Чего с тебя взять, сынок боярский, ты в лошадях ни клепа не смыслишь.
Даниил, нагнувшись, потянул к себе Триборов меч – длинный, тяжелый, с серебряным яблоком на крыже.
– Небось франкский?
– Какое там, – Трибор ревниво перехватил меч, наполовину вытянул из ножен. Блеснул розоватый змеистый булат. С гордостью показал глубоко вырезанную надпись “Феодор делал”.