Воспоминания комиссара Временного правительства. 1914—1919
Text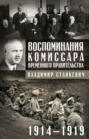


Zum Hörbuch
- Größe: 340 S.
- Kategorie: Biografien und Memoiren, Militärische Intelligenz
2. Обстановка и люди
При таких условиях для наблюдений не оставалось ни времени, ни сил. Обстановка и люди памятны только в самых общих чертах.
Большое впечатление производили на меня рабочие. Под Ригой это были эсты и латыши. Хотя с ними трудно было сговориться, так как они очень плохо понимали по-русски, но они так скоро схватывали смысл работ и так хорошо владели плотничьими инструментами, что мои саперы не могли нахвалиться ими. Под Псковом нам дали тверских и витебских рабочих. Было также много псковичей, которые поражали меня своими странными уборами, говором, своеобразным способом мышления. Какой-то седой древностью веяло от этих обитателей Фанасовой и Башиной гор, горы Веретья, Княжьего бора, живущих в стороне не только от «машины», но и от «струнной дороги» (дороги с телеграфными столбами). Псков был в сорока верстах, но мой хозяин не решался свезти меня туда, так как его лошадь никогда не была еще в городе, и я подозреваю, что и сам он был там лет двадцать тому назад.
Когда они собирались массой для получки, нарядившись в лучшие платья, то напоминали мне более статистов из «Аскольдовой могилы»[18], чем современников, ведущих войну при помощи аэропланов и удушливых газов. Что-то мягкое, душевное, примитивное было во всем укладе жизни, что сглаживало даже мелкие плутни, бестолковость в работе и падкость до денег. О войне говорили крайне мало, никогда не расспрашивая, никогда не высказывая отношения. Только жаловались на работу, отвлекающую от домашних дел, на «разорение», причиняемое полям нашими окопами, буквально плакали над вырубленной рощей («расчистка обстрела», – объясняли мы им). Словом, воспринимали войну как досадное беспокойство. Окопы нашего отдела проходили через имение довольно известного октябриста, богача Дерюгина. Случайно линии окопов пришлось натолкнуться на какую-то историческую сосну, на которую, по утверждению господина Дерюгина, молились его предки. Прапорщик, руководивший постройками, ничтоже сумняшеся, приказал рубить сосну. Дерюгин не плакал, но устроил колоссальный скандал и не постеснялся даже отправить телеграмму самому главнокомандующему фронтом Рузскому с воплями об обиженной сосне. Через несколько дней пришла телеграмма от строителя позиций со строгим наказом сосны не рубить, и она так и осталась надрубленной.
За время работы мне приходилось сталкиваться со многими десятками интеллигентных лиц. С некоторыми мне пришлось жить в одной комнате по несколько месяцев. Но странным образом я не припоминаю ни одного разговора о войне. Как будто было неприлично, бестактно или, во всяком случае, неинтересно говорить о войне. Ведь все равно война уже принималась как неотвратимое, к чему всякий по-своему пытался примениться всеми сторонами своего бытия.
Приспособление это было далеко не легким делом. Особенно ясно чувствовал я это по своим ближайшим сотрудникам, инженерам М. и Л., начальникам двух технических отрядов, работавшим в моем отделе. М., как мне казалось, по ошибке стал инженером-путейцем. Он был известен в некоторых литературных кругах в качестве поэта, тонко чувствующего слово. Теперь он усердно и честно старался увлечься размахом наших работ, приведением в движение массы труда и материала. Но так как это никоим образом не укладывалось в стройные, красивые рамки и так как возня с табелями имела свои шипы, то увлечение не всегда удавалось. И если слово «скучно» и сдерживалось, то лишь потому, что обстановка работы в этой дышащей стариной местности сглаживала неприятности. М. не мог насладиться вдосталь местным мягким, детским говором, своеобразными выражениями, простодушными словечками и самобытными нравами. Потом он перекочевал со своим отрядом в Ригу, строить дороги под выстрелами противника. Потом – в Трапезунд. Потом еще куда-то…
Говорил: «Ищу дела…» Но несомненно было: «Ищу впечатлений…» На то и поэт.
Полной противоположностью тонко ощущающему и думающему поэту был другой инженер – Л. Он весь – исполнение долга. Прежде всего по отношению к работе. Это было не легко, ведь окопы он видел в первый раз. Он путал названия, сам смеялся и смешил других поисками «блиндированных подмышников», как он в шутку называл подбрустверные блиндажи. Но вскоре освоился с задачами, систематизировал работу и гордился тщательностью и аккуратностью отделки. Он даже иногда пытался негодовать на примитивность военных методов работы… Но все свободное время он посвящал семье. Ему пришлось с ней бежать из-под Риги и бросить жену и детей на произвол судьбы в Петрограде. Сам же он, впервые расставшись с семьей за всю свою жизнь, вынужден был поступить на работу в военно-общественную организацию и очутился в псковской глуши… Но душа его оставалась с семьей, и он почти ежедневно исписывал, как я шутил, «простыни» письмами к жене со всеми подробностями своей новой, такой несладкой жизни.
Я лично глубже увяз в войне, чем мои во всех отношениях штатские сотрудники. Но зато и чувство неудовлетворенности, мне кажется, было ярче и отчетливей.
Вспоминаю весну 1916 года. Помню, во время моих переездов по полям и лугам я слушал пение птиц и с удивлением улавливал мотивы птичьего голоса в вагнеровском «Зигфриде». И вместе с весной, после года упорной работы, когда она стала приобретать несколько рутинный характер, оставляя место для мыслей на посторонние темы, впервые появились ярко окрашенные сомнения. Помню разговоры с моим спутником-техником, которому я доказывал правильность антивоенной позиции Либкнехта. Помню письма, в которых я жаловался на невыносимый гнет той лжи, которая преподносилась ежедневно в газетах. Во время работы, во время увлечения техническими деталями, во время попыток правильно, с максимальной продуктивностью организовать труд – смысл войны забывался. Но стоило прочесть любую патриотически настроенную газету, чтобы отвращение властно охватывало всю душу. Отвращение и утомление.
И когда я вспоминал о тех громадных усилиях и жертвах, которые всеми народами приносились для войны, когда я думал о количестве материалов, зарытых в землю, взорванных в воздух, сожженных, разрушенных, я размышлял о том, чего человечество могло бы достичь этими массами духовной и материальной энергии. Почему война имеет силу рождать героев, побеждать эгоизм, вызывать чрезвычайное напряжение ума, воли и чувства? Неужели среди тех целей, которые ставит нам мирная жизнь, нет таких же или еще более высоких целей? Нет мотивов к массовой жертвенности и подвигу? И я не раз давал себе клятву работать самому и других звать к работе с таким же бешеным напряжением, как на войне для мирных задач нового устройства человечества. Демобилизации не должно быть, только цель усилий должна быть иная.
Странно, но ни в себе, ни в других штатских людях я не чувствовал контраста по сравнению с военными. Так, командиром роты был поручик Б., кадровый офицер, поступивший накануне войны в военно-инженерную академию. К войне он относился как к тяжкому и бесспорному долгу и делал все, что в его силах, чтобы лучше использовать время, людей и материалы. Сомнения не допускались. Но они часто прорывались сами собой… Не раз он говаривал, что после войны непременно поедет в Австралию для того, чтобы разводить там баранов. Мы слушали его соображения о приволье австралийских степей и лесов и невольно соглашались, что его план недурен.
Мой начальник, полковник Б., преподаватель инженерного училища, был в августе 1915 года буквально в 24 часа поднят на ноги и отправлен на позиции под Псковом, где с чрезвычайной энергией и неутомимостью работал в совершенно непривычной для него обстановке. Но он по-прежнему числился преподавателем инженерного училища. Война не ломала его жизнь, а только гнула. Но согнутая жизнь старалась выпрямиться, и в конце концов само училище возбудило всяческие ходатайства о его возвращении, и он вернулся в Петроград к своему военно-мирному делу. Таким образом, быт военных иногда создавал большую тягу от фронта, чем у штатских людей.
* * *
Пришлось мне иметь дело и с офицерством пехоты, артиллерии и даже кавалерийским. Около Двинска я работал в районе 1-го гвардейского корпуса, который был расположен на отдыхе. Я постоянно сталкивался с гвардейскими офицерами, беседовал с ними и некоторое время даже жил с ними в одной комнате. Особенно тесными стали отношения с тех пор, как в моем отделе стали ежедневно работать по одной или две роты от Измайловского, Егерского, Преображенского и Семеновского полков.
В первый день работ не обошлось без недоразумений. Так как мои работы были раскиданы по фронту в 25 верст, то я физически не мог сам поспеть всюду и должен был полагаться на моих унтер-офицеров (помощников у меня в это время не было). Поэтому к участку, где должен был работать Преображенский полк, я поспел только после окончания работ. Мои саперы сразу стали жаловаться на гвардейцев. Выяснилось, что офицеру, который пришел с солдатами, показалось, что работы, которые мы вели по своим новым методам, начаты неправильно. Мой унтер-офицер был не в состоянии дать объяснения, но наотрез отказался следовать указаниям пехотного офицера, так как понимал их неправильность. Кончилось тем, что офицер рассердился, приказал моим саперам выстроиться в строй и заставил выполнять разные строевые упражнения. Потом собрал своих людей, которые посмеивались над неуклюжими саперами, и оставил работы. Я немедленно отправился в штаб полка и выяснил, что офицер тот был Родзянко, сын председателя Думы. Я составил подробный рапорт о произошедшем и подал его начальству. Рапорту ход не был дан. Но из полка мне стали присылать других офицеров, которые хотя и беседовали со мной о методах фортификации, но сами уже не вмешивались в мои распоряжения.
Во время разговоров я уяснил, насколько далеко стояла психика старого офицерства от новых требований войны. Очень часто после обсуждения технических вопросов они со вздохом начинали вспоминать прежние дни, когда пехота не зарывалась в окопы. Глядя на наши тыловые сооружения, они восхищались их прочностью, солидностью и удобством. Но почти неизменно прибавляли:
– Для нашей армии это не годится. Нашего земляка из таких окопов и убежищ и не выманишь…
Нынешняя война казалась им только грубым нарушением всех священных принципов военного дела, закапыванием духа в землю. Даже дыхание новой военной техники, долетевшее к нам впервые в виде книги полковника Ермолаева о Западном фронте, захватило только молодежь, прапорщиков, которые зато выучили ее чуть ли не наизусть.
Мне казалось, что в каждом полку были один-два прапорщика, которые олицетворяли душу военного дела и фактически руководили полком. Это было вполне естественно в запасных частях. По-видимому, то же было и в гвардейских частях, где после двух-трех визитов в штаб полка я приходил к заключению, что незачем беспокоить вопросами командира полка, а надо говорить или с адъютантом, или с его помощником, или даже с какой-либо третьестепенной по рангу фигурой, которая фактически составляла движущую пружину дела.
* * *
Разговаривая с офицерами всех родов оружия, мне удалось составить представления о некоторых существенных эпизодах из прошлого нашей войны. Около Пскова стояли артиллеристы из Ковно[19], ожидавшие присылки новых орудий взамен оставленных в крепости. Во время вечерних бесед они рассказывали мне все детали боев под Ковно. При этом рассказы освещали дело с разных сторон, так как среди офицеров был племянник коменданта Ковно, генерала Григорьева. В общем, картина получалась чрезвычайно поучительная, как две капли воды напоминавшая описания боев в японской войне. Не защита, а просто уход, осложненный только тем, что комендант уехал первым, даже не предупредив никого о своем отъезде.
Другой эпизод рассказали нам участники боев под Иллукстом[20], недавно занятом немцами. Я теперь не припоминаю деталей. Но помню, что после рассказа воскликнул:
– Но как же можно воевать при таком неумении!
Общий смысл рассказа был в том, что мы отступили не под давлением противника, а от путаницы и дезорганизации с первого момента боя.
Сравнительно полную картину боя нам представили касательно мартовского наступления под Якобштадтом[21]. Опять говорилось о бесплодности, нелепости и неумелости атаки, стоившей многих жертв и не давшей никаких результатов.
Я не думаю, что случайно наталкивался на офицеров-пессимистов, подобный тон был общим во всех рассказах о войне, по крайней мере на Северном и Западном фронтах, то есть там, где противником был немец. При этом неудачи были ярче и запечатлевались в памяти крепче, чем удачи. Не было эпоса войны, была лишь ирония и терпеливость.
* * *
Рассказы эти разжигали мое любопытство – посмотреть самому на жизнь на фронте. До сих пор я работал в тылу и, кроме грохота пушек и полетов аэропланов, не имел представления о жизни на фронте (как, впрочем, и все тыловые инженеры). Такая неполнота впечатлений имела и практическое значение: у меня были сомнения относительно правильности многих методов укрепления позиций, и хотелось проверить это на своем опыте, личным знакомством с боевой жизнью. Конечной своей целью я ставил занять место помощника корпусного инженера, который в своей деятельности непосредственно сталкивается с основными боевыми проблемами. В конце концов мне действительно удалось попасть на фронт, правда на несколько дней, в целях самообразования…
Все эти дни я бродил по окопам одного из корпусов около Двинска, детально изучая все особенности боевых построек, метод работ, быт солдатской жизни на фронте, словом, уясняя все пробелы своего образования. Попал я случайно также на участок около имения Меддум, прекрасного культурного уголка Е.А. Ляцкого, с богатой историко-литературной библиотекой… Увы, только печные трубы да развалины печей указывали на то место, где был дом. Впечатлений было много…
Яркой была полоса между нашими окопами и проволокой противника, поросшая девственно-свежей травой, только в иных местах разрытой воронками снарядов. Удивляли гулкие выстрелы из окопов по зазевавшемуся противнику, гудение снарядов и взрывы их после нескольких мгновений томительного ожидания у стенки окопа… Рассуждения сопровождавшего меня унтер-офицера о том, что после 12 часов можно свободно ходить, так как «он» пьет кофе… Раздраженные разговоры офицеров… Недоверчивые взгляды солдат, сидящих в каких-то норах-землянках… Чрезвычайная убогость и бездарность выдумки в самой постройке укрытий и жилищ, неподвижность и неряшливость во всем окопном быту. Помню, я вошел в землянку ротного командира и удивился, что стены не «одеты» ни досками, ни жердями, что было не только негигиенично, но и опасно, так земля могла обвалиться и при попадании снаряда, и при взрыве на далеком расстоянии. В ответ я услышал:
– Нет материала.
Но как раз при входе в землянку лежала большая груда жердей, давно уже доставленных, и как раз для «одежды» этого убежища. И саперы мне жаловались, что пехота ничего не хочет делать без особого приказа или нагоняя.
Впечатления от наших построек я вскоре смог подкрепить впечатлениями от окопов противника. После наступления 1916 года у меня явилось непреодолимое стремление лично осмотреть окопы, отбитые нами у противника, для того чтобы выводы нашего фронта сверить с выводами немцев. Но мои хлопоты о командировке стоили мне очень грозного разговора с генералом, причем в продолжение всего разговора я не знал, чем в результате окончится мой визит – командировкой или арестом. Однако командировка была дана, но лишь на Северный фронт. Но и это было весьма приятно, так как давало возможность ознакомиться с наиболее интересными окопами немцев.
Помимо непосредственной цели моей поездки и осмотра небольших участков позиций противника, отнятых во время последних боев, мне удалось по рассказам участников составить ясную картину самого боя. Картина была весьма безотрадной. Топтание громадных отрядов на одном месте и полная беспомощность в выполнении операции. И неудивительно, что корпусной инженер с полной откровенностью говорил, что воевать с немцами безнадежно, ибо мы ничего не в состоянии сделать. Даже новые приемы борьбы превращаются в причины наших неудач.
Так, заимствованная у французов идея подготовки для наступления инженерного плацдарма привела к тому, что в бесчисленных ходах сообщения армия застряла, запуталась, смешалась и, потерпев значительный урон от огня противника, вынуждена была ограничиться занятием нескольких выдвинутых вперед немецких застав, причем и этот минимальный успех был достигнут латышскими ротами при полном безучастии остальной армии, формально тоже якобы ведшей наступление.
Немецкие окопы, хотя я их видел на небольшом участке и непосредственно после боя, во время которого наша артиллерия засыпала их снарядами, произвели все же большое впечатление тщательностью отделки, выдумкой и удобством. Это чувствовали и солдаты. Около одного из солидных немецких убежищ, построенных на болоте насыпным способом, сидело несколько солдат. В разговоре они заметили:
– Были бы у нас такие домины, так ли бы мы воевали…
Часто мне приходилось сталкиваться с так называемыми общественными организациями. К ним у меня не было особенно дружелюбного чувства. Правда, в них было что-то от американизма – широта, размах. Но на нашей почве это казалось непростительной тратой средств и сил. Было приятно, когда Союз городов приехал к нам заведовать кулинарной стороной дела и стал действительно хорошо кормить рабочих. Но было досадно смотреть, как штат интеллигентных служащих, заведовавших кормежкой одного участка, превосходил число интеллигентных руководителей работ всего отдела. Причем заведующий столовой получал жалованье большее, чем начальник отдела. Кроме того, количество таких организаций казалось явно чрезмерным. Мы сомневались, стоило ли строить позиции около Пскова, а тут почти ежедневно приезжали какие-то партии то для осушки болот, то для обводнения, то для сооружения колодцев, то для дезинфекции. Так как в этих организациях служили военнообязанные, создавалось представление о большой ловкости тех, кто устроился там. Так, по крайней мере, они воспринимались военной массой.
3. В Петрограде
Во время поездок на фронт, хотя я в некоторых отношениях мог считать себя уже мастером, но целый ряд сторон военно-инженерного дела, необходимых на фронте, мне не был знаком. Поэтому я воспользовался удобным случаем возвратиться на время в Петроград. Я носился с обширными планами. Мне хотелось, во-первых, самому несколько подзаняться, чтобы сделаться законченным военным инженером, а кроме того, хотелось доработать и использовать мои заметки, скопившиеся за время годовой работы, – мои наблюдения на фронте укрепили меня в мысли о необходимости или, во всяком случае, о полезности издания этих заметок.
Сперва дело продвигалось с трудом. В батальоне на меня начали поглядывать косо, а мой беспокойный характер приводил в негодование старших начальников. Приходилось бороться.
Вскоре, однако, мое положение значительно улучшилось. В виде исключения мне предоставили должность преподавателя полевой фортификации в инженерной школе прапорщиков. В батальоне мне давали работу по моему желанию, причем мои обязанности заключались в организации офицерских собеседований на военно-технические темы, руководстве курсами для унтер-офицеров и заведовании библиотекой, которую мне пришлось создавать, что открывало ценную для меня возможность покупать книги и выписывать всевозможные, в том числе и секретные, издания наших штабов. Но более всего меня занимала работа, которую я выполнял в сотрудничестве с двумя профессорами Инженерной академии, – составление совершенно нового учебника полевой фортификации. Мне приходилось составлять первоначальный текст, вносить в него все исправления моих сотрудников, дорабатывать окончательный текст. Я же делал первоначальные эскизы чертежей и вел корректуру. Я склонен был «фантазировать». Мои сотрудники тянули к академическому канону. Но так или иначе, к Рождеству учебник вышел и имел совершенно исключительный успех: в две недели все экземпляры разошлись, не поступая даже в публичную продажу, и мы были вынуждены немедленно приступить к новому изданию. Учебник был принят в нескольких военных училищах и даже – венец всех успехов – в Военной академии… Приват-доцент полевой фортификации – так в шутку стал именовать я себя.
Я весь с головой ушел в свою новую работу. Кроме лекций в училище и в батальоне и работы над учебником, я гастролировал по приглашению с лекциями в офицерских школах, в юнкерском училище – в своем же, Павловском. Составил еще книжку о пулеметных укрытиях со многими рисунками и чертежами, чтобы сделать ее доступной для каждого офицера и солдата. Соорудил модель приспособления, которое давало возможность, дергая за веревки из окопа, переносить мину под проволочное заграждение – движение этой забавной модели по столу в офицерском собрании приводило в восторг всех офицеров. Все это давало удовлетворение даже и материальное.
Но вместе с успехами росли и требования. До сих пор я работал над одной областью – укреплением позиций. Но у меня начинала складываться общая концепция военных действий на фронте. В качестве библиотекаря батальона я выписывал все издания всех штабов. Через генерала Яковлева и полковника Бартошевича я имел все новости военно-технического управления и Инженерной академии, которая готовилась к открытию. Через своих знакомых в пулеметной школе в Ораниенбауме я имел всевозможные пехотные новости. Как организатор лекций для офицеров и унтер-офицеров, я познакомился с такими сторонами дела, как газовая атака, о которой сам читал лекции. К этому времени приобрели законченный вид и мои записки. Я знал по рассказам и описаниям довольно подробно не только общую картину важнейших фазисов русско-германской войны, но и ряд деталей о боях под Сольдау, под Ковно, под Барановичами, под Ригой, под Ковелем. Кроме того, я имел материал для сравнения, так как в моих руках побывали описания боев на французском фронте – под Аррасом, в Шампани, под Верденом…
Чтение литературы, рассказы очевидцев и личные впечатления толкали мысль к тому, что наши силы не использованы в полном объеме. Изучение нашего устава о саперных работах с его совершенно архаическими предписаниями навело меня на целый ряд мыслей о том, что позиция фронта не должна быть ни на минуту неподвижной, а должна неустанно давить на фронт противника. Мне казалось, что бесконечное количество живой силы, имеющееся в нашем распоряжении, – при этом мне живо представлялись сонные фигуры наших солдат, сидящих месяцами в своих землянках, – не должно оставаться неиспользованным, а, превращенное в движущуюся груду камня, земли и леса в виде надвигающихся на противника сооружений, должно неустанно давить и ломать его фронт. Около трех месяцев я носился с этими мыслями втайне. Наконец, подкрепив свои соображения всей доступной русской и иностранной военной литературой, я в начале 1917 года составил маленький докладик, который дал прочесть моим военным друзьям. Успех превзошел все мои ожидания. Генерал, начальник училища, после прочтения доклада просил немедленно составить несколько экземпляров для посылки во все штабы фронтов и в Ставку. Доклады были посланы, стали приходить даже ответы – некоторые благоприятные, некоторые крайне враждебные. Из Ставки пришел формальный ответ с указанием, что доклад послан «не по команде» и должен сперва быть отправлен на заключение в военно-техническое управление. Я прочел доклад в офицерском собрании, и прения убедили меня в правильности моих соображений. И я решил упорно бороться за их осуществление в жизни. Для этой цели я посетил некоторых моих политических друзей.
