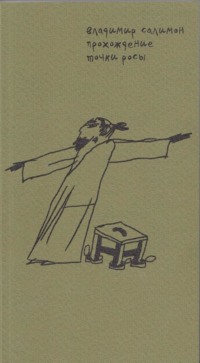Buch lesen: "Происхождение точки росы"
ВЛАДИМИР САЛИМОН
ПРОХОЖДЕНИЕ ТОЧКИ РОСЫ
НАШЕ ВРЕМЯ
***
Пустая трата средств и сил.
Чуть свет с больною головою
поднявшись, я провозгласил,
что мы растратчики с тобою.
Вчера смотреть ходили мост,
что строится через Лопасню.
На нем стояли люди в рост,
как декабристы перед казнью.
По небу плыли облака,
и грустно делалось ужасно,
и что веревка коротка,
и что все тщетно, все напрасно.
Что Милорадович убит,
а царь по-прежнему на троне,
и что в могиле Герцен спит,
и Ленин больше не в законе.
***
Мороз стоит, как в бане пар,
когда в печи горят полешки.
Их белозубый кочегар
во мраке колет, как орешки.
Нет чтобы фиговым листом
прикрыть свой срам приличья ради,
в парилке люди нагишом
карабкаются на полати.
Смыв смрад и грязь, целуют крест
и лезут в воду ледяную
с надеждой, что свинья не съест,
Господь не выдаст Русь святую.
***
Накрыло каплей дождевой
того, кто в миросозерцанье
мог погрузиться с головой,
надолго задержать дыханье.
Жучок, похожий на божка,
божок, что нам напоминает
головогрудого жучка,
глубокий сумрак прозревает.
В его глазах отражено
все, что от наших глаз сокрыто,
и нам понять не суждено,
чем сердце у него разбито.
***
Времени корректировка
извела меня, гадюка.
Поутру болит головка.
За окном клубится вьюга.
Это Фет напел мне в ухо.
Холод. Стужа. Мрак кромешный.
Милой в сердце моем глухо
отозвался голос нежный.
***
На нас нисходит Божья благодать.
Быть может, привезенные с Афона
дары волхвов дают себя нам знать
щемящим запахом одеколона.
Он щиплет ноздри мне среди зимы,
когда горят рождественские елки,
вонзая в толщу непроглядной тьмы
лучей колючих острые иголки,
и ладана, и смирны аромат
влекут к себе подобно блеску злата,
или еще сильнее – во сто крат,
чем самая высокая награда.
***
Последнее слово еще
не сказано, может случиться,
вдруг конь захрапит горячо,
в дверь к Вульфам сосед постучится.
Снежком припорошен картуз,
а может, бобровая шапка
пузатая, словно арбуз?
Нагольный тулуп иль крылатка?
О, нам до всего дело есть!
Что Пушкин приехал к нам в гости,
по дому разносится весть,
и слышится стук его трости.
***
Лес здешний умер было, но воскрес.
В лес ходят по грибы сосед с соседкой.
К реке питают дети интерес.
Мальчишки раков в речке ловят сеткой.
Борщевиком все поле заросло
с конца весны от краю и до краю.
Что именно в России привело
к упадку земледелия, не знаю.
По миру мы рассеялись давно,
а тех, что обитают здесь поныне,
тех погубило хлебное вино,
как эскимосов в ледяной пустыне.
Чтоб понапрасну не смущать народ,
я принужден пить в одиночку, тайно.
По праздникам престольным, коль припрет.
Иль невзначай, по случаю – случайно.
***
В условиях жизни суровых
решительно не достает
больниц для душевноздоровых,
где наш бы спасался народ.
Куда бы я мог удалиться
от дел и в больничной глуши
трудиться, трудиться, трудиться
во имя спасенья души.
Как русские интеллигенты,
как чеховские чудаки,
сомнительные элементы,
дурящие людям мозги.
***
Я обратил внимание на поле,
где рожь цвела, теперь полынь цветет.
Мышь для змеи – насущный хлеб, не боле.
Но мышь издохнет, и змея помрет.
У слов твоих оттенок грубоватый,–
мне говорят. – Нельзя ли понежней?
Всем хочется слегка витиеватой
поэзии на фоне серых дней.
Всем хочется поменьше грубой прозы,
побольше добрых чувств, красивых слов,
все от поэта ждут какой-то позы.
А я к позерству явно не готов!
***
Совсем как девочка на шаре,
стоит церквушка на холме,
что уцелела при пожаре
Москвы.
Белеет в полутьме.
Казалось – ветра дуновенья
достаточно,
чтобы она
навек была рекой забвенья
в мир чистых грез унесена.
Что равновесия не сможет
гимнастка юная держать,
подобно крыльям, руки сложит,
упав, не сможет больше встать.
***
Навстречу обрезке фруктовых садов
жена наточила ножи,
которыми прежде играть в поваров
спокойно могли малыши.
Теперь она прятать ножи под замок,
на ключ запирать их должна.
Ужели наш мир так ужасно жесток,
и участь детей так страшна?
***
Вновь облако в сумраке зимнем лица
легко выраженье меняет.
Оно, как ребенок, то мать, то отца
копируя, ужас внушает.
На наших глазах из воды и огня
соития
жизнь зародилась.
Увидеть такое средь белого дня
не многим дотоль приходилось!
***
Все выдохнули разом так,
что захотелось сала с перцем,
но мы сидели на местах
крепки умом и тверды сердцем.
Наш паровоз на всех парах
на дно пучины погружался,
или напротив – в облаках
его зловещий след терялся?
У Жюля Верна я читал
в одной из книжек нечто вроде:
Пар клокотал. Гремел металл.
Двадцатый век был на подходе.
***
Потерявшие руки и ноги
по прошествии многих веков,
обрести Олимпийские боги
наконец-то смогли мирный кров.
Теплый свет им струится на плечи
и стекает на мраморный пол,
словно это – оплывшие свечи,
а не Зевс, Геркулес и Эол.
Пробудившись от жуткого смеха,
что донесся в ночи до меня,
вижу – рядом на койке калека.
Комом сбилась под ним простыня.
***
Где под колесами грузовиков
гибнут во множестве лисы и зайцы,
трупики сбитых в ночи голубков
выглядят, как у сантехника пальцы.
Кровь под ногтями давно запеклась,
и постепенно на месте увечья
перемешались лиловая грязь
и ярко красная кровь человечья.
***
Попы в высоких шапках против нас,
как гость заморский против домочадца,
и мы на них не поднимаем глаз,
ну разве только, чтоб полюбоваться.
На лицах их почиет благодать,
которую за высшее блаженство
сподобились ошибочно принять
мы в силу своего несовершенства.
Поскольку были сердцем и умом
уже не слепы, но еще не зрячи,
воспринимали многое с трудом.
По-своему. Не так, как все. Иначе.
***
Во сне иначе время движется,
чем наяву – сюжету параллельно.
И занавеска на окне колышется
без всякой цели,
в сущности, бесцельно.
Ни дуновенья,
сумрак все сгущается,
не катятся на брег валы крутые,
лишь человек ничуть не сомневается,
что скоро минут времена глухие.
***
Люди в поле с чистыми руками.
Это выглядит невероятно,
так как не чекисты перед нами,
про которых все давно понятно.
Добела они отмыли руки,
но поскольку речь на самом деле
о серьезном внутреннем недуге,
многие не в силах встать с постели.
А у тех, кого я встретил в поле,
словно на пролете птичья стая,
от огня, от копоти, от боли
руки черны, как земля сырая.
***
Халат по сути тот же ватник.
Киргиз клевал киргизке груди.
Был старый опытный стервятник
нам отвратителен по сути.
Айтматов сделал свое дело,
и, вероятно, Кончаловский
настолько действовал умело,
что вспомнил я бульвар Покровский.
Я вспомнил все!
И степь, и горы.
В кинотеатре было жарко.
На окнах – плюшевые шторы.
А на тебе – шапка-ушанка.
***
Воображаемая линия меня
приводит к мысли, что не все так просто,
и, если прежде в гости ехал я три дня,
то это только из-за маленького роста.
Вполне достаточно мне было подрасти,
и я добрался до поселка к ночи.
Я с поезда сошел и принялся идти
по ельнику,
так долгий путь короче.
По тропке узенькой пустился напрямки
к давным-давно знакомому мне дому.
Ночь надвигалась быстро.
Шла гроза с реки,
дав волю чувствам, – молнии и грому.
***
О нашем времени ни слова
веселый Пушкин не напишет,
поскольку время нездорово.
Оно больно.
На ладан дышит.
А Пушкин – он здоров чертовски!
Остер. Колюч.
Большая сила
в гремучем этом полукровке.
Над ним не властна и могила.
***
Вели себя, как заговорщики:
оглядывались, озирались.
Хотя мы не были притворщики,
мы бесконечно притворялись.
По молодости лет особенно
валяешь дурака охотно,
но вдруг – окалина, оскомина.
Все кончилось бесповоротно.
И время, как в ушко игольное
верблюд, протиснулось во мраке,
и нечто дряхлое, безвольное
узрел я, край задрав рубахи.
***
Толку мало быть упрямым,
нужно очень жизнь любить,
чтобы в шкаф, набитый хламом
всяким,
дверцы растворить.
У меня перед глазами
промелькнула жизнь моя –
ворох брюк, рубах с носками
и постельного белья.
Мне Судьба, как рядовому
в бане мыло старшина,
выдала,
шампунь из дому
привезла жена моя.
***
Я вижу, как время течет из угла
по стенам моей комнатушки,
как скатерть стекает по ножке стола
на дальний конец раскладушки.
На завтра мы вызвали часовщика.
Старик инструменты разложит.
Покрутит, повертит рукой у виска.
Вздохнет, но ничем не поможет.
***
Вне поля зрения осталось
вдали за рощей придорожной,
что самым важным представлялось
живущим жизнью невозможной.
Мой взгляд скользнул по избам сонным,
как будто бы по лицам спящих
во мраке душном и зловонном
людей и пьющих и курящих.
Увидел я лишь на мгновенье
их тяжкий сон, как матерьяльный
объект,
и ветра дуновенье,
и свет незримый, дух астральный.
***
Из репродуктора невнятно
все утро музыка звучит,
усиленная многократно.
Народ безмолвствует.
Молчит.
Дождь, барабанящий по крыше,
вдруг прекратился, ветер стих.
Когда бы жили мы в Париже,
я б написал об этом стих.
Свободный. Легкий. Либеральный.
Чтоб не тревожить бедолаг,
как Франсуа маниакальный
или неистовый Жан-Жак.
***
Довольно оказалось пустяка,
чтоб ощутил я ветра дуновенье,
почувствовал, как напряглась река,
всему вокруг передалось волненье.
Любая мелочь точкой отправной
Божественного замысла быть может,
но нужен Пушкин, Гоголь, Лев Толстой,
кто на себя ответственность возложит.
Кто на себя нелегкий труд возьмет,
что в пору лишь античному герою,
взвалившему на плечи небосвод,
сокрывши наготу за бородою.
***
Как праведник, душой и сердцем чист,
преодолев земное тяготенье,
между землей и небом желтый лист
вдруг зависает всем на удивленье.
Мы все не без греха, и потому,
спугнуть остерегаясь чудо это,
не шелохнувшись, долго в полутьму
я вглядываюсь на исходе лета.
***
На переправе ждут паромной,
хотя им плыть недалеко,
те, кто родятся ночью темной,
подолгу часа своего.
Паромщик, шельма, переправу
наладив в обе стороны,
сюда везет мальцов ораву.
Их крики над водой слышны.
Обратно старцев седовласых
во тьме кромешной грузит он,
как будто бы зверей ужасных
под их протяжный плач и стон.
***
С.Лурье
Поэту в гроб положат розу,
что не истлеет за сто лет.
Зашел в церквушку по морозу,
где похоронен Шеншин-Фет.
Мой друг так коротко и ясно
об этом написал, что мне
вдруг стало больно жить напрасно
в холодной северной стране.
Мне на мгновенье жалко стало
всех больше самого себя.
Как в детстве в кончик одеяла,
в свой шарф зубами впился я.
***
Эти крысы, словно муравьи,
понемногу нас сживут со свету,
сколько серых ядом не трави! –
с горечью сказал сосед соседу.
Мы глядим с балкона – сверху вниз,
опершись на шаткие перила.
Поселившись в доме, стая крыс
каменные стены подточила.
За год дом изрядно обветшал.
Сыплется на землю штукатурка.
Дом сопротивляться перестал.
Сдался он, как грек на милость турка.
***
Немудрено, что ангелы и боги
себе определили небеса,
а нам достались поскромней чертоги –
моря и горы, реки и леса.
Когда идет переустройство мира,
до равенства и братства дела нет,
поскольку человеку не до жира,
сгоревшему, как спичка, в цвете лет.
Лицом он черен сделался ужасно
от чада, дыма, копоти костра.
И Высший суд решил единогласно,
что стоит он лишь заднего двора.
***
Над землей кружащиеся птицы,
может быть, лишь плод воображенья,
как элементарные частицы
с крайне ненаучной точки зренья.
Снег лежать остался в поле чистом,
как боец, что пал в смертельной схватке,
без прикрас любимым мной артистом
сыгранный на съемочной площадке.
Достоверно все – земля под снегом.
Ватник сальный. Тельник. Нож заправский.
Но Судьба играет человеком.
Все напрасно – умер Станиславский!
***
Мне запомнилось на марке
выраженье мины постной,
в точности, как у кухарки,
у особы венценосной.
Может быть, все дело в цвете.
Марка та была лиловой,
словно пятна на паркете
возле шкафчика в столовой.
Словно пролили чернила
там лет сто назад, иль двести,
иль с годами проступила
кровь на этом гиблом месте.
***
Каши манной иль манны небесной
ожидаю и ложкой стучу
что есть мочи по миске железной.
Есть хочу! Есть хочу! Есть хочу!
Этот крик поутру раздается,
на заре, когда в доме все спят,
лишь лучи восходящего солнца
нежно шарят по лицам ребят.
Я, проснувшись, на кухню пробрался,
где в кастрюльке кипит молоко.
Хлеб, что с вечера свежим остался,
отыскал я буфете легко.
***
На пороге жизни вечной
я приглядываться стал.
По фигурке безупречной
ящерку в траве узнал.
Взгляд холодный азиатский
на себе я ощутил,
так как ящерице адский
пламень очи опалил.
У нее на самом деле
нет ресниц и нет бровей,
но видны следы на теле
от зубов и от когтей.
***
Чтобы в темном царстве людям жить
не пришлось, как в древние века,
тонкий, как вольфрамовая нить,
солнца луч прорезал облака.
И увидел я перед собой,
словно пелена упала с глаз,
будто бы прозрел старик слепой,
мрак, который окружает нас.
Он стеной стоит, как темный лес,
будто это горная гряда
поднялась над степью до небес,
иль над гладью моря – глыба льда.
***
Физическое состояние
воды, что скоро станет льдом,
мелькнет, как станции название
и вряд ли вспомнится потом.
Средь мерзости и запустения
возникнут вдруг передо мной
пристанционные строения,
как мир загробный, мир иной.
Кругом давно одни покойники,
нет ни одной живой души,
всех перерезали разбойники
ночной порой в лесной глуши.
***
Выставлял бутылки на балкон
и во мраке слушал, как негромкий
издает посуда перезвон,
словно на морозе ельник ломкий.
Словно колокольца под дугой,
как поется в песне,
от которой
русский человек глядит с тоской,
ощущая ужас смерти скорой.
***
Ударит рыба по воде хвостом,
с трудом очнувшись после зимней спячки,
как будто по весне ударит гром.
Под Первомай – в канун рабочей стачки.
Я чувствую, сколь логика проста
у большинства моих сопоставлений,
но с алой розой девичьи уста
сравнить готов, как прежде, без сомнений.
***
Как долго этот произвол
продлится, я не представляю –
хлеб маслом падает на пол,
лишь только я его роняю.
Мир так устроен, что его
нам переделать не под силу,
быть может, в следствии чего
и мы с тобой сойдем в могилу.
Поскольку непосильный труд
срок нашей жизни прекращает.
Поэты долго не живут.
Такого в жизни не бывает.
***
Казалось, треснуло стекло,
но, услыхав, как гром грохочет,
я понял – мировое зло
на нас обрушить небо хочет.
И, как учили в детстве нас
на случай ядерного взрыва,
под стол залез я сей же час,
где в щель забился суетливо.
Я думал, что пересидеть
там катастрофу мировую
смогу,
смогу перетерпеть,
переиграть Судьбу вчистую.
***
Внимание привлек чудесный зверь.
Художник поместить в углу картины
его рискнул,
в неведомое дверь
лишь приоткрыв слегка – до половины.
Меня поймав, как рыбу на крючок,
не приложив особенных усилий,
он дверь не распахнул, хотя и мог,
как перед Дантом распахнул Вергилий.
Он, верно, знал особенный секрет,
знакомый впрочем всякому мальчишке,
что нас влечет в развитии сюжет,
когда не прочтено еще полкнижки.
***
Сегодня, выходя из дома,
мы прихватили булку хлеба.
Снег стаял вдруг.
Шуршит солома.
А солнце ярко светит с неба.
Меня вороны не боятся,
ведь я не сочинитель басен,
чтоб над зверями издеваться,
а значит – я им не опасен.
Я им приписывать не буду
свои шкодливые привычки
и те, что свойственны тирану,
решившему взять в руки спички.
***
На женщин, моющих полы
и окна, впору любоваться
и втихаря, из-под полы
греховным мыслям предаваться.
Без этого нельзя никак,
пока ты полон сил и молод,
тебе не застит очи мрак
и не стесняет члены холод.
И половой инстинкт влечет
сильней возвышенного чувства,
ты пробуешь найти подход,
но это требует искусства.
***
Я вспомнил, что, когда был болен,
прочел в какой-то книжке:
Предназначенье колоколен –
сторожевые вышки.
Простуда выходила носом.
На фоне черных пашен
казалось, медным купоросом
был небосвод окрашен.
Весна приходит раньше срока,
и наше подозренье,
что в мире все в руках у Бога,
находит подтвержденье.
***
В свое имение приехав,
он первым делом – к нам.
День добрый, милый доктор Чехов! –
я слышу щебет наших дам.
Супруга, дочки, мамки, няньки –
ему навстречу все бегут.
Они, как будто обезьянки,
борьбу между собой ведут.
Иерархической вершины
достичь торопятся они,
возвыситься в глазах мужчины,
однажды выйдя из тени.
***
Темно.
Не видно и не слышно,
куда теперь держать мне путь.
Сижу я в кресле неподвижно,
склонивши голову на грудь.
Ребенок, подошедши, станет
настырно дергать за полу,
но, глянув мне в глаза, отпрянет,
присев на коврике в углу.
Решив, что палкой сучковатой
могу его поколотить,
в углу с улыбкой виноватой
он молча станет слезы лить.
За палку примет он мой посох
тяжелый, тяжкий, словно меч,
что я омыл в студеных росах,
чтоб от коросты уберечь.
***
Сентябрь быть может мясопустным,
когда початки на углях
мы жарим, с полем кукурузным
расположившись в двух шагах.
Склонясь над тазом, как над чашей,
домой явившись поутру,
я перепачканное сажей
лицо никак не ототру.
Мне крепко в кожу сажа въелась
навеки вечные тогда
и никуда с тех пор не делась,
так и осталась – чернота.
***
В противоположном направлении
поезда идут и день и ночь,
а потом лежат в изнеможении,
так как дальше им идти невмочь.
На путях запасных вверх колесами,
видел я, как поезда лежат,
как они ржавеют под откосами
десять, двадцать, тридцать лет подряд.
Неодушевленная материя
обещает сделаться живой.
Железнодорожная империя
зарастает сорною травой.
***
Из разговоров взрослых было
не ясно детям, что к чему.
Глядели мальчики уныло,
с тоской в заоблачную тьму.
Из многочисленных созвездий
лишь ковш Медведицы Большой,
тот самый, тот, что всех известней,
стоял недвижно над душой.
Как будто острая секира,
ковш над землей был занесен,
а людям так хотелось мира,
был нужен очень людям он.
***
Выйдя на конечной остановке,
у старухи в ситцевом платке
яблоки купил я по дешевке
и принес домой к себе в кульке.
Бережно, как крашеные яйца,
выложив на блюдо из кулька,
яблоками стал я любоваться,
гладить их округлые бока.
***
История – предмет одушевленный,
а не с морского дна окаменелость,
которую, отмыв от грязи черной,
чтоб в руки взять, нужна большая смелость.
Поверишь ли, читая Геродота,
мне весело, мне хочется смеяться
и просвещеньем темного народа
с усердием великим заниматься.
***
Ветер приносит нам вести с полей,
а заголовки газет
выглядят так, словно в годы моей
юности – все тот же бред!
Сколько ни мучился, расшифровать
я ни словечка не смог,
вынужден был, как ни бился, признать –
хитрое дело восток.
Как ни старался, халдейский язык
выучить я не сумел,
клинопись я не разъял, не постиг,
глиною не овладел.
***
Поскольку с нею связаны мы кровно,
я, глядя на окрестные поля,
ничуть не сомневаюсь, что способна
к рукам прибрать нас мать сыра земля.
Как мать – дитя, заспит земля сырая,
навалится всем телом на меня,
мне косточки играючи ломая,
пока не задохнусь от боли я.
***
Девица с румянцем во всю щеку
занимает место рядом с нами.
Нужно быть поэтом, равным Блоку,
чтобы описать ее словами.
Если поэтического дара
кот наплакал у тебя и только,
может быть, тебе нужна гитара,
может, в этом будет больше толка.
Если у тебя гитары нету,
может, не особо будет сложно
сделать вид, купив в ларьке газету,
что тебе читать ее не тошно.
***
Каждый лично может убедиться,
есть ли жизнь в пристанционной роще
или, так как все могло случиться,
от нее одни остались мощи.
Если бы чуть раньше прилетели
к нам на Землю инопланетяне,
когда только-только высшей цели
наконец достигли египтяне.
Лучшей жизни вкус познали греки,
римляне – могущества и власти,
с нами жить остались бы навеки,
а не прочь бежали, бросив снасти.
***
Чуть свет вороны переполошились,
рассыпались сначала по кустам,
а после, как обычно, в кучу сбились,
внутри которой слышен шум и гам.
Как будто в репродукторе железном,
что много лет болтался на столбе
и нам казался вещью бесполезной,
но был по сути дела вещь в себе.
В том смысле, что его предназначенье
загадочно, туманно и темно.
Никто не в силах дать нам разъясненье.
Все, кто был в курсе, умерли давно.
***
Всей полнотой картины насладиться
чтоб мог,
за окнами с утра
снег сыпется, клубится и кружится,
как над поляной искры от костра.
Смотря в окно, я вспоминаю детство.
Заснеженные сосны в полукруг
берут наш дом,
их близкое соседство
мой незаметно отточило слух.
Я слышать стал других детей острее
во тьме ночной сосновых веток стук,
ведь где-то там быть должен по идее
подвешен медью кованый сундук.
***
По осени железная дорога
во тьме ночной становится слышна
достаточно, чтоб отличал немного
я пассажирский от товарняка.
Ритмический рисунок их понятен,
но, в силу самых разных мелочей,
по-человечески мне неприятен
стук тяжких бревен, грохот кирпичей.
Мне по душе веселое застолье
попутчиков случайных в час ночной,
похожее на русское раздолье,
внезапно освещенное луной.
Когда морозом скованные лужи
в ночи блестят, как медные значки,
и, глядя вдаль, мы чувствуем, что туже
уже не затянуть нам пояски.
***
Дождь льет весь день безостановочно,
с утра до ночи льет и льет,
а бабочке, что так беспомощна,
никто на помощь не идет.
Смерти подобно промедление
всего на несколько минут.
Случиться может преступление,
пока я медлю, все умрут.
И стрекоза голубокрылая
травинку выпустит из рук,
и бабочка, подружка милая,
не вынесет душевных мук.
***
На постаменте предо мной
науки деятель известный
так руки прячет за спиной,
как будто человек бесчестный.
– Будь осторожнее, дружок! –
меня жена предупреждает. –
Он за спиной в руках снежок
с железным скрежетом сжимает.
***
Толька дремлет, но еще не спит.
Это я про Тольку-машиниста,
что в кабине поезда сидит
с видом знаменитого артиста.