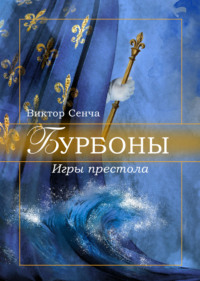Buch lesen: "Бурбоны. Игры престола"
© Сенча В. Н., 2025
© Ждановская О. И., художник, 2025
© ООО «Издательство Родина», 2025
* * *
Введение. Ощущение Парижа
Вечных запахов Парижа
Только два. Они все те же:
Запах жареных каштанов
И фиалок запах свежий.
Дон Аминадо
…Если вам скажут, что на парижских бульварах, где бы вы ни побывали, всюду запах фиалок и жареных каштанов (именно в этом уверял нас Дон Аминадо), не торопитесь спорить. Ведь вступить в словесную перепалку с французом, подвергнув сомнению прелесть его столицы, – всё равно что раздразнить тигра в зоопарке, проскользнув к нему сквозь металлические прутья. Парижане обожают свой город. И понять их можно: Париж и вправду красив, особенно в центральной его части. Здесь много улочек, по которым, вдыхая «каштановый воздух» любимых проспектов, прохаживались Бомарше и Бальзак, Дюма и Гюго. Да и корсиканец Бонапарт был не прочь прогуляться по шальным парижским улочкам (особенно в дни своей лейтенантской молодости), пьяным от революционного угара. К слову, однажды его, приняв за «дворянского сынка», едва не изрубили тесаком при свете дня прямо в центре города.
И вот мы незаметно подошли к главному – к тому самому, о чём в дальнейшем и пойдёт речь. А говорить будем о Франции времён последних Людовиков и Революции, явившейся сокрушительным историческим кульбитом от Монархии к Республике. Что было дальше – тоже известно: Директория, Консулат, Империя Наполеона Бонапарта, Реставрация Бурбонов, «Сто дней», вновь Монархия… Вторая Республика… Вторая Империя… Круговерть! Некое историческое сумасшествие, обошедшееся французскому народу огромными невзгодами и неисчислимыми жертвами.
А потому, шагая по улицам и площадям современного Парижа с думами о тех трагических событиях, у меня перед глазами всё чаще мелькает другой Париж – революционный: с вооружёнными толпами, лозунгами о Свободе, Равенстве и Братстве, разрушенной Бастилией и конечно же – обагрённой кровью Площадью Революции с выставленной там «госпожой Гильотиной», работавшей в те годы с частотой ткацкого станка. Размышления обо всём этом приводят к тому, что я ощущаю себя идущим по огромному полю жаркого ристалища, разыгравшегося здесь два с лишним столетия назад.
Хотя, если копнуть глубже, вся история Парижа окутана дымом полыхающих костров и фимиамом мистики, исходящим от пропитанной кровью земли. И в этом нет ничего удивительного, ведь город начинается… с Гревской площади. Да-да, той самой, которая пять столетий (с 1310 по 1830 г.) служила местом казней. Впрочем, многие называют центром, положившим начало Парижу, крупный остров на Сене с кратким названием: Сите́. Однако остров – он остров и есть. Другое дело – побережье.
Когда-то здесь, на правом берегу Сены, стояли виселицы и так называемый позорный столб, пугая своей ужасающей данью местных обывателей. Правда, отнюдь не чинуш, равнодушно поглядывавших на виселицы из окон городской мэрии, располагавшейся тут же, буквально в двух шагах; скорее – наоборот: зрелище их вдохновляло. Ведь здесь не только вешали, но и отрубали головы, четвертовали, а то и сжигали заживо. Сколько предсмертных криков слышали эти песчаные берега 1; сколько крови было пролито…
В июне 1574 года на Гревской площади был казнён Габриэль де Лорж, граф де Монтгомери, убийца короля Генриха II. Во время рыцарского турнира обломок копья Габриэля случайно впился королю в лицо, войдя в правый глаз и выйдя из уха. Но произошло это за пятнадцать лет до казни, когда Монтгомери предали смерти за измену. Возможно, простили бы и это (граф был очень знатен), но вдова умершего короля Екатерина Медичи сделала всё, чтобы ненавистный враг оказался на плахе.
1589-й. Перед палачом очередной убийца короля (на сей раз – Генриха III) некто Жак Клеман, двадцатидвухлетний монах, зарезавший Генриха кухонным ножом. Убийцу быстро прикончили, но ярость всех была так велика, что, притащив на площадь мёртвое тело монаха, его подвергли публичному четвертованию.
1610-й. На плахе Гревской площади Франсуа Равальяк, школьный учитель из Ангулема, ставший религиозным фанатиком. 14 мая, вскочив на подножку королевской кареты на узенькой парижской улице Рю-де-ля-Ферронри (Rue de la Ferronnerie), он нанёс два удара кинжалом в грудь королю – Генриху IV, убив того на месте. Никакие пытки не заставили Равальяка назвать сообщников. По делам оказалась и казнь: цареубийцу четвертовали с помощью лошадей. По воспоминаниям очевидцев, людская толпа не дала палачу завершить начатое: набросившись на жертву, горожане разорвали тело Равальяка на части…
Бедные французские монархи, занимавшие Трон под именем Генриха!
Но страдали и Людовики – например, Людовик XV, на которого в январе 1757 года у дворца в Трианоне с перочинным ножом набросился некто Робер-Франсуа Дамьен. К счастью, рана в боку для Людовика оказалась не смертельной. Тем не менее Дамьен был четвертован. Мучения приговорённого к смерти продолжались целых четыре часа, однако лошади так и не смогли разорвать тело жертвы. Палач Сансон был вынужден прибегнуть к хитрости, раздробив его суставы…
Гревская площадь видела не только цареубийц. Здесь издревле сжигали еретиков и ведьм. Само собой – умерщвляли всякого рода разбойников, убийц и грабителей. 28 ноября 1721 года здесь колесовали парижского разбойника Луи-Доминика Картуша. В течение четырёх дней после казни по решению властей (взиравших на происходящее всё оттуда же – из окон мэрии) к изуродованному телу подходили любопытные, преждевременно заплатив несколько су.
В мае 1766 году на эшафоте у реки отрубят голову графу де Лалли – французскому генералу времён Семилетней войны. Будучи главнокомандующим во Французской Индии, он сдал гарнизон англичанам. Позже, оказавшись в Париже, был посажен в Бастилию. Суд обвинил его в измене и осудил на казнь…
Именно здесь, на Гревской площади, 25 апреля 1792 года впервые в качестве орудия казни была использована гильотина. Казнили некоего уличного воришку Пеллетье. Толпа, наблюдавшая за происходящим на эшафоте, была разочарована: никаких тебе стонов и криков. Тук – и голова жертвы упала в корзину. Скукотища!
А потом прибрежную сцену кровавых зрелищ переместили в центр столицы – на Площадь Революции, ещё недавно называвшейся Площадью Людовика XV. В том же здании мэрии 27 июля 1794 года (9 термидора II года по республиканскому календарю) будет арестован «зловеще угрюмый и крайне желчный» Робеспьер, «чихнувший в мешок» уже на следующий день.
Однако мы не сказали ещё об одном: а где, собственно, выносились смертные приговоры? Да всё тут же, на реке: во Дворце правосудия на острове Сите. Именно здесь когда-то находилась Большая палата парламента, где Людовик XIV в высоких сапогах и с хлыстом в руке произнёс свою знаменитую фразу: «L’État c’est moi». В годы Революции в этих стенах будет заседать Революционный трибунал. В зале Свободы судили Марию Антуанетту и жирондистов; а в зале Равенства предстали перед судом глашатай Революции Дантон, убийца Марата Шарлотта Корде и неугомонный г-н Эбер…
Те, кто считают, что Париж начинался с острова Сите, ссылаются на его название (в переводе с французского «сите» – «городок», «поселение»). Мол, отсюда-то всё и пошло. И в этом, безусловно, есть толика здравого смысла: город, окружённый глубокой рекой, для любого врага всегда неприступная крепость. Вот и королевская резиденция, начиная от праотца французских монархов Гуго Капета 2, а также первых Генрихов и Людовиков, несколько веков располагалась именно здесь, на острове.
* * *
С годами Париж разрастался, превращаясь в большой, красивый город. В XIV веке король Карл V перенёс свою резиденцию на правый берег Сены – в старую крепость Лувр. Правда, последующие монархи над смелым шагом Карла только посмеивались, предпочитая жить в замках Луары. И так продолжалось до 1528 года, когда Франциск I Валуа, возвратившись из испанского плена, сделал Лувр своей главной резиденцией, превратив цитадель в великолепный королевский дворец. Дело отца продолжил его сын, Генрих II. После трагической гибели последнего на рыцарском турнире (1559 г.) его вдова, Екатерина Медичи, надумала строительство рядом с Лувром нового дворца Тюильри. Генрих IV, ставший королём в 1589 году, принялся за реализацию «Большого проекта», в который, помимо капитального ремонта, входил план по соединению Лувра и Тюильри. И это было блестяще осуществлено: дворцы соединились благодаря так называемой Большой галерее, создав единый дворцовый комплекс.
Когда Людовик XIV «вознамерился воздвигнуть сверкающий алтарь своему честолюбию» Версаль, решив сделать его местом пребывания королевского двора, он временно переехал во дворец Тюильри. Потом, обосновавшись в Версале, король предоставит Тюильри малолетнему наследнику – правнуку, ставшему Людовиком XV. Но, заняв трон, последние Людовики (пятнадцатый и шестнадцатый) окончательно обоснуются в Версале, оставленном им в наследство «королём-солнцем».
Всё изменила Революция. Как только начались волнения, двор Людовика XVI спешно покинул Версаль и перебрался в Париж, во дворец Тюильри, оказавшись по факту под домашним арестом. 10 августа 1792 года восставшие парижане ворвались в королевские покои, объявив о низвержении монархии. Королевскую семью арестуют тремя днями позже, 13 августа; а через пять месяцев (12 января 1793 года) бывшего короля Франции Людовика XVI увезут на казнь.
Казнили тогда на площади Революции, в самом сердце Парижа, откуда французские монархи, прогуливаясь близ Сены, любили разглядывать в подзорную трубу левый берег реки. Да и сама площадь, как уже указывалось, называлась в честь приснопамятного Людовика XV де Бурбона. Зимой 1793 года, когда в карете в сопровождении палача Сансона туда привезут низвергнутого монарха Луи Капета, там скопится невероятное количество народа: накануне было объявлено о предстоящей казни короля. Каждому хотелось пробиться к центру, поближе к «национальной бритве» Революции, как прозвали гильотину.
В те дни казнили часто и помногу. Кровь лилась рекой, а зрелищ было так много, что они уже начинали обывателя утомлять. Но всё равно было интересно, ведь «стригли» самых что ни на есть «неприкасаемых» – короля, его приближённых, знатных дворян, а потом и бывшую королеву Марию Антуанетту, которая, поговаривали, и мухи не обидела… Но времена изменились, а с ними – и нравы.
* * *
В самом центре Монмартра (север французской столицы) находится Площадь Аббатис (Place des Abbesses), где расположена одна из двух сохранившихся в Париже станций метро (Аббес) эпохи ар нуво – со стеклянным павильоном и гимаровскими фонарями 3. К слову, это самая глубокая метрополитеновская станция в городе. В старые времена здесь было аббатство Dames-de-Montmartre. Выйдя на площадь, на вершине монмартрского холма можно увидеть великолепный купол базилики 4 Сакре́-Кёр (Basilique du Sacré-Cœur), или Святого Сердца. Но мы от площади Аббатис по улице Аббес (Rue des Abbesses) отправимся на запад и, дойдя до перекрёстка с улицей Лепик (Rue Lepic), свернём направо. Своё название эта парижская улица получила в честь наполеоновского генерала графа Луи Лепика, который в 1814 году якобы в этих переулках оказал сопротивление русским 5. Вообще-то нам не по пути, но свернуть направо стоило. Ведь именно на Rue Lepic, в доме № 54, некогда проживал несчастный Винсент Ван Гог с братом Тео, о чём свидетельствует мемориальная табличка у входа в здание.
После этого мы вернёмся к перекрёстку и продолжим путь вниз по улице Лепик. Пройдя совсем немного, доходим до площади Бланш (Place Blanche). В переводе – Белая, – площадь своим именем обязана гипсовому камню, который когда-то провозили здесь по пути из местных карьеров. Но главная достопримечательность этого места – кабаре Мулен Руж на бульваре Клиши (Boulevard de Clichy), до которого буквально два шага. Да-да, вы угадали, речь о той самой красной мельнице, в которой, если верить молве, выступают самые красивые танцовщицы мира. «Берлога» Тулуз-Лотрека, где он рисовал «Обжору-Гулю», а заодно и прочих «одалисок». Этот бульвар уникален. В доме № 6 когда-то жил художник Эдгар Дега́; здесь он и умер, на пятом этаже своего жилища. А по соседству – другой дом, № 11: в нём снимал жильё Пабло Пикассо. Здание напротив (№ 12) известно тем, что там, возвратившись из Рима, проживал русский художник Илья Репин…
А мы идём дальше по бульвару Клиши на запад. Выйдя к авеню Рашель (Avenue Rachel), сворачиваем направо и, пройдя под мостом Коленкура, оказываемся перед… кладбищем Монмартр. Официально оно было открыто в январе 1825 года, на месте заброшенного карьера, где раньше добывался гипс (помните площадь Бланш?). Хотя достоверно известно, что данный карьер в годы Великой революции широко использовался в качестве братского захоронения. Позже здесь упокоились многие известные личности, но нам интересен только один человек, могила которого находится не так далеко от захоронения автора «Дамы с камелиями» Александра Дюма-сына. И всё же, если б не юркие экскурсоводы, заманивающие сюда толпы туристов, то бродить пришлось бы до сумерек.
Скульптор, трудившийся над надгробием два с лишним века назад, постарался. Именно поэтому даже сегодня на выбитом временем и местами покрытом мхом мраморе можно отчётливо прочесть: SANSON. Именно здесь похоронен тот самый Сансон 6, знаменитый парижский палач, прославившийся в годы Великой французской революции.
Хотя в том, что под этим старым мрамором именно тот Сансон, есть основания усомниться. Ведь кладбище, как мы помним, появилось значительно позже. Кто знает, может, на этом месте лежит один из сыновей того Сансона, а не он сам. Но если задать кому-то из местных экскурсоводов подобный вопрос, вас обязательно успокоят, заверив, что в этих местах хоронили задолго до официального открытия кладбища. А потому, глядя на замшелое надгробие, невольно приходят мысли о бренности земного бытия. Интересно, что обо всём этом думал сам Сансон, занимавшийся при жизни столь неблаговидным (с морально-этической точки зрения) делом? А вот это неизвестно. Зато хорошо известно другое: чем был занят Шарль-Анри Сансон, находясь «при должности». А занимался он казнями.
После Монмартра перенесёмся поближе к центру Парижа.
Если выйти на площадь Мадлен, то к северо-западу от неё, сразу за церковью Святой Марии Магдалины (парижане называют её Ла Мадлен), идёт бульвар Мальзерб (Boulevard Malesherbes), названный в честь государственного деятеля, а позже адвоката Людовика XVI, защищавшего короля на судебном процессе (но так и не добившегося сохранения его жизни). Вообще, королевских адвокатов было трое: Франсуа Дени Тронше, Раймонд де Сез и Кретьен Гийом де Ламуаньон Мальзерб. Двум первым повезло больше – они выжили в неспокойные революционные годы; а вот последний сложил голову на гильотине вслед за подзащитным. Именно поэтому в честь королевского адвоката назвали целый бульвар. Но это не говорит о том, что парижские власти позабыли увековечить двух других: совсем рядом от площади Мадлен можно найти улицы в честь и Тронше (Rue Tronchet), и Де Сеза (Rue de Cèze).
Впору спросить: но почему эти улочки и бульвар находятся рядом с Ла Мадлен? О, если бы мне кто подобный вопрос задал, я бы с огромным удовольствием снял перед этим «кем-то» шляпу. Потому что вопрос оказался бы аккурат «в десятку». Дело в том, что, пройдя минут десять по бульвару Мальзерб до небольшой улочки Лавуазье (Rue Lavoisier), названной в честь известного химика Антуана Лорана Лавуазье (также угодившего на гильотину), и свернув на неё, впереди можно увидеть небольшую церковь. Это католическая часовня Искупления. Расположенная в тихом (почти сонном) скверике, она не сразу привлечёт ваше внимание, если не знать её историю.
А история этого места такова. Здесь когда-то было епископское кладбище. Ну а часовня появилась позже, при Людовике XVIII, дабы почтить память августейших родственников – Людовика XVI и его супруги, Марии Антуанетты. Почему именно здесь, спросите? Да потому, что как раз сюда, на старое епископское кладбище, в разгар Большого Террора свозили тела (и головы) казнённых на гильотине граждан. Не стали исключением и король с королевой, тела которых были привезены сюда на обитых жестью «красных фургонах». Монарших особ (с разницей в несколько месяцев) сбросили в общие ямы. Точно так же поступили с мадам Дюбарри, принцессой Ламбаль, Шарлоттой Корде, Дантоном, Лавуазье и прочими. Жертвы «госпожи Гильотины» (что-то около трёх тысяч человек) оказались в общих могилах на старом епископском кладбище. Именно поэтому здесь позже и появилась часовня Искупления. Знающие люди утверждали, что алтарь часовни находится как раз в том месте, где отыскали останки короля и королевы 7. В январе 1815 году, когда Наполеон находился в ссылке на острове Эльба, Людовик XVIII повелел перенести останки казнённого монарха и его жены в собор Сен-Дени, в усыпальницу французских королей. Ну а в часовне Искупления о жертвах террора сегодня напоминают скульптуры Людовика XVI и Марии Антуанетты, а также Шарлотты Корде.
14 июня 1794 года (25 прериаля II года Республики) гильотину по требованию парижан (из-за невыносимого запаха) перенесли на городскую окраину – на площадь Опрокинутого Трона (бывшую Тронную), а ныне – Насьональ (Place de la Nation), где за каких-то полтора месяца «rasoir national» («национальной бритвой») было «подстрижено» почти полторы тысячи голов. Получается, казнили не менее трёх десятков человек за день! Как оказалось, это не так уж много. В те лихие дни Шарль-Анри Сансон со товарищи (у палача было несколько помощников) в один из дней за 24 минуты отсёк 54 головы!
На сей раз «красные фургоны» тащились не в сторону епископского кладбища, а к другому погосту, что поближе к месту казни. Теперь тела закапывали на территории нынешней улицы Пикпюс (Rue de Picpus). Здесь, у дома № 35, когда-то находился монастырь августинцев. В годы Революции августинцев разогнали, монастырь реквизировали под нужды якобинцев, организовав (что было абсолютно в духе революционных нравов) в монастырских стенах тюрьму. Узилищу даже придумали название: «Дом заключения и здоровья». Насчёт здоровья стоит добавить: его (а также и жизнь) удавалось сохранить лишь тем, кто вовремя подсовывал взятку начальнику тюрьмы – господину… Впрочем, не важно, как звали того господина – важнее другое: тех, у кого не хватало золотых, бездушный мздоимец безжалостно отправлял на гильотину. Здесь, на монастырском кладбище, обезглавленные тела жертв гильотины, обобрав до нитки (в прямом смысле – разув и раздев донага), также закапывали в общих ямах. В Пикпюсе обрели покой поэт Андре Шенье, Робеспьер и Сен-Жюст.
В наши дни кладбище Пикпюс и бывшая тюрьма вновь принадлежат монахам. О былом напоминает лишь мемориальная доска у входа на погост. В списке гильотинированных (говорят, далеко не полном) 1298 имён.
O tempora! O mores!..

Часть первая. Величие престола


Глава I. «Государство – это я!»
Трон предназначен для сильного.
Людовик XIV
Власть вездесуща; не потому, что она охватывает всё, но потому, что она исходит отовсюду.
М. Фуко

…Мазарини покинул бренный мир чертовски вовремя. Случилось это в третьем часу ночи 9 марта 1661 года. Кардинал будто чувствовал, что его время прошло. Хотя почти не болел: мастер политических интриг, итальянец выдохся 8. Впору кричать: «Le roi est mort, vive le roi!» 9. Только никто делать этого не будет – не по чину, да и не по праву. Разве что – по заслугам. Но и по заслугам никто не посмеет пискнуть. Потому что король только один, а прочих… Когда говорят о короле, о прочих стараются не вспоминать.
Людовик XIV любил итальянца, но только отчасти. Когда умер отец, Людовик XIII, его заменил малолетнему монарху именно Мазарини. Вот и принц Конде 10, принёсший Франции победу в Тридцатилетней войне на кончике шпаги (подаренной юному королю), пытался стать самым близким из родственником, но в результате оказался врагом.
А Мазарини… Он был мудр как филин и хитёр как лис. Выдержанный по природе и воспитанию, кардинал умел слушать и вовремя подсказать. Мазарини почти всегда был рядом и многому научил. Крёстный сумел стать для Людовика другом. Именно он готовил юнца к непростому поприщу монарха.
– Мало стать королём – нужно уметь быть им. И при этом – суметь удержать власть! – не раз повторял наставник.
Задевало другое: Мазарини был любовником его матери. При дворе шептались, что королева и кардинал тайно обвенчаны. Хотя достоверность информации вызывала сомнение даже сейчас.
Вот что по этому поводу писала в своих «Мемуарах» принцесса Пфальцская:
«Королева-мать, вдова Людовика XIII, не желая быть просто любовницей, вышла замуж за кардинала Мазарини, который не был посвящен в сан священника и поэтому не принимал обета безбрачия. А кроме того, известны все обстоятельства их совместной жизни. До сих пор в Пале-Рояле существует тайный ход, через который кардинал каждую ночь навещал королеву в ее покоях. И старуха Бове, первая камеристка королевы, ее самое доверенное лицо, была посвящена в тайну их бракосочетания» 11.
Впрочем, можно было простить даже и это, а вот абсолютное всевластие – никогда! Долгие годы Мазарини пользовался выторгованной у Анны Австрийской неограниченной властью. Кто знает, не будь у Трона кардинала, возможно, не было бы никакой Фронды. Да, Мазарини вышел из поединка победителем, но он победил тех, кто воевал не с Троном, а лично с кардиналом.
Юный Людовик знал из истории семьи, как его отец, Людовик XIII, разделался с любовником своей матери, Марии Медичи. После убийства в 1610 году Генриха IV его жена завела себе фаворита – итальянца Кончино Кончини, ставшего маршалом д’Анкром. В течение семи лет этот проходимец, по сути, управлял Францией. Когда отношения королевы вышли за рамки приличия, пятнадцатилетний Людовик XIII распорядился Кончини убить. Утром 24 апреля 1617 года маршал в сопровождении полсотни лиц прибыл в Лувр. Навстречу ему вышел гвардейский капитан Николя Витри 12, по приказу которого было произведено три выстрела: одна пуля угодила жертве в лоб, другая в щёку, а третья – пробила горло. Самозванец скончался на месте.
Но когда умирал Мазарини, Людовик не преминул с ним попрощаться, хотя по закону король не должен был присутствовать рядом со смертью. И кардинал это оценил.
– Берегите права церкви, Сир, – шептали губы умирающего. – Уважайте дворян, будьте щедры к ним… Судьи – они не должны превышать своих полномочий… Министров назначайте по их талантам… Кольбер может стать Вам, Сир, хорошим помощником…
Каждое слово крёстного король воспринимал как наставление. Мазарини был тем человеком, к наставлениям которого стоило прислушаться – ведь рано или поздно они могли пригодиться…
И всё же, крайне честолюбивый, Людовик XIV с малых лет не выносил, когда им повелевали. Однажды он поссорился с матерью и надулся. Видя такое дело, королева, обращаясь к сыну, сказала:
– Некрасиво, когда король дуется и не говорит ни слова…
На что Людовик ответил:
– Настанет день, когда я буду говорить так громко, что заставлю себя слышать!..
Анна Австрийская возмутилась ответом сына. И она решила поставить дерзкого отрока на место:
– Должна вам напомнить, сын мой, что у вас власти нет, а у меня – есть. Вас, похоже, давно не пороли. Хочу сказать, что в Амьене можно выпороть точно так же, как и в Париже…
В тот раз Людовик смолчал. Но позже не раз напоминал разговор об Амьене и Париже постаревшей матери…
* * *
В середине XVII века Франция находилась на грани всеобщей смуты: её подданным надоело жить под управлением двух иностранцев – испанки и итальянца. Именно из-за них, считали французы, низкие доходы, высокие налоги и голод в городских трущобах. И Людовик никогда не забудет тот день, когда чернь ворвалась во дворец, потребовав у матери-регентши показать им малолетнего короля. Сонному крошке-Луи тогда показалось, что незнакомые люди пришли убить его. Он готов был заплакать, но от страха не смог даже этого.
Дух хаоса витал над Парижем. Горожане устали от кардинала-регента и требовали, чтобы их наконец освободили от «Мазарана». Даже военные – и те были вечно недовольны. Маршал Тюренн 13, не стесняясь, заигрывал с испанцами. Дабы сохранить жизнь, Двор, срочно собравшись, сбежал в Рюель. Но французы продолжали негодовать, требуя ухода «Мазарана». В августе 1648 года разъярённые парижане, выкатив из винных погребов пустые бочки, принялись сооружать баррикады 14. На улицах загремели ружейные выстрелы…
Всё закончилось в октябре 1652 года. Именно тогда Людовик вернулся в Париж, где его встречали с поклонами в пояс и цветами. Через несколько месяцев появился и Мазарини – «как триумфатор, покрытый славой». Фронда проиграла. Но чем дальше взрослел Людовик, тем больше понимал, как всевластный «итальяшка» связывал руки.
Когда итальянец умер, Людовику XIV шёл двадцать третий год. Настала пора управлять самостоятельно. Единолично, без чье-либо поддержки. Хватит регентов – будь то мать или какой-нибудь заезжий кардинал. Пора становиться самостоятельным, не всегда же жаться к материнской юбке. Следует взять себя в руки, пытался взбодриться Людовик.
И он взбодрился. Уже на следующий день после смерти Мазарини (в семь утра 10 марта) Людовик собрал в Венсеннском замке Государственный совет и заявил:
– Господа, я созвал вас, чтобы заявить: отныне управление делами уже не принадлежит покойному кардиналу. Мне пора править самому. Вы будете давать мне советы, когда я об этом попрошу. И прошу запомнить: престол – становой хребет государства, на котором зиждется закон, порядок и благополучие королевства. Кто думает иначе – либо безумец, либо враг. Престол – как ось для колеса: без неё не двинется с места ни богатый экипаж, ни самая убогая телега. Надеюсь, вы меня поняли: Трон принадлежит мне, поэтому управлять государством я буду самостоятельно.
– Но Ваше Величество… – подал голос один из министров.
– Никаких «но»! И вот мой первый приказ: принятие всех законов – исключительно с моего повеления! Я запрещаю вам что-либо подписывать – даже копию документа! Всё – по моему указанию. Перемена декораций, господа! У меня будут иные принципы управления государством и финансами. Переговоры за рубежом тоже следует вести иначе…
Итак, Мазарини – в прошлом. Первым министром будет… он сам. Ведь первые министры думают всегда об одном – о Власти, – не понимая, что обладать истинной ВЛАСТЬЮ может только монарх. КОРОЛЬ. И никто больше! А от временщиков… один хаос.
Позже Людовик вспоминал: «Хаос царил повсюду… Все имевшие высокое рождение или высокий пост привыкли к бесконечным переговорам с министром, который сам по себе отнюдь не испытывал отвращения к такого рода прениям, более того, они были ему необходимы; многие вообразили, что у них есть право на нечто, что якобы должно соответствовать их достоинству; не было такого губернатора, который не испытывал бы отвращения к занятию текущими делами, любую просьбу сопровождали или упреками в прошлом, или намеком на будущее недовольство, о котором заранее предупреждали или которым даже угрожали. Милости скорее требовали и вырывали силой, чем ожидали… милости не подразумевали более обязательств. Финансы, обеспечивающие деятельность всего огромного тела монархии, были полностью исчерпаны, причем до такой степени, что едва ли можно было представить себе источник их пополнения» 15.
С финансами король, конечно, погорячился. Людовик был слишком юн, чтобы разобраться в сложнейшей финансовой паутине. Единственное, что он мог – рассуждать о состоянии дел в государстве по сплетням, слухам и докладам царедворцев.
Кстати, о царедворцах. Мазарини ушёл, но осталось то, что им было создано – государственный механизм. Этакий отлаженный аппарат от монсеньора Кардинала, работавший как хорошие часы. Часовщик умер, но часы продолжали исправно тикать. И вот Людовик, не разбиравшийся ни в механизме, ни в циферблате, с ребячьей наивностью решил залезть внутрь агрегата и обстоятельно там всё перебрать. Хотелось единственного: заставить часы работать исключительно по своему желанию.
Самыми важными «шестерёнками» государственного механизма (и монарх это знал) были две – вернее, двое: сюринтендант финансов Николя Фуке́, виконт де Мелен и Во; и интендант финансов Жан-Батист Кольбе́р.
Николя Фуке начинал карьеру армейским интендантом, немало преуспев на этом поприще. Старательный интендант не остался незамеченным, и в 1650 году Мазарини доверил ему высокую должность генерального прокурора Парижского парламента. Но и это, как оказалось, было только началом взлёта – некой подготовкой к главному. А главное – это деньги. Когда через несколько лет ключевую во многих отношениях должность генерального контролёра финансов разделили (на приходную и расходную), Фуке был поставлен на чрезвычайно ответственный пост ответственного за поступлениями в казну. И здесь он показал себя подлинным виртуозом своего дела. Свидетельством этого явился тот факт, что вскоре Мазарини поручил ему отвечать за все финансовые потоки государства. Таким образом, Николя Фуке, став по факту главным казначеем, оказался «главной финансовой шестерёнкой» государственной машины.
Но была и другая – интендант финансов Жан-Батист Кольбер. Кольбер – это даже не «шестерёнка», а своего рода пружина, от действий которой зависело, будет работать механизм или нет. Он считался талантливейшим экономистом. Это был тот самый Кольбер, про которого Мазарини, умирая, сказал королю:
– Государь, я обязан Вам всем. Но, смею заметить, я рассчитался, Сир, оставляя Вам Кольбера…
И Мазарини оказался прав: Кольбер показал себя отменным профессионалом. К моменту вступления его в должность контролёра финансов государственный доход составлял 89 миллионов ливров 16. И на эти деньги королевство могло хорошо жить и развиваться, если бы не одно «но»: долги! Они тянулись ещё с монархов династии Валуа – от Карла IX и Генриха III; не смог погасить их ни Людовик XIII Справедливый, ни вездесущий кардинал Ришельё.
Любой долг, если его не погашать, имеет одну особенность: он начинает расти со скоростью снежного кома. И об этом Людовик-Солнце хорошо знал, впрочем, как и Мазарини. Именно поэтому, погашая старые королевские долги, в распоряжении короля оставалось не 89, а почти в два с половиной раза меньше – всего 37 миллионов. И разбираться с этим как раз и было поручено Кольберу. К радости Людовика, с этой задачей тот блестяще справился! К концу его деятельности (Кольбер скончается в 1683 году), доход Франции вырос до 105 миллионов ливров при минимальном дефиците бюджета 17.