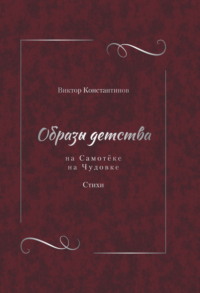Buch lesen: "Образы детства: На Самотёке. На Чудовке. Стихи"

© Издательство «Перо», 2025
© Константинов В. И., 2025
Детство на Самотёке

В Москве на холме над Самотёчными родниковыми прудами когда-то было основано подворье Троице-Сергиевой Лавры.
Теперь это место на Садовом кольце называется Самотёчной площадью, в просторечье – Самотёкой.
Вокруг Троицкого подворья образовалось несколько небольших Троицких и Лаврских переулков.
В 20-х годах подворье разорили, и захватили хозяйственные службы ГПУ-НКВД. Кельи отдали под ведомственное жильё и ведомственный детский сад. По воскресеньям в скверике подворья стал играть духовой оркестр.
Самотёка, остатки подворья Лавры – моя милая маленькая родина.
Слова «2-ой Троицкий переулок, дом 6–Б» – звучат для меня сладкой музыкой.
Чтобы попасть на территорию подворья, надо было из переулка пройти или въехать сквозь арочную подворотню большого красивого дома с узорным фасадом – надвратного корпуса. За подворотней широкая асфальтированная площадка. Налево между домов виден купол церкви, направо – дорога между большими газонами, ведущая к какому-то учреждению, которое во время моего детства называли «министерством».
Прямо – двор серого пятиэтажного дома в виде буквы П. Это дом, в котором я «родился».
Замкнутый тремя стенами дома двор моего детства был наполнен играющими детьми.
– Я садовником родился, в незабудку я влюблён…
– Тише едешь – дальше будешь…
– Что мы видели, не скажем, а что делали, покажем…
– «Да» и «Нет» не говорите…
– Тише едешь – дальше будешь!
– Чур-чур меня, чур-чур меня…
Над кучкой детей взлетает мяч с криком:
– Штандар!
Играли в пряталки, в салки, лапту… Девочки чертили мелом на асфальте классики, прыгали по клеткам на одной ножке, спрашивали: «Мак»? И отвечали: «Мак»! Или – «Дурак!»
Из окон часто слышались женские крики:
– Вова, домой!
– Саша, обедать…
Я ещё маленький и не играл с другими детьми. Только смотрел, заложив руки за спину. Или сосал указательный палец. Или ковырял им в носу.
– Палец сломаешь! – предупреждал папа.
Совсем недавно кончилась война.
В дни получек мужчины шли домой улыбчивые, под хмельком.
Первые впечатления
Просыпался в темноте, первый раз в жизни, и какое-то время лежал на спине с открытыми глазами. Вдруг на потолке появлялись световые яркие беспорядочно движущиеся полосы и фигуры. Останавливались, опять двигались и пропадали. Что такое? Страшно. Темно, засыпаю.
И так почти каждую ночь меня на потолке посещало загадочное световое представленье. Мне страшно, но у меня ещё нет слов, вообще нет никаких слов, чтобы рассказать маме, спросить, что это такое? Я ещё не умею говорить, могу только видеть. Страшное и притягательное.
Немного повзрослев, научившись ходить, я сам догадался, в чём дело. Ночью в подворотню въезжали легковые автомашины и светили фарами прямо в наше большое круглое окно.
В доме жили служащие НКВД разных рангов и простые хозяйственные работники. Кто-то возвращался домой ночью на служебных машинах, за кем-то приезжала дежурная машина.
После того, как я увидел праздничный салют, а тогда после каждого залпа в чёрном небе начинали кружиться прожектора, световые круженья на потолке напоминали мне прожектора салютов.
Пока мы жили на Самотёке, продолжались эти ночные видения чёрно-белых калейдоскопов на потолке.
Проснулся и увидел сквозь сетку кроватки, что моя кроватка отодвинута от стены, почему-то ставшей голубой и ещё в каких-то серебряных узорах. Рядом кто-то тихо переговаривается.
Повернулся на бок, две незнакомые тёти в блёклых с пятнами краски комбинезонах катают по голубой стене серебристый валик на палке, а валик оставляет на стене ажурную серебристую дорожку.
Лежу тихо и разглядываю завитки поблёскивающего узора. Узор между полосами от валика чуть сдвинут.
Мама принесла меня в ванную комнату и посадила в оцинкованное корыто с высокими бортами. Тёмное окно ванной матовое от пара. Мама доливает из кастрюли в корыто горячую воду.
– Мама, горячо!
– Да где? Вот, трогаю рукой…
– Горячо! – кричу я. Мама забыла, наверно, что моя младенческая кожа гораздо чувствительней её руки.
– Горячо! – ору я в отчаянии…
Из ванной мама несёт меня в белой простыне, укладывает в пахнущую свежестью постель. «В постельку». Тепло, уютно в кроватке с мягкими сетками по бокам. Ещё горит настольная лампа – косая полоса света на стене – брат делает уроки. Взрослые разговаривают вполголоса – чтоб не мешать и мне, и брату – убаюкивающе!
Часто, проснувшись, слышу звонкие звуки хрум-хрум, хрум-хрум! Мама что-то кроит на столе, большие ножницы одним концом упираются в стол, и это усиливает звук. Хрум-хрум! Хрум-хрум!
Мама не говорит «ножницы, а «ноженки». И «рученьки, ноженьки». Я тоже: – Мамулька, расстегни пуговку.
Она разрешает потрогать на груди гранёные стеклянные «бусики». Внизу они крупные, а в верх к шее становятся всё меньше и меньше. Самые крупные приятно трогать и брать в рот.
– Ах, ты мазурик!
Живот болит. Мама щиплет спинку: – У кошки боли, у собаки боли – у Витика подживи!
Если обо что-то ударился, прошу: – Подуй!
Холодок воздушной струи снимает боль.
Соринки и реснички из глаза мама вылизывает языком.
Папа пахнет взрослостью, табаком. У него щёки шершавые, колючие. Он подносит меня к выключателю с двумя круглыми кнопками. Нажимает на белую, красная выскакивает со щелчком – а под абажуром загорается лампочка. Я смеюсь.
Папа нажимает на красную кнопку, выскакивает белая – лампочка гаснет. Я тяну руку к белой кнопке и нажимаю изо всех сил, лампочка загорается, я смеюсь.
Пристаю: – Популька, покатай на лошадке.
Папа сажает меня на колени и начинает трясти: – Цок-цок, цок-цок… Вдруг колени раздвигаются – я проваливаюсь в бездну, дух захватывает! Хохочу и прошу: – Ещё! Ещё!
Руки от сна затекли, по ладоням бегают мурашки. Пальцы не сгибаются. Цепляюсь за сетку, ограждающую кроватку. Вдруг весёлый мамин голос:
– Витик! Вставай-ка! Посмотри в окно – зима! Первый снег!
Первый снег! Что такое первый снег?
Боковая сетка снимается, но я уже умею сам перелезать через верх на подушки большой кровати.
В белой рубашонке встаю на низкий ребристый радиатор под окном и просовываю голову между цветочными горшками. Кроме неба мне видны только крыши боковых крыльев нашего дома и крыша противоположного – они совершенно белые. Ночью выпал снег, вот отчего так светло в комнате.
Мама несколько раз трёт моё лицо мокрой ладонью, потом – полотенцем. Надевает на меня пояс для пристёгивания чулок, потом надевает чулки и пристёгивает их застёжками, которые потом оставляют на чулках пупырышки.
Забираюсь на высокий детский стул. Мама ставит на стол передо мной блюдце с варёным яйцом всмятку и кромсает его маленькой ложкой со стуком по блюдцу. Я жду, серьёзный.
Неуклюже сжимая ложку в кулаке, медленно ем, сопя и пачкая щёки желтком.
Мама размешивает в гранёном стакане с чаем крупный песок, со звоном «колокольчика», как я прошу. В стакане кружится снежная вьюга, метель.
Если папа дома, то кипяток наливает он, поднимая большой чайник над стаканом как можно выше, а я кричу:
– Выше! Выше!
Мне нравится смотреть на длинную блестящую струю.
У нас квадратная комната. Главная её особенность и примечательность – большое круглое окно не меньше метра в диаметре, разделённое крестом рамы на 4 равные открывающиеся части.
Посреди под большим абажуром квадратный стол. Справа от двери железная, с блестящими штучками на спинках, кровать папы и мамы. В углу моя детская кровать. У правой стены – трёхъярусная этажерка набитая книгами, за ней небольшой диван с откидывающимися валиками по бокам, на нём спит сестра Нина. На полке дивана стоят белые разрозненные слоники, другие фигурки, пустая коробка от печенья с красивой картинкой и круглый будильник.
За диваном стул и круглый столик со стопкой журналов и книг. Над ними отрывной календарь с портретом Сталина на подложке.
Прямо под окном ножная швейная зингеровская машинка с надписью «Союзмаш». Около левой стены простая железная кровать старшего брата, старый большой гардероб с нижними выдвижными ящиками.
Около самой двери – большой деревянный сундук. Над ним, в углу, висит круглый чёрный репродуктор проводного радио. Запомнилась маршевая музыка на 1 Мая, а позже – сообщения с войны в Корее о подбитых танках, самолётах и т. д. Но, наверно, невольно в сознание западала классика, народная музыка и красивые лирические песни.
Спинку дивана, этажерку, полки под горшками с цветами у окна и всё остальное всегда украшали мамины рукоделья – вышитые салфетки, подушки и связанные ею кружева.
Семья пять человек, но я не знал, что мы живём в тесноте, поскольку жили не в обиде. Брат старше меня на 8,5 лет, а сестра старше на 3,5.
«Чердак»
В детстве казалось, что всё всегда было таким, как сейчас. Всегда такими были папа и мама, всегда был таким дом, двор, комната, в которой мы живём. Я всегда был маленьким и всегда таким буду. Всегда будет наш шумный двор, игры, беззаботность…
Райское сознание детства.
Не мог и представить, что родители тоже были маленькими, родились и жили в молодости в деревне.
Дед, работавший плотником-отходником, потом прорабом (десятником, по-старому) обосновался в Москве. Перед самой коллективизацией перевёл в Москву всю семью. Его старшие сыновья поселились на Троицком подворье в отдельных комнатах в полуподвале бывшей двухэтажной монастырской пекарни из узорного кирпича, её называли «Красным домом». В одной комнате с окнами под потолком жил мой отец с мамой, в другой дядя Коля.
Тогда в Москве все полуподвалы были жилыми, заполнены бежавшими от коллективизации «понаехавшими» из деревень крестьянами.
В 30-е годы в самом центре подворья стали строить ведомственный пятиэтажный дом в виде буквы П. Руководил стройкой мой дед, отец тут же работал плотником, а дядя Коля слесарем.
В 41-ом году отца и дядю Колю мобилизовали. Мама, испуганная бомбёжками Москвы уехала с трёхлетним сыном на родину в костромскую деревню. В начале 42-го перед отправкой на фронт отцу дали отпуск, он ездил в деревню к маме, и в 43-ем там родилась моя сестра.
Наголодавшись в деревне, мама вернулась в Москву. Комната в полуподвале оказалась разграбленной, холодной, сырой. Папа был на фронте. Весной подвал заливало так, что на полу стояла вода и ходили по подставленным кирпичам. Сестра Нина помнит, как её по этим кирпичам носили под мышкой на улицу и обратно. Жить с двумя маленькими детьми было невозможно.
Кто-то посоветовал маме написать письмо Сталину. В ответе на письмо ей предложили комнату в Текстильщиках, по её словам, у чёрта на куличках. Она отказалась и написала второе письмо. Предложили комнату в Серебряном Бору. Она опять отказалась. Потому, что около воды. (Однако!..) Боялась, что маленькие дети могут утонуть.
Кто-то посоветовал написать письмо с помощью адвоката.
Но тут надо сделать некоторое пояснение. Когда строился по проекту пятиэтажный дом в виде буквы П, архитектор решил, или разрешил, добавить в средней части шестой этаж для конторы деда. И при этом во всех пяти комнатах, поставили большие круглые окна. Может быть, архитектор хотел посмотреть, как это будет выглядеть. Во всяком случае, на построенном позже около Лубянки клубе КГБ и здании «Известий» на Пушкинской площади окна верхнего этажа точно такие же, круглые.
И представьте себе – в этом доме, который строили дед, отец и дядя Коля, маме и дали комнату в пристроенном шестом этаже. К этому времени здесь уже была квартира с газовыми плитами на кухне, ванной, но, конечно, с холодной водой. В ванной была газовая колонка, но ею почему-то не пользовались.
Круглые окна делали наш дом и нашу комнату особенными, неповторимыми. Отец в шутку называл новое жильё «чердаком». Взлёт из подвала – на чердак!
С войны папа привёз два небольших чемодана. Один самодельный фанерный, второй железный, чёрный, от немецких мин, с округлыми углами и интересными запорами-защёлками. Из всего, что он привёз в чемоданах, я видел только белое долговечное полотенце, мы им очень долго пользовались. Ещё неисправные карманные часы, вообще не послужившие. И, может быть, кое-какие инструменты (если они не сохранились с довоенных времён) – сапожные, маленькие часовые отвёрточки и разные плоскогубцы, клещи.
Ещё привёз польские открытки с видами Быдгоща, и одна – китайская, с японской войны.
Пушкин писал – бывают странные сближения. В Монголии часть отца стояла на станции Баян-Тумэн около г. Чойбалсана. Об этом он писал в сохранившемся письме. И надо же было тому случится, что в тех огромных пространствах тайги и пустынь мне довелось две трети двухгодичной службы в армии провести на этой самой тупиковой станции.
Это так, к слову.
К слову уж добавлю ещё одно.
В комнате с круглым окном, с рамой в виде креста я увидел белый свет, солнце, а крест в круге – древнейший знак солнца. Там, на «чердаке», возникло чувство дома – от кроватки, от пола, из под стола, из-под кровати. Оттуда мир стал расширяться – коридор, двор, переулок, Москва…
Но ещё до ТОГО…
В 43-ем на Ленинградском фронте отец был тяжело ранен осколком снаряда в голову. Словно о нём песня «Но вот под осколком снаряда упал паренёк костромской…» Не могу вспоминать эти строки без мокрых глаз. Две недели лежал без сознания. Наверно, папа любил эту песню «А ну-ка дай жизни, Калуга, ходи веселей, Кострома!» Выжил, может быть, только мамиными молитвами. В послевоенные годы у него случались потери сознания («припадки», мамино слово).
На весенней многолюдной Сретенке маму, беременную мной, сбила машина, толкнула так, что мама упала. Шофёр выскочил поднимать. Обошлось. Но – удар, испуг, падение… Наверно, и во мне что-то стряслось. Первая встреча с земным миром.
Вроде бы, отделался небольшим родимым пятном на попке, как мне говорили. Сам не видел.
Думаю, всё это вошло в меня, отразилось во мне, на моей психике, на моём характере, и судьбе.
Мне было года два. Я и Нина заболели коклюшем. Кто-то посоветовал – надо переехать большую воду. У тёти Кати были знакомые недалеко от Калязина в деревне Доскино.
Помню лишь обрывки. Идём с папой и мамой через редкий березняк к Волге. С невысокого зелёного обрыва я бросаю в воду палочки. Дальше провал в памяти. Мама рассказывала – так сильно бросил палку, что сам полетел в воду. Папа сразу вытащил.
Солнечный день. Идём с папой за ручку по дороге вдоль леса. Вдруг из леса громкие страшные звуки: – Ау! Ау!..
Я испугался, прижался к папе.
– Папа, кто это?
– Не бойся, это люди кричат друг другу, чтобы не потеряться.
Ночью над Волгой разразилась страшнейшая гроза. Перепуганные хозяйка и мама разбудили всех детей, одели и посадили на чемоданы. Мы сидели в комнате при включённой лампе готовые выскочить при пожаре. В тёмные окна хлестал ливень, шумели деревья, сверкала молния, а над домом, пугая нас, то и дело грохотали сильные удары грома.
В комнате
По воскресным утрам папа полёживал в постели, наслаждался возможностью спокойно полежать.
– Пап, я к тебе.
Перелезаю из своей кровати, на родительскую, забираюсь к нему под зелёное одеяло. Трогаю щетину на щеках, ищу в волосах маленькую ямку над ухом, след от осколка, и прошу рассказать о войне. Он отнекивается, отговаривается. Что и как можно рассказать ребёнку?
Тепло, мир, воскресенье…
Иногда после завтрака папа надевает солдатские брюки галифе с узким кожаным ремешком, садится под окно на скамеечку и открывает фанерный чемодан, чтобы ремонтировать ботинки или мамины туфли, сандалии. Или шить нам всем тапочки.
В чемодане много всяких интересных вещей – кривое острое шило, чёрный вар, маленькие железные гвоздики, деревянные гвоздики, мотки дратвы, сапожный молоток, сапожный нож, железные и деревянные штучки, коробочки… Но папа не разрешает ничего трогать.
У него есть сапожная нога, деревянные колодки. Он режет кожу, подбивает подошвы деревянными гвоздиками, меняет и подтачивает рашпилем каблуки, смолит дратву, приделывает к ней щетинку и, как иглу, продевает в дырки на подошвах…
Я играю щёлкающими замками железного чемодана от мин. Время от времени подбираюсь сзади и что-нибудь беру из его вещей, папа сердится.
Деревянные гвоздики он делает сам, раскалывая берёзовый кругляшок на тонкие пластинки, а потом заостряет один край пластинок и колет пластинки на квадратные заострённые гвоздики. В книге брата есть картинка первого поселения на месте Кремля – не знаю почему, я понимаю, что это макет, и его частокол сделан из таких вот гвоздиков. От этих деревянных гвоздиков во мне родилась любовь к макетам домов, церквей, парусных кораблей.
Папа горячится и раздражается, когда ему мешают, особенно, если что-то не получается.
Мы с сестрой часто надеваем тапочки или сандалии не аккуратно – ленимся наклоняться и придерживать задник пальцем. Специальных ложечек не было, защемлять палец не хотелось, особенно, если тапочки тесные.
– Сколько раз вам надо говорить – не мните задники?
У мамы тоже есть интересные вещи в швейной машинке – напёрстки, разноцветные пуговицы, катушки, шпульки, длинный мягкий «сантиметр» жёлтого цвета. Мне нравится закручивать его в колёсико.
Мама часто произносит слова: булавка, иголка, выкройка, крепдешин, ситец, драп, спицы, пяльцы. Мне нравится качать педаль под машинкой и крутить вхолостую большое колесо.
Тёплый осенний вечер, половинка окна открыта, за окном наступающие сумерки. Свет уже включили. Брат и сестра гуляют во дворе.
Я сижу в комнате на горшке, вдруг зачесалась спина.
– Мама! Глист по спине ползёт.
Она поднимает клетчатую рубашонку, гладит спину.
– Ну, где? Нет ничего.
Только отошла от меня – чувствую по спине что-то ползёт.
– Мама! Глист!
– Ну, нет же ничего! Бог с тобой!
А мне всё кажется…
Выпили чай под абажуром – папа, мама и я. Пробираюсь к окну посмотреть, что видно в уже тёмном, но ещё с ребячьими голосами дворе. Мама гонит меня от окна:
– Нельзя после чая высовываться – простудишься.
К маме пришла какая-то женщина, угощала меня конфетой, а я спрятался под кроватью, и ни за что не хотел вылезать, лежал за кружевным пологом. Ко мне наклонялись, давали конфету, я отползал к плинтусу, жался к стене. Уговаривали, уговаривали… не вылез. Маме было очень неудобно за меня.
Раза два или три мне снился один и тот же страшный сон. Дверь приоткрывает лохматое чудовище-великан, хочет пролезть из коридора и схватить меня. От страха не могу закричать, нет голоса. Не могу бежать, ноги не слушаются… просыпаюсь.
Первая игрушка, которую я увидел – стоявший на полке дивана заводной физкультурник на турнике. Когда его заводили ключиком, он начинал крутиться и проделывать упражнения. Ещё у нас был маленький деревянный ванька-встанька. У сестры – маленькая, называвшаяся пупсиком, кукла-голышок, сидящая в корыте.
Новый железный заводной воробей прыгал на тонких ножках по столу и всегда пытался спрыгнуть со стола.
Однажды папа принёс деревянного некрашеного коня на деревянных колёсах. Думаю, он его сделал сам в дровяном сарае за «Красным» домом, в полуподвале продолжали жить дядя Коля с женой тётей Люсей.
У самодельного коня была тонкая вырезанная голова, а вместо хвоста небольшая спинка сзади, чтоб не соскальзывать. На коне можно было двигаться в комнате. С этим конём я играл несколько лет, переворачивая и превращая его то в машину, то в самолёт.
Как мы жили
Когда у папы что-то получалось хорошо, он говорил:
– Мастер Пепка делает крепко!
Чтобы похвалить говорил:
– Сделано на ять!
Папа любил шутливый тон, знал много всяких приговорок: – с гаком; ни тпру, ни ну; фу-ты, ну-ты, лапти гнуты…
Приходит после работы: – Здорово живём!
Поест: – Спасибо этому дому, пойдём к другому.
Спать ложится: – Спокойной ночи, спать до полночи, а с полночи кирпичи ворочать.
Накурено: – Хоть топор вешай!
Часть поговорок он привёз из детства, из деревни, а часть – из армии.
– Пап, можно…
– Можно, только осторожно.
– Пап, вкусно?
– Язык проглотишь!
– Пап, много?
– Вагон и маленькая тележка.
– Пап, а арбуз с чем есть?
– С таком!
Я часто кричал «я сам, я сам!». И если не получалось, папа говорил:
– Мало каши ел!
В воскресенье приходит папа из магазина, говорит маме:
– Народу – пушкой не прошибёшь!
Я представляю себе, как в огромном зале, битком наполненном людьми, на них раз за разом накатывают старинную пушку, и не могут пробить.
Однажды меня привлекла услышанная в разговоре взрослых фраза:
– За это могут и по шапке дать!
– Каждому? – удивился я.
Сестра Нина очень любила сладости, и мама прятала от неё сладкое, но Нина всё же иногда находила. Нашла банку с изюмом, и каждый раз брала по немногу, чтобы было незаметно. Пришёл праздник печь пирог, мама ахнула – банка больше, чем наполовину была пустой.
Когда мы с Ниной клянчили у мамы ещё что-нибудь вкусненькое, мама говорила:
– Сейчас всё съедите, а потом зубы на полку?
Мы с Ниной, конечно, «бедокурили», но родители нас ни разу пальцем не тронули. Папа только пугал меня, совсем маленького, ремнём. Только один раз было, при маме снял ремень, наклонил, зажал голову между колен, и снял с меня штаны. Не бил, но я дико орал, было страшно и обидно чувствовать ушами папины колени.
– Папочка, я больше не буду!
Старший умный брат Валерик был непререкаемым авторитетом. А мы с сестрой спорили, ссорились. Жаловались друг на друга маме – «а Нинка…», «а Витька…». Мама сначала сразу обрывала:
– Что это за «Нинка», что это за «Витька»?
– А Нина…
– А Витя…
Потом внушала:
– Доносчику первый кнут!
Или:
– Один не пролей, другой не подтолкни.
– Кто спорит, тот дерьма не стоит.
Мама никогда не сидела без дела – вязала, вышивала, кроила на столе рубашки, брюки на всю семью, или по заказу кому-нибудь платье. Она закончила курсы кройки и шитья. Строчила на машинке. Штопала, зашивала, перелицовывала одежду старшего для младшего.
Тут к месту вспомнить мамины швейные поговорки.
– Голь на выдумки хитра.
– Семь раз отмерь, один раз отрежь.
– Овчинка выделки не стоит.
– Делаю из говна конфетку.
– Не шьёт, не порет.
Когда мы сильно допекали маму ссорами или просьбами:
– Где я вам возьму, из коленки, что ли, выломаю?
– Ох, я с вами на Канатчикову дачу попаду!
Защищалась пословицами:
– На всякое хотенье имей терпенье.
– Без труда не вынешь рыбку из пруда.
– Мам, ну, что – тебе жалко?
– Жалко у пчёлки в попке.
– Мам, ну, скажи – как?
– Как-как?.. Сядь да покак, вот как! Надоел хуже горькой редьки!