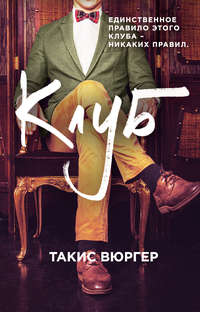Buch lesen: "Клуб"
© Kein & Aber AG Zurich-Berlin. All rights reserved, 2017
© Черепанова Н. Г., перевод на русский язык, 2020
© Издание на русском языке, оформление. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2020
* * *
Посвящается Мили
Ханс
На юге земли Нижняя Саксония, в лесу на Дейстере, стоял дом, построенный из песчаника. В свое время он принадлежал лесничему, но позже, благодаря череде случайностей, а также кредиту банка, дом перешел во владение одной супружеской пары. Семья переехала сюда с одной целью – чтобы жена могла спокойно умереть.
У нее был рак – десятки маленьких опухолей оккупировали ее легкие, словно кто-то целенаправленно выстрелил ими из обреза. Рак был уже неоперабельным, и врачи не могли точно сказать, сколько времени ей осталось жить. Поэтому супруг уволился с должности архитектора и проводил все свое время с женой. Когда она забеременела, онколог посоветовал им избавиться от ребенка. Однако гинеколог уверил их, что даже с раком легких можно родить. Женщина родила маленького, худенького малыша с хрупкими ручками и ножками и густыми черными волосами. Мужчина и женщина посадили за домом вишневое дерево и назвали своего сына Хансом. Этим сыном был я.
Мои самые ранние воспоминания – босоногая мама бежит мне навстречу через весь сад. На ней желтое платье изо льна, а на шее – цепочка из красного золота.
Когда я думаю об этих первых годах своей жизни, то в моей памяти всегда всплывает конец лета. И еще такое ощущение, что мои родители постоянно что-то праздновали, выпивая при этом пиво из коричневых бутылок, в то время как мы, дети, пили лимонад под названием SchwipSchwap. В такие вечера я смотрел, как другие ребята играли в догонялки, и чувствовал себя почти что нормальным пацаном. Мне казалось, что в эти минуты тень с лица моей мамы исчезала. Хотя, возможно, дело было всего лишь в том, что его освещал свет от костра.
Чаще всего я наблюдал за остальными из дальнего угла сада, где паслась наша лошадь. Мне хотелось защищать ее. Она боялась чужаков и не любила, когда ее гладили. Это была английская чистокровная лошадь, бывшая когда-то беговой. Моя мама выкупила ее у забойщика скота. При виде седла лошадь всегда выгибала спину. Когда я был маленьким, мама просто сажала меня ей на спину. Позже я скакал на лошади через лес, сжимая бедра и удерживая себя таким образом. По ночам, выглядывая из своей комнаты в сад, я слышал, как мама разговаривала с ней.
Моя мама знала все травы в лесу. Когда у меня болело горло, она готовила мне сироп из меда, тимьяна и лука, и боль тут же исчезала. Как-то я сказал ей, что очень боюсь темноты. Тогда она взяла меня за руку, и ночью мы отправились в лес. Мама сказала, что не сможет жить спокойно, зная, что я боюсь, и это немного беспокоило меня, потому что я довольно часто чего-нибудь боялся. На дороге, идущей по гребню холма, светлячки спрыгивали с веток и садились на руки моей мамы.
Каждый вечер сквозь стены своей детской я слышал, как она кашляла. Это помогало мне уснуть. Родители сказали мне, что рак прекратил разрастаться, потому что облучение, которое прописали маме после моего рождения, помогло ей. Я запомнил слово «ремиссия», хотя и не понимал, что оно означает. Но по тому, как мама выглядела, произнося это слово, я понял, что это что-то хорошее. Она сказала, что все равно умрет, но никто не знал когда. А я верил в то, что мама будет жить, пока я не буду ничего бояться.
Я никогда не играл. Все свое время занимался тем, что наблюдал. После обеда я обычно шел в лес и смотрел на то, как ветер шевелил листья. Иногда садился рядом со своим отцом на верстак и наблюдал, вдыхая запах свежей стружки, как он вытачивал что-нибудь из дуба на своем токарном станке. Я обнимал свою маму, когда она готовила мармелад из белой смородины, и, прижавшись к ее спине, прислушивался к ее кашлю.
В школу я ходил неохотно. Я довольно быстро выучил алфавит, и мне нравилось считать, потому что цифры казались мне чем-то таинственным, а вот петь или мастерить цветы из картона давалось мне нелегко.
Когда на уроках немецкого мы начали писать разные истории, я понял, что школа может мне помочь. Я писал тексты, повествующие о лесе и о том, как мама посещала своего врача. Эти истории немного сблизили меня с окружающим миром, они позволили мне упорядочить хаос вокруг меня. На карманные деньги я купил дневник, в который каждый вечер записывал свои наблюдения. Я не знаю, был ли я ботаном. Но даже если и так, мне было все равно.
В школе существовало несколько разных групп: девочки, футболисты, гитаристы, российские немцы, парни, живущие в красивых белых домах на окраине леса. Мне не нравились игры с мячом, я не играл ни на одном музыкальном инструменте, не жил в одном из белых домов и не говорил на русском языке. На перемене девочки подходили ко мне, и когда мальчики из моего класса видели это, они смеялись надо мной. Поэтому часто во время перемен я предпочитал прятаться за аквариумом, чтобы побыть в одиночестве.
На мой восьмой день рождения мама попросила родителей ребят привести их к нам в гости. Я робко сидел перед мраморным кексом, волновался и спрашивал сам себя, могут ли эти дети стать моими друзьями. После обеда мы играли в прятки. Я убежал в лес и забрался на каштановое дерево. Я был уверен, что уж там-то меня точно никто не найдет, и очень радовался этому. На дереве я просидел целый день и только к вечеру вернулся домой. Я был очень горд, что никто не смог меня отыскать, и поинтересовался у своих родителей, куда подевались все гости. Мама ответила, что мой тайник оказался слишком хорош, и взяла меня на руки. Мой тайник будет слишком хорошим всю мою оставшуюся жизнь.
Когда мне было десять лет, парни на перемене часто играли в игру с мячом, которую выдумали сами. Она была настолько грубой и тупой, что выдумать ее могли только либо умалишенные, либо дети. Задача состояла в том, чтобы пронести мяч на другую половину поля, при этом разрешено было всеми возможными способами мешать игрокам команды противника сделать это. Однажды, накануне больших каникул, один из парней заболел свинкой и остался дома. Ребятам нужен был новый игрок, и они попросили меня сыграть вместе с ними. Одна только мысль об этом повергла меня в панику, потому что дети, играя, сильно потели, а я не любил запах чужого пота. Кроме того, я не умел ловить мячи. Я отказался, но они сказали, что иначе просто не смогут играть. Пару минут я бегал по траве туда-сюда и радовался, что мне удавалось избегать мяча и не брать его в руки. Тогда один из моих одноклассников заорал на меня, сказал, что мне стоило бы поднапрячься, а иначе все проиграют по моей вине. Вскоре на меня с мячом в руках уже летел игрок команды соперника, парень из восьмого класса. Он был намного сильней меня. Я всегда был невысокого роста, а этот восьмиклассник играл в сборной страны по регби и теперь мчался прямо на меня. Я попытался быстро сообразить, где могло быть слабое место у этого несущегося на меня тела, и всем своим весом прыгнул на его правое колено, разбив ему коленную чашечку. Я опустился перед мальчиком на колени и сказал, что мне очень жаль, что так получилось. Он конечно же не услышал моих извинений, потому что громко кричал от боли. Позже его увезли на машине «Скорой помощи», а его друзья хотели меня избить, так что я убежал оттуда, вскарабкался на тополь и спрятался в его тонких ветвях. Я никогда не боялся упасть. Внизу, под деревом, собрались дети и стали бросать в меня куски глины, которые принесли с ближайшего поля.
Когда я вернулся после школы домой, то увидел отца, который стоял у своего верстака и шлифовал какую-то деревяшку. Директор школы уже сообщил ему о случившемся по телефону. Я все время твердил себе, что все не так плохо, что со мной ничего не произошло. Но когда увидел папу и осознал, что нахожусь в безопасности, я начал реветь. Он взял меня на руки и начал соскребать засохшую грязь с моей рубашки.
Мой отец был немного похож на меня, так же много молчал, и я не помню, чтобы он когда-нибудь играл с мячом. В то же время он отличался от меня, потому что громко и долго смеялся, от чего на его лице образовались мелкие морщинки. В тот день за ужином он положил передо мной на стол возле тарелки две черные боксерские перчатки из воловьей кожи. Папа сказал, что чаще всего все в жизни кажется серым, но иногда есть только правильное и неправильное, и когда сильные причиняют боль слабому, то это неправильно. Он сказал, что запишет меня завтра в спортивный клуб. Я взял перчатки и ощутил мягкость их кожи.
В то время к моим родителям приехала мамина сводная сестра из Лондона. Она едва могла говорить на немецком и большинство времени проводила, гуляя в лесу. Мне она нравилась, хотя я почти ничего не понимал из того, о чем она рассказывала. Мама объяснила мне, что у ее сестры эпилепсия и что я должен быть добр к ней. Поэтому я каждый день приносил ей букет из болотных бархатцев, которые срывал у пруда, где плавали утки, и ставил его на стол возле ее кровати. А однажды я сорвал яблоко с чужого дерева возле церкви, размером как два моих кулака, и засунул его ей под подушку.
До восьми лет у меня не было никакой тети. Потом умер мой дедушка, и мама узнала, что у нее есть сводная сестра, которая жила в Англии.
Ее рождение было результатом любовной интрижки, мой дед никогда не признавал ее. Каким-то образом моя мама и моя тетя сблизились после его смерти, хотя и были очень разными. Начиная с того, что и выглядели они по-разному: мама была высокого роста, с сильными руками – от работы в саду. А тетя была очень изящной, почти хрупкой, немного как я. И еще мне очень нравились ее коротко стриженные волосы. Тогда это казалось мне чем-то восхитительным.
В тот вечер, когда папа положил передо мной на стол боксерские перчатки, моя тетя сидела рядом и спокойно ела свой хлеб. Мне было немного стыдно перед ней, что она увидела мою слабость, и я удивился, что сама она показалась мне совсем не слабой, хотя и была такой маленькой, с небольшой ссадиной на затылке, которую, как казалось, невозможно было вылечить.
По ночам она иногда приходила ко мне в комнату и садилась на пол возле моей кровати. Сейчас, если мне не спится, я часто смотрю на пол возле кровати, и когда быстро мотаю головой из стороны в сторону, то на мгновение у меня создается ощущение, что она все еще сидит там, на полу.
В этот вечер она очень долго сидела на полу и смотрела на меня. Мне даже стало немного страшно, потому что выглядело это немного странно. Тетя взяла мою руку и крепко сжала ее своими маленькими, как у девочки, руками.
Она заговорила со мной на немецком, и это было намного лучше, чем я ожидал. Она, правда, путала ударение в словах, но я не смеялся над этим, хотя звучало смешно.
– Когда мне было столько же лет, сколько тебе сейчас, у меня было все точно так же, – сказала она.
– Почему?
– Потому что у меня не было отца.
– Это единственная причина?
– Тогда да, – сказала она.
Мы сидели так долго, я представлял себе, какой тяжелой должна быть жизнь без отца, и гладил большим пальцем по тыльной стороне руки тети.
– А другие причиняли тебе боль? – спросил я.
Она громко вздохнула, крепче сжала мою руку и произнесла фразу, которую я до сих пор ни разу не слышал: «Если они еще раз до тебя дотронутся, зови меня, и я убью их».
Алекс
Он был таким наивным. У него были такие завораживающие, мягкие глаза, словно он постоянно был чем-то озабочен, а в его глазах точно скрывалась чужая, черная галактика. Я никогда не забуду его лица этой ночью. Ханс не знает, но тогда он стал одной из немногих причин, почему я осталась в живых в то время.
В один из дней, когда не было солнца, я увидела его сидящим на траве в саду и присела рядом с ним.
– Как дела? – спросила я.
Его черные волосы были густыми, как шерсть животного. Он сидел рядом со мной, и я чувствовала в нем ту же тяжесть, которая день и ночь беспокоила меня и не давала мне уснуть.
– Мне грустно, тетя Алекс, – сказал он.
Мне хотелось обнять его, но я не решилась это сделать. Я долгое время думала, что если буду слишком близко подходить к людям, то мои злые мысли могут заразить их, как испанский грипп.
Ханс был как вода в лесу, мягкий и спокойный. Мне следовало присматривать за ним. Моя сестра не могла этого делать, так как воспитывала его слишком нежно. Но что толку от ее поцелуев, которыми она стирала с его щек слезы, если его собирались побить в школе?
Иногда я подглядывала за тем, как он занимается боксом на тренировках, стоя за дверью спортивного зала и наблюдая за ним через желтоватое стекло. Я никогда не хотела иметь детей, да это и не получилось бы, и все же было трогательно смотреть на то, как этот мальчик двигается между качающимися боксерскими мешками, как он собирается с силами, чтобы ударить по ним. Он смог бы защитить себя, если бы кто-нибудь показал ему, как это делать.
Ханс
Вечерний свет опустился на зал, боксерские груши на цепях свисали с потолка. После тренировки я сидел в машине, от меня шел пар. Папа смотрел на меня, мы молча сидели рядом. Я видел, что он счастлив, по крайней мере, так мне тогда казалось.
Папа возил меня на тренировки четыре раза в неделю и всегда наблюдал за мной. Потом мама жарила для нас картофель с луком и подавала его с солеными огурцами. Она называла это крестьянским завтраком. Будучи взрослым, я пару раз готовил его, но он отличался по вкусу от маминого.
Спустя несколько недель мальчики в школе хотели снова избить меня. Я было опять побежал от них, но на этот раз немного подумал и ос тановился. Я обернулся и поднял кулаки так, как показывал мне мой тренер по боксу: правую у подбородка, а левую на уровне глаз перед лицом. Никто не посмел на меня напасть.
Я тренировался до боли в костяшках пальцев. Бокс был для меня чем-то особым по сравнению с другими видами спорта, потому что никто не ожидал, что я буду радоваться, что могу этим заниматься. Я мог оставаться один на один со своей болью, своей силой, своим страхом. Боксируя, мог приближаться к другим спортсм енам, как никогда близко. Когда мы отрабатывали умение наносить удары в ближнем бою, я улавливал запах их пота и чувствовал жар, исходящий от их тел. Это раздражало меня, поначалу мне часто становилось плохо, но постепенно я привык к этому. Когда сегодня я вспоминаю то время, то думаю, что стал терпеть других людей тогда, когда начал их бить. Больше всего мне нравилось боксировать на расстоянии вытянутой руки, удерживая соперника на дистанции.
В тринадцать лет у меня состоялся первый поединок, который я проиграл по очкам. Это еще помню, но вот вспомнить своего соперника уже не могу. Папа сидел возле ринга. В машине он поцеловал мои пальцы и сказал, что никогда еще не был так горд. Вот этот момент я помню отчетливо.
Когда мне было пятнадцать лет, в ноябре мы поехали на турнир в Бранденбург. По дороге недалеко от Берлина, на мосту через реку Хафель, мы наехали на образовавшуюся на поверхности наледь. Машину развернуло на повороте, и она соскользнула на дорожный отбойник. Папа вышел и отправился по встречной полосе, чтобы предотвратить наезд на машину, в которой сидел его сын. Я был очень испуган и остался сидеть на месте рядом с водительским сиденьем. В зеркале заднего вида я увидел цементовоз, на защитном стекле которого была приклеена мерцающая наклейка с надписью «Ханзи». Машина врезалась в моего отца капотом радиатора и разрезала его напополам. Цементовоз получил повреждение кузова на крышке капота. Похороны я не помню, впрочем, как и последовавшие за ними месяцы.
Спустя полгода я нашел маму лежавшей в саду. Она вышла на улицу, потому что я попросил ее вечером посыпать яичницу зеленым луком. Она очень медленно двигалась, уголки ее глаз блестели, рядом с ней лежала маленькая коробка со свежесрезанным зеленым луком, за которым она ходила специально для меня. Она смотрела на меня. И была очень красивой.
Я позвонил в «скорую», после чего сел возле мамы на траву и стал прислушиваться, как со временем хрипы в ее легких становились все тише и тише. Она все еще крепко сжимала мою руку, когда ее дыхание остановилось. Вскрытие показало, что она умерла от укуса пчелы, чей яд вызвал анафилактический шок.
Гроб был изготовлен из вишневого дерева. Папа сделал его давно по просьбе мамы, украсив его резными цветами. С помощью небольшой лопатки люди, пришедшие на похороны, бросали на гроб горсти земли. Мамина сводная сестра, одетая в белое платье, захватила землю рукой, прежде чем бросить ее в могилу. Это впечатлило меня, и я вспомнил о том, как мама, работая в саду, вставала на колени и собирала клубнику. И тогда я тоже взял горсть земли рукой, а не лопаткой.
Мой папа умер, потому что я хотел принять участие в боксерском поединке в Бранденбурге. Моя мама умерла, потому что мне захотелось посыпать свою яичницу зеленым луком. Несколько дней после похорон я все ждал, что проснусь, что это был всего лишь кошмарный сон, а когда этого не произошло, меня накрыла такая чернота, что я до сих пор удивляюсь, как пережил ее.
После похорон тетя говорила со мной на английском, она плакала, и ее левое веко дергалось при каждом слове. Я не понимал ее. И не мог плакать. Я хотел орать, хотя никогда в жизни не делал этого.
В церкви за алтарем висел крест. Распятый Иисус взирал на всех равнодушным взглядом. Я снял свой пиджак и со всей силы бил кулаками по церковной стене до тех пор, пока не сломал пястную кость на уровне мизинца.
Алекс
Гойя потерял слух в начале 1792 года, лихорадка так сильно повлияла на его здоровье, что он оглох. Он переехал жить в виллу за Мадридом, где написал четырнадцать картин на стенах столовой и гостиной. Гойя никак не назвал свои творения. Поэтому предполагается, что он писал их исключительно для себя. Они известны как Pinturas negras – «Мрачные картины». Мне кажется, что это прекрасное название.
Темные, раздражающие произведения, полные насилия, ненависти и безумия. Они гениальны, но любоваться ими очень тяжело. На одной из фресок изображен бог Сатурн, пожирающий своего сына, потому что один оракул предсказал ему, что один из его сыновей его свергнет. Некоторые говорят, что Гойя сошел с ума из-за своей глухоты. В глазах бога на картине – безумие.
Интересно, является ли то, что я чувствую, как картины разговаривают со мной, частью моей болезни? Или такое происходит и с другими людьми?
Когда умерла моя сестра, я уже была во власти безумия. Мне легко признаться в этом, потому что это многое объясняет. Врачи называли это по-другому, они говорили о диссоциации и травме, но я знала, что боролась с безумием. Я должна была победить эту болезнь сама. Если бы я забрала Ханса к себе, то уничтожила бы нас обоих. Он уже заразился темными мыслями. Я знала, каково это – вырасти без семьи, и не смогла бы стать для него здоровой семьей. В интернате он чувствовал бы себя спокойнее.
Фреска Гойи с Сатурном была вырезана из стены и переведена на холст. В настоящее время картина находится в музее Прадо. Все восхищаются глазами Бога, но не они являются решающим фактором. Решающим является место на картине, поверх которого был нанесен еще один слой краски, потому что оно слишком смущало людей. Я внимательно рассмотрела картину. За темной поверхностью над нижней частью живота Бога видно, что Гойя написал его с эрегированным членом.
Я просто увлекла бы парня в пропасть вслед за собой. Я не была к этому готова. Я была не я.
Ханс
Нашу лошадь увезли. А я попал в интернат. Тетя стала моим опекуном, и я думал, что она заберет меня к себе, но она не сделала этого. Я не решался спросить, почему она приняла такое решение. Тетя продала дом в лесу и на полученные деньги оплатила школу иезуитов. В рекламном проспекте интерната было написано: «Порядочность и порядок в повседневной жизни, а также уважение и готовность помочь другим людям очень важны, чтобы обеспечить каждому отдельно взятому ученику организованную жизнь в школе-интернате, ориентированную на учебу и достижение успехов». И это предложение беспокоило меня.
В моем чемодане лежали пять пар брюк и пять рубашек, нижнее белье, носки, шерстяной пуловер моего папы, цепочка моей мамы, шапка, веточка вишневого дерева, мой коричневый нелинованный дневник и пара черных боксерских перчаток из воловьей кожи.
Колледж Иоханнеса был расположен на склонах Баварского леса и казался мне рыцарским замком, с башенками и зубцами на стенах. Он на протяжении нескольких столетий служил пристанищем для иезуитов, а во время Второй мировой войны там встречались члены группы немецкого Сопротивления «Кружок Крейзау», чтобы спланировать убийство Гитлера.
Когда я впервые увидел интернат, солнце светило сквозь ели, а ветер с юга нес в страну тепло Италии. Казалось бы, все говорило о правильности принятого тетей решения. Но мне все это показалось лишь попыткой ввести меня в заблуждение.
В свой первый день в интернате я сидел в комнате ректора. Он был приветливым молодым человеком, мы расположились за столом, покрытым льняной скатертью. Я ухватился за ее край и думал о желтом платье моей мамы.
Ректор сказал, что прекрасно понимает, что мне нужно какое-то время для того, чтобы привыкнуть к новой обстановке. Но я был уверен, что он ничего не понимал. На лбу у него была родинка, и он все время улыбался без повода. Мне стало интересно, почему он все время делал какие-то записи.
Каждый ученик в колледже Иоханнеса должен был в понедельник утром сдавать мочу, чтобы ее исследовали на содержание наркотиков. Ученики были либо сыновьями богатых бизнесменов, либо юношами, которые в свое время принимали столько наркотиков, что их родители решили, что только монахи могут справиться с ними.
В замке жили двенадцать монахов, одиннадцать из них были преподавателями, один готовил еду. Его звали отец Геральд, и родом он был из Судана. Мне он нравился, потому что был другим и потому что у него на лице была печальная улыбка. Отец Геральд говорил мало, а если говорил, то на английском языке. Его голос был глубоким и чужим. Все, что он готовил, было слишком мягким.
В первый день своего пребывания в интернате я пошел в уборную и посмотрел на умывальники, висевшие рядом друг с другом на стене. Я посчитал – их было сорок. Кажется, все здесь жили одинаково. Ночью пара учеников обкидали меня скомканными листами бумаги, которые они разжевали в маленькие пульки. Я сделал вид, что не заметил этого. Позже они украли у меня подушку. Спустя пару недель парень старше меня дал мне подзатыльник, когда я стоял в очереди в столовой. Я почувствовал, как покраснели мои уши, и усмехнулся, потому что не знал, что мне сделать. Затылок немного побаливал. Парень стоял за мной и громко спросил меня, не скучаю ли я по маме, потому что скулю во сне. Я развернулся и атаковал парня боковым ударом в лицо. Раздался звук, как будто открыли банку с вареньем.
Отец Геральд стал свидетелем этой стычки и схватил меня за руку. Я думал, что меня исключат из школы, и обрадовался, потому что надеялся, что смогу наконец переехать к своей тете в Англию. Я не был в курсе того, что интернат очень нуждался в деньгах, потому что пара монахов в надежде на прибыль вложили средства в исландские высокотехнологичные компании, но потеряли большую сумму активов фонда. Кроме того, парень, которого я ударил, был местным возмутителем спокойствия. И то, что он попал в лазарет на какое-то время, на самом деле только обрадовало руководителя интерната. В качестве наказания он послал меня в винный погреб, чтобы навести там порядок.
После той драки остальные дети стали избегать меня. Я предлагал им списывать задачки, спросил однажды, не хочет ли кто-нибудь поиграть со мной в прятки в лесу: на это я настраивал себя несколько дней. Я не собирался в этот раз убегать слишком далеко, но детям это было неинтересно. Они заявили, что играть в прятки это слишком уж по-детски. Я думал, что, возможно, мне стоит больше рассказать ребятам о себе. Поэтому я рассказал о том, что, по моим ощущениям, апельсины по вкусу напоминают приключения и что мягкие волосы девочек на затылке иногда похожи на сахарную вату. Но дети только высмеяли меня.
Один из монахов сказал мне, что я просто должен игнорировать то, что я беднее, чем другие ученики, и дал мне Библию с шелковой закладкой на странице Ветхого Завета Иова: Наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял; да будет имя Господне благословенно! Я взобрался на колокольню и выбросил книгу в Баварский лес.
Я не сошел с ума, потому что большинство времени проводил наедине с самим собой. Я читал, гулял по лесу и учился распознавать голоса птиц. И, в общем, достаточно преуспел в этом.
Однажды, уже после того, как на уроке религии мы снова прочитали первую книгу Моисея, я подумал о том, кто вошел бы в ту сотню людей, кого я спас бы, если бы мир оказался под угрозой. Сто имен я так и не смог придумать, но лодку свою все же наполнил людьми, достойными, с моей точки зрения, попасть в Ковчег. Это была большая семья отца Геральда. Но все же не эта мысль занимала меня больше всего. На самом деле я беспокоился из-за того, что никто не взял бы меня в свой Ковчег. И эта мысль наполняла меня печалью.
Я очень скучал по своим родителям, по нашему дому, по запаху старых половиц, по мебели, которую сделал мой отец, по каждому уголку прохладных стен, с которыми были связаны воспоминания моего детства. Мои ощущения были похожи на чувство голода, которое я испытывал, когда не мог есть перед одним из своих боксерских поединков, чтобы сбросить два килограмма для достижения веса, подходящего к моей весовой категории. Я голодал и ощущал в своем животе своего рода дыру. Одиночество было для меня той самой дырой, которую я чувствовал во всем теле, словно от меня как от человека осталась одна только оболочка.
Моя тетя поначалу писала мне один раз в месяц письмо на английском языке, в котором сообщала прежде всего о том, что происходило в ее университете в Англии. Я в ответ писал ей длинные письма о подозрительных звуках в спальнях, о других ребятах и о том, что мне снился мой папа, у которого не было лица, но она никогда на это не реагировала.
Винный погреб, который в качестве наказания мне нужно было переоборудовать после драки в столовой, был прохладным и вытянутым в длину. Я время от времени взмахивал кулаками, нанося в воздухе удары воображаемому противнику. Я не спрашивал, можно ли мне в интернате продолжить занятия боксом. Боксерские перчатки лежали в чемодане, стоявшем под моей кроватью. Я снял рубашку и продолжил боксировать воздух до тех пор, пока по моим кулакам не побежал пот, капая при каждом ударе на бутылки вокруг. Вдруг в темноте я заметил какую-то тень.
– Your left is too low.
Я посмотрел на монаха. Ну все, подумал я, сейчас он будет злиться. Отец Геральд в своей черной мантии был почти невидим в темноте винного погреба.
– You drop your left1, – произнес монах. Он поднял свою правую ладонь, словно это была подушка для отработки ударов.
Я увидел, как он при этом поставил свои ноги, и понял, что отец Геральд был боксером. Я немного помедлил, затем вытянул левую руку и коснулся его розовой ладони своим кулаком. Мне всегда было интересно, почему у темнокожих людей ладошки розового цвета.
Отец Геральд сделал шаг назад и поднял обе руки. Я ударил левой, затем правой. Отец сымитировал хук, я уклонился. От комбинации к комбинации скорость ударов увеличивалась. Звук от соприкосновений кулаков с ладонями эхом раздавался по всему винному погребу. Это был ритм языка, на котором мы могли разговаривать без слов. Отец Геральд позволил мне в конце нашей импровизированной тренировки нанести три сильных удара правой. Его лицо исказилось от боли, но он сразу же улыбнулся:
– Я Геральд.
– Ханс. – За все время, проведенное в интернате, я впервые заговорил добровольно. – Thank you2, – сказал я.
На следующий день я положил свои боксерские перчатки в рюкзак и взял их с собой в винный погреб. Отец Геральд принес с собой небольшие крепкие диванные подушки, в которых он с помощью разделочного ножа сделал дырки, чтобы в них могли влезть его руки. Это были самые мягкие подушки для отработки ударов, в которые я когда-либо бил.
– Let’s go3, – сказал отец Геральд.
Ханс
Месяцы в интернате пролетели незаметно. Если я был не в винном погребе, то предпочитал сидеть возле церковного колокола на колокольне, потому что только там я мог спокойно почитать. Иногда я смотрел на окраину леса и мечтал о том, как смогу начать там лучшую жизнь после окончания школы. Каждый час монах внизу тянул веревку, и колокол звенел так, что я зажимал уши.
Вскоре я получил письмо с двумя марками лилового цвета, наклеенными на конверт, с профилем королевы Елизаветы II. Мое имя было написано мелким, круглым шрифтом на лицевой стороне, и я сразу узнал почерк моей тети. Ее письма были не такими сердечными, как хотелось, но я все равно был рад получать их, потому что это были единственные письма, которые я вообще получал.
В начале моего пребывания в интернате я пару раз проводил свои каникулы у Алекс, но она все время работала и много плакала, когда по вечерам мы сидели вдвоем за столом и пили теплое пиво. Она каждый день ставила на стол пиво, как будто это было в порядке вещей, а когда плакала, то постоянно извинялась передо мной.
После этого я больше не ездил к ней и на все праздники оставался у монахов. В интернате была библиотека с книгами на немецком языке, кроме того, я тренировался с отцом Геральдом. Это было немного, но все лучше, чем тетя. С ней у меня возникало чувство, что я самый одинокий человек на земле.
Письмо, которое я получил, было кратким. Оно было написано на английском языке на светло-коричневой бумаге.
Дорогой Ханс,
я долго не писала тебе, знаю. Но надеюсь, что ты счастлив. И я хотела бы пригласить тебя к себе в Кембридж. Скорее всего, ты сможешь помочь мне в одном деле. Поездка за счет колледжа Св. Джона.
С наилучшими пожеланиями, Алекс
Я снова и снова перечитывал письмо и все время застревал на одном предложении: скорее всего, ты сможешь помочь мне в одном деле. Я не обладал какими-то особыми способностями, с помощью которых мог бы помочь другим людям. Возможно, я умел внимательно слушать, потому что по большей части молчал. Отец Геральд назвал меня талантливым боксером, но я так давно уже не боролся на ринге. Мои оценки в школе были хорошими, но это, прежде всего, благодаря моему прилежанию. Я учился потому, что мне больше нравилось проводить время наедине с книгами. Моим единственным другом был монах из Судана, но он был почти вдвое старше меня, поэтому не мог считаться настоящим другом – так я считал в то время.