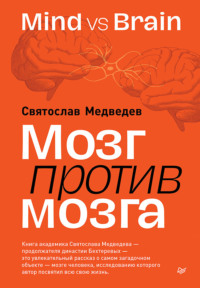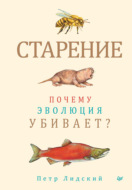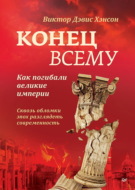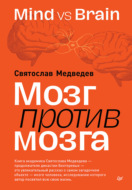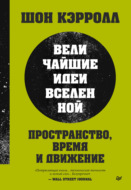Buch lesen: "Мозг против мозга. Mind vs brain"
© ООО Издательство "Питер", 2025
Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.
От автора
Моя мама – академик Наталья Петровна Бехтерева – занималась исследованием функций здорового и больного мозга человека, а отец – член-корреспондент РАН Всеволод Иванович Медведев – работой мозга при адаптации организма к чрезвычайным условиям.
Совершенно естественно, что я вырос в атмосфере бесконечных разговоров о физиологии мозга, о его заболеваниях. Кроме того, я провел бесконечные часы в лабораториях отца и матери просто потому, что меня, особенно во время каникул, было некуда деть.

Рис. 1. Наталья Петровна Бехтерева и Всеволод Иванович Медведев

Рис. 2. Наталья Петровна Бехтерева и Грей Уолтер (в центре), академик Петр Кузьмич Анохин (справа), Бристоль, 1961 год
Помню лабораторию академика Л.А. Орбели, где работал отец. Кстати, после печально знаменитой «павловской» сессии, на которой отечественная физиология была отброшена на десятилетия назад, он был одним из немногих сотрудников Орбели. Смутно помню празднование Нового года в доме миниатюрного генерала с седыми усами. Помню электрофизиологическую лабораторию в Ленинградском нейрохирургическом институте им. А.Л. Поленова, которой заведовала мама. Там стояли огромные приборы с ручками, которые забавно трещали, когда я их крутил (электроэнцефалографы). Сказки, которые мне рассказывали, тоже были из мира физиологии.
Когда я стал старше, то уже более внимательно слушал разговоры родителей, задавал вопросы. Это было подобием игрового семинара. К окончанию школы я нетвердо знал школьную программу, но довольно свободно ориентировался (естественно, дилетантски) во многих вопросах, которые изучали родители. Мама научила меня думать, она объясняла мне логику явлений. Позже такие разговоры были и с отцом.
Авторы, на которых мать ссылается в книгах, в большинстве своем для меня не абстрактные имена, а знакомые лица. В Ленинград приезжали крупнейшие советские и зарубежные ученые, приходили к нам домой, и я слушал их беседы. Академики П.К. Анохин, М.Н. Ливанов, иностранцы М. Брейжие, Грей Уолтер и многие другие (рис. 2). Не скажу, что я их понимал, но эти воспоминания детства и ранней юности стали очень важным, значимым фоном впоследствии. Я вырос в этом мире, в этом окружении и во многом воспринял не науку, не факты, а саму идеологию, подобно тому как ребенок учится языку. Этот мир стал моим миром.

Рис. 3. Святослав Медведев за работой над кандидатской диссертацией
Потом я окончил кафедру теоретической физики, и это образование позволило мне по-новому осмыслить то, что я уже знал о мозге (рис. 3). По-новому поставить вопросы.
Я люблю рассказывать об изучении мозга, о его загадках. Поэтому всегда охотно давал интервью журналистам, которые часто расспрашивали меня о самых разных вещах. О том, как процессы в обществе, поведение человека связаны с процессами в его мозге. До сих пор я так или иначе отвечаю на вопросы журналистов практически каждую неделю. Постепенно я начал все чаще получать предложения написать книгу о мозге человека.
В принципе, я не возражал, но все как-то не было времени. Кроме того, один из моих девизов звучит так: «Если человек не глуп и не ленив, то он опасно болен». Если бы не влияние моей жены, профессионального научного журналиста, я бы не принялся за эту рукопись.
А если серьезно, я долго собирался рассказать о том, что меня интересует, интригует в исследованиях мозга человека. Рассказать о самом загадочном объекте в мире. Конечно, что-то я упустил. Но нельзя объять необъятное, как, возможно, нельзя «объять» и мозг…
Предисловие
«Люблю тебя всем сердцем», «печенкой врага чую», «камень в желудке» – эти примеры показывают, как люди издавна пытались связать процессы сознания и мышления с чем угодно, только не с мозгом. Почему это так? Да потому, что, естественно, процессы мышления и психики хотелось ассоциировать с работой определенного органа. Понятно, что главный кандидат – сердце. Далее – глаза: они начинают «сиять» в минуты возбуждения. Далее – легкие: дыхание «замирает». Пятки – туда «уходит» сердце. А с головой вроде ничего не происходит. Ну, иногда болит, хотя чему там болеть – кость. Даже сейчас тот факт, что именно мозг является органом, который обеспечивает процесс мышления, признается только почти всеми (то есть не всеми) учеными. Почему не всеми? Да потому, что ни один ученый до сих пор не смог построить непротиворечивую концепцию того, как работает мозг. Мы видим, что на входе и что на выходе. А внутри происходит чудо. Так как мы в чудеса не верим, то и появляются сомнения.
Нет на свете более странного и загадочного органа (да что там органа, объекта во Вселенной), чем мозг. С другой стороны, это небольшой кусочек студенистой массы, с которым внешне ничего не происходит. Он не начинает пульсировать быстрее, как сердце, при повышении нагрузки (на самом деле начинает, но это очень трудно заметить). Не напрягается, подобно мускулам. В него не «сваливается камень», как в желудок. С точки зрения наблюдателя, при решении сложнейшей задачи с мозгом ничего не происходит.
Вообще, можно сказать, что мозг больше всего похож на гипертрофированный грецкий орех – поверхность с бороздами и маленькое внутреннее образование. Настолько, что это вызвало забавную мистификацию. В одной газете была напечатана история, что грецкий орех – потомок инопланетян, давших нам мозг; но в дальнейшем из-за неблагоприятных для них условий нашей планеты инопланетяне не дозревают до конца и их мозг недоразвит. Некоторые поверили, и были созданы общества защиты грецкого ореха и т. д.
Мозг заключен в прочную оболочку, защищающую его от окружающего мира, – череп. Хотя он и не очень толстый (по сравнению с черепом слона или буйвола), но ведь задача пробивать лбом стенку не стоит. А от многого другого он надежно защищает. Внутри черепа мозг, укутанный в три оболочки: твердую, мягкую и паутинную, – «плавает» в специальной жидкости. Эта жидкость также стабилизирует его состояние. Существует специальная система кондиционирования: и в покое, и при сильном сердцебиении, вызванном тяжелой физической работой, объем циркулирующей крови в мозге меняется незначительно.
Можно сказать, что в механизме человеческого тела существует специальная изолированная защищенная «комната», в которую сходится поток информации и которая управляет всеми действиями этого механизма.
Информация к мозгу приходит от органов чувств. Как известно, у человека их пять (не считая мистического шестого). Это обоняние – специальные датчики в носу, осязание – датчики на коже, вкус – сложно распределенные датчики во рту, слух (кстати, здесь не только уши) и, наконец, зрение, по которому мы получаем до 90 % всей информации. Интересно заметить, что глаза – это часть мозга, «вылезшая» наружу. Так что мозг можно еще и видеть, и сам мозг может видеть. Сегодня число чувств не ограничивают пятью. Ведь есть температурная чувствительность, чувство равновесия, чувство времени и т. д. – и все это обеспечивает наш мозг.
Кроме того, имеются сигналы, идущие от внутренних органов и сообщающие мозгу об их состоянии. На основе обработки как этих сигналов, так и собственных «умозаключений» и чувств мозг сам испускает сигналы, идущие к различным органам, вызывающие, например, сокращение мышц – движение.
Принципиально также возможен (хотя никем научно не доказан) внечувственный (экстрасенсорный) обмен информацией. Это общее название феноменов телепатии, выхода души из тела, эмпатии и тому подобного. Экстрасенсорный – значит не проходящий через упомянутые пять органов чувств. Теоретически он не запрещен, но не все разрешенное сбывается. Возможно, что он биологически невыгоден. (Об этом мы подробнее поговорим позже.)
Итак, можно представить себе некое подобие сети, в центре которой находится защищенный штаб, слушающий все сигналы и отдающий приказы.
Надо сказать, что чем сложнее устроен мозг живого существа, тем сложнее его поведение, но практически у каждого животного нервная система адекватно обеспечивает жизнь в окружающей среде. Мне довелось слушать увлеченные рассказы академика В.Л. Свидерского об исследовании поведения и нервной системы насекомых, у которых всего-то по сравнению с человеком раз-два и обчелся нервных клеток – нейронов (несколько сотен тысяч у мух, а у человека – 10 миллиардов!). Оказывается, эти несколько нейронов обеспечивают сложнейшее поведение, позволяющее виду не только выживать, но и процветать.
Каким же образом мозг обрабатывает информацию? Как устроен «штаб»? Вынужден признать, что, несмотря на многолетние (и многовековые) исследования с помощью разных техник и методик, мы до сих пор этого до конца не знаем. Далеко не все понятно даже у насекомых. А если бы поняли? Представьте себе: несколько нервных клеток в головке мухи управляют полетом современного самолета. Мне кажется, что муха способна на более сложные эволюции, чем самолет. Ни один из современных роботов не может превзойти по уровню интеллекта крысу, кошку или собаку, а мозг кошки действительно размером с грецкий орех.
Нет, конечно, современные компьютеры значительно превосходят даже человека во многих областях. Но это вообще свойственно творениям человеческого разума: автомобиль быстрее, чем бегун; кольт сильнее, чем кулак; а компьютер быстрее считает. Однако когда говорят о полете к Марсу, то рассматривают возможность отправить именно человека, а не робота, хотя это несравненно дороже и сложнее. Почему? Да потому, что мы не знаем, с чем там столкнемся, а значит, потребуется МОЗГ с его возможностями решать нетривиальные задачи.
Практически для любой стереотипной деятельности легко заменить человека роботом. Но измените условия игры или вообще отмените большую часть правил. Даже не очень высокоорганизованное животное приспособится. А робот? Попробуйте уничтожить городских крыс, которые, несмотря на все наши усилия и ухищрения, выживают в любых условиях!
Зайдите в игрушечный магазин. Там сейчас такие мягкие игрушки, что диву даешься. Монстры! Но любой ребенок, не думая, просит дать ему «вон ту» собачку и «вон того» мишку. Как он их различает? Почему это собака, а это мишка? А все мои собаки прекрасно ориентировались в обстановке, классифицируя объекты и мгновенно вырабатывая к ним свое отношение. Так вот, до сих пор мы не понимаем, чем обусловлены эти способности мозга. Почти невозможно представить себе, что все наше «я», весь наш внутренний мир заключен в этом органе. И не только потому, что он относительно мал (всего 1–2 килограмма), но еще и потому, что он очень противоречиво, с нашей точки зрения, устроен. Многим ученым казалось, что еще немного, и они разгадают его тайны, но в самый последний момент четкие построения рушились. Разочарования были очень сильны. Даже некоторые нобелевские лауреаты не могли поверить, что человек мыслит мозгом. Джон Экклс, легендарный австралийский нейрофизиолог, в какой-то момент научной карьеры пришел к мысли, что существует дух, витающий вне мозгового субстрата и управляющий деятельностью мозга человека.
Надо отметить, что структурно человеческий мозг исследован довольно хорошо. Известно, что он состоит из двух симметричных полушарий (на самом деле все сложнее, но не будем на этом – как и на многом другом, для науки важном, а для нас малозначимом – останавливаться), в каждом из которых есть кора и глубокие структуры. Кора каждого полушария делится на четыре доли (по-английски – lobe) (рис. 4).

Рис. 4. Области коры мозга человека: 1 – лобная доля; 2 – височная доля; 3 – ствол мозга; 4 – мозжечок; 5 – затылочная доля; 6 – теменная доля
Считается, что каждая область отвечает за что-нибудь только свое. Это неверно, как неверны и рассуждения о строгом разделении функций между полушариями – миф, который возник на ранних этапах исследования мозга и сохранился до наших дней. К примеру, можно услышать о том, что вся речь «размещается» в левом полушарии. Ничего подобного! Я сам во время эксперимента наблюдал возбуждение нейронов, расположенных в правом полушарии, связанное с обеспечением речи. На самом деле для обеспечения любого действия в мозге человека складывается сложнейшая система, состоящая из нейронов правого и левого полушарий. Жестко анатомически к полушариям привязаны движения и чувствительность. Один из величайших ученых мира, Луи Пастер, перенес серию инсультов, в результате чего у него висела левая рука и волочилась левая нога. Но его сознание, ум оставались кристально четкими. Он сделал все открытия, его прославившие, задействовав лишь одно полушарие. Это за счет того, что система перестроилась и сохранные участки мозга взяли на себя часть функций пораженных.
Глубокие структуры также неоднородны и состоят из большого количества скоплений определенных клеток, называемых ядрами, например хвостатое ядро, бледный шар. Между собой структуры связаны проводящими путями. Также известно, что мозг состоит из определенных клеток (нейронов), свойства которых достаточно хорошо исследованы. К настоящему моменту изучены анатомия мозга и анатомические связи между его элементами. Более или менее понятно, как в мозг приходят и как из него уходят сигналы. Более того, понятно, как происходит начальная обработка этих сигналов. Нейроны называют «кирпичиками» мозга, но каждый нейрон – чрезвычайно сложное образование, живущее своей жизнью, общающееся с соседями, близкими и дальними. Считается, что его основное предназначение и свойство – испустить импульс. Он может это делать и сам по себе (спонтанная импульсация), и в ответ на сигналы других нейронов. Как он это делает, тоже достаточно хорошо, но далеко не полностью изучено.
Итак, мы знаем вход и выход системы, мы знаем ее архитектуру и ее составные элементы. Но мы не знаем главного – КАК ВСЕ ЭТО РАБОТАЕТ.
Мы знаем, что нейроны обмениваются информацией. Но как они организуются в систему? Длительность импульса нейрона – 1 миллисекунда. Скорость передачи информации – порядка полутора километров в секунду. Сравните с компьютером: гигагерцы и скорость света. Есть понятие тактовой частоты – времени совершения одного действия, одного шага. Так вот, время шага мозга – миллисекунды, то есть частота порядка килогерца. А у современного ПК – гигагерцы, в миллиард раз больше. От одного элемента мозга к другому информация идет со скоростью 1,5 км/с. А у ПК – 300 000 км/с.
Разница в двести тысяч раз, а мозг работает лучше! Значит, мы до сих пор не понимаем основных принципов его работы. Кроме того, это показывает неправильность всяких аналогий «мозг – компьютер». Скорее всего, деятельность мозга строится на других принципах. Каких? Мы еще не знаем.
Вообще – это философский вопрос. Мозг человека – самый сложный объект из известных нам во Вселенной. Значит, все, что мы до сих пор исследовали с его помощью, было проще? А можно ли вообще с помощью мозга познать мозг? Может быть, и нельзя, но надо пытаться, да мы просто не можем остановиться на полпути! И если мы познаем законы мозга, то это будет открытием, сравнимым с открытием колеса или приручением огня, только гораздо более значимым, последствия которого мы сейчас не можем предсказать.
Глава 1. Думающий «грецкий орех»
Научный взгляд на извилины
В сочинении «О частях животных» Аристотель писал, что мозг – орган «холодный, недвижимый, нечувствительный» и служит лишь для того, чтобы охладить кровь, происходящую из сердца.
Его младший современник Герофил, личный врач Птолемея I, в труде «Анатомика» рассматривал мозг в качестве вместилища человеческой души и воли.
Первый опирался исключительно на логику, второй – на эксперимент. Логика тогда восторжествовала над экспериментом, и это на несколько веков определило развитие науки о мозге…
Надо сказать, что, в отличие от остальных органов, мозг наиболее загадочен уже с первого взгляда. Если взять автомат Калашникова или простой автомобиль, то даже человеку, не знакомому с техникой («физиологией машин»), нетрудно, во-первых, определить их назначение; во-вторых, понять функциональную роль каждой детали. Однако если взять современный навороченный автомобиль или современное оружие, то там появляются элементы, которые выглядят просто ящичками. Что они делают – неясно. Это приборы управления, бортовые компьютеры. Если вскрыть корпус компьютера («трепанация»), то появятся еще ящички, открыв которые мы ничего механически понятного не увидим: кристаллы и проводники.
Так и с мозгом. Несмотря на невероятную сложность физиологии почки, печени и других органов, в общем понятно, для чего они существуют и как работают. А заглянув под черепную коробку, можно увидеть лишь слабо пульсирующую субстанцию, пронизанную сосудами. Можно также заметить, что мозг состоит из двух симметричных полушарий. Дальше мы обнаружим деление на глубокие структуры и покрывающую их кору, образующую извилины и борозды. Однако понять, опираясь на эти наблюдения, даже простейшие принципы работы мозга совершенно невозможно.
Как же, с помощью каких методов исследователям удалось в определенной степени сложить из отдельных деталей картину (или по крайней мере нарисовать эскиз)? Это была чрезвычайно кропотливая и сложная работа. Каждый, кто распутывал «бороду» из лески на спиннинге или моток шерсти, знает, как это непросто. А теперь представьте себе, что нервная клетка (нейрон) состоит из тела клетки (сомы) и длинного отростка (аксона), уходящего вдаль (рис. 5). И вот все эти аксоны перепутаны. Их по меньшей мере 10 миллиардов. Ничего себе клубочек!
Клубок этот начали распутывать еще древние. Марк Твен был прав, когда говорил, что знания, которыми не обладали древние, были огромны, но и знания, которыми они обладали, были немалыми. В царствование Птолемея I Лагосского (IV–III вв. до н. э.) было разрешено вскрывать трупы и даже исследовать анатомию живых преступников. Врач Герофил именно на основе этих исследований пришел к выводу, что головной мозг представляет собой орган мышления и является центром нервной системы. В труде «Анатомика» он подробно описал нервную систему, показал, что спинной мозг является продолжением головного, описал части головного мозга, его оболочки и желудочки. Он считал, что движения связаны с нервами, а параличи вызваны нарушениями в их работе.

Рис. 5. Строение нейрона: 1 – дендрит; 2 – ядро; 3 – клеточное тело (сома); 4 – аксон; 5 – миелиновая оболочка
К сожалению, в Средние века практически полное главенство захватила концепция действительно величайшего ученого Античности Аристотеля. Это сыграло отрицательную роль в развитии науки вообще и науки о мозге в частности. В то время преобладало пренебрежение опытом и возвышение логики. Так, исходя из логики, Аристотель считал, что у женщин меньше зубов, чем у мужчин. Даже будучи дважды женатым, он не удосужился пересчитать у своих жен зубы. Однако учение и философия Аристотеля столь огромны и запутаны в многочисленных комментариях, что в этой книге я не буду его приводить. А логику человеческого организма мы не понимаем до сих пор.
Прошло два тысячелетия, прежде чем догадки Герофила и его последователя Галена утвердились в умах европейских ученых. Немного позднее врач-исследователь Эразистрат из Кеоса (около 300–240 гг. до н. э.) развил исследования Герофила. Он также проводил вскрытия, на основе которых описал макроскопическое строение головного мозга, в том числе – мозговые извилины, отверстия между третьим и боковыми желудочками, мембрану, отделяющую мозжечок от мозга. Он обнаружил двигательные и чувствительные нервы. Кстати, именно он впервые ввел термины «мозг» и «мозжечок» (1)1, «паренхима» (2), «плетора» (3), «булимия» (буквально – «бычий голод») (4), «анастомоз» (5) (точнее, «synanastomosis»; приставку «syn» позднее отбросил Гален), «артерия». Эразистрат (рис. 6) обратил внимание на извилины коры мозга, связав их количество с умственным превосходством человека над животными. Он впервые создал психофизиологическую концепцию механизма сознания, согласно которой душа располагается в желудочках мозга, и кровь, проходя сквозь мозг, соприкасается с душой и «вырабатывает» сознание.

Рис. 6. Портрет Эразистрата (Дидье Декуэн, 1860). Эразистрату принадлежит первая в истории попытка сформулировать психофизиологическую концепцию механизма сознания: душа (пневма) располагается в желудочках мозга, самым главным из которых является четвертый
Гиппократ (рис. 7) считал, что в мозгу имеется три желудочка, каждый из которых занят обеспечением конкретного вида деятельности. Провидение гения: интеллект он «разместил» в переднем желудочке, то есть во фронтальной коре (рис. 8), куда его «помещают» и по сей день.

Рис. 7. Гиппократ (ок. 460 до н. э. – ок. 370 до н. э.). Крупнейший врач эпохи Античности, прозванный «отцом медицины»

Рис. 8. Модель трех желудочков Гиппократа. В переднем желудочке – интеллект
Скорее всего, представления древних о роли мозга связаны с тем, что функции остальных органов были более или менее понятны (сердце – насос и т. п.). С другой стороны, наблюдения показывали, что повреждение именно мозга приводило к расстройствам психики. Кстати, именно это соображение и, конечно, боевые раны привели к развитию нейрохирургии у древних. Пластинками закрывали травмы черепа, и наоборот, для выпускания «злого духа» в черепе сверлили отверстия. Последнее уже в чистом виде можно назвать психохирургией. Несмотря на общий уровень медицины того времени, археологи находят черепа людей, не только выживших, но и долго проживших после таких операций (рис. 9, 10).

Рис. 9. Трепанация черепа в эпоху неолита (археологические находки, Южная Америка)

Рис. 10. Трепанация черепа в эпоху Средневековья (иллюстрация из медицинской рукописи, Франция, XIV век)
В XVII веке Декарт (1596–1650), задаваясь вопросами о том, как «животные духи», содержащиеся в нервах и мышцах, обеспечивают управление организмом, как мозг регулирует бодрствование и сон, как внешний мир с его разнообразием звуков, цветов, запахов воздействует на ощущения и влияет на мир идей, по сути, предложил идею рефлекса. Разделяя понятия тела и разума, он пытался решить проблему их соотношения, то есть психофизиологическую проблему, и предложил эпифиз (6) на роль вместилища души.
Однако, пожалуй, первой научной гипотезой обеспечения мозгом психической деятельности – не психологической, а именно физиологической гипотезой, основанной на анализе работы мозга, – была многократно высмеянная френология (7). Основателем ее был Франц Йозеф Галль (1758–1828) – австрийский врач и анатом (рис. 11).

Рис. 11. Франц Йозеф Галль (1757–1828) – австрийский врач и анатом, основатель френологии – учения о взаимосвязи между психикой человека и строением поверхности его черепа
В ее основе лежит здравая мысль о том, что определенные функции обеспечивают конкретные участки мозга. По сути, такое направление современных нейронаук, как картирование мозга, основано на развитии этой гипотезы (рис. 12). Строго говоря, локализационизм (так называется это направление по-научному) в чистом виде не прошел проверку временем, так же как и холизм (представление, что весь мозг занимается каждой из задач), и сегодня говорят скорее о системном подходе. То есть каждая функция обеспечивается не одним участком, а распределенной системой. (Об этом чуть позже.) Однако двести лет назад такая гипотеза была более чем прогрессивна.

Рис. 12. Американский френологический журнал (1880)
Далее делался логичный вывод, что если какая-то функция развита сильнее, то и соответствующий участок будет больше. (Сейчас можно было бы сказать, что не участок больше, а система сложнее, что усложнение – это не обязательно гипертрофия.) Гипотеза была ошибочна, но вполне правдоподобна и логична. И далее предполагалось, что гипертрофия участка коры «выдавит» череп и в этом месте появится шишка. Для измерения головы даже был изобретен специальный прибор, определяющий локализацию неровностей (рис. 13).

Рис. 13. Психограф – френологический аппарат для считывания рельефа головы
Сегодня, когда опубликованы результаты исследований, доказывающие отсутствие какой-либо корреляции между формой мозга и черепа, легко критиковать гипотезы френологии. Но в то время она, несомненно, сыграла положительную роль, поскольку способствовала поиску закономерностей в работе мозга.
Кстати, это один из хороших примеров опасности применения логики в науке о мозге. Дело в том, что логика имеет дело скорее с моделью, чем с реальной системой. Поэтому логические построения хороши тогда, когда мы знаем принципы и правила работы системы. А мы-то их не знаем! Именно поэтому логичная и правдоподобная френология оказалась несостоятельной. Логичность или нелогичность теории в науке о мозге не может считаться критерием ее верности. Хотя нам известно о мозге достаточно много, мы не знаем основных принципов его работы, и в частности – как поведение нейронов преобразуется в мысль. Логика – наука точная, где существуют строгие правила. Если они применяются правильно, то ее выводы непогрешимы. Однако крайне важны исходные основания для ее применения. Если мы постулируем, что пространство плоское, то появляется евклидова геометрия (8), если рассматриваем сферу, то геометрия Римана (9). Вообще почти все законы физики и химии представляют собой упрощенные модели. Даже в точной физике закон Ома гласит: «Сила тока пропорциональна напряжению». На самом же деле, если делать его экспериментальную проверку, то в результате получим, что сила тока при определенных условиях, в определенном диапазоне напряжений приблизительно пропорциональна приложенному напряжению. (Именно такой результат я получил, когда на физфаке нас учили проводить экспериментальные исследования.)
Огромное преимущество физики в том, что, как правило, мы знаем, чем можно пренебречь при построении модели, поскольку существует общая теория. В биологии (тем более в физиологии мозга человека) мы еще далеки от создания такой теории. Мы не всегда знаем, что оказывает значительное влияние, а чем можно пренебречь. Кроме того, есть множество данностей, которые не объяснить логически. Например, почему у человека пять пальцев? Шесть пальцев были бы также логичны. Очень многие особенности строения организма человека и животных, по-видимому, обусловлены мутацией в генах, которая закрепилась, и дальше развитие пошло в ту или иную сторону, то есть обусловлено случайностью. А затем уже начинают действовать логичные законы. Пример френологии показывает, как правильные логические построения приводят к неверному выводу, поскольку базируются на неверных предпосылках.
И все же вернемся к локализационизму. Значимым до сего дня прорывом в исследованиях работы мозга были клинико-анатомические сопоставления, сделанные учеными Полем Брока (рис. 14) и Карлом Вернике (рис. 15).

Рис. 14. Поль Пьер Брока (1824–1880) – французский хирург, этнограф, анатом и антрополог

Рис. 15. Карл Вернике (1848–1905) – немецкий психоневролог
Они сопоставляли локализацию некоторых поражений мозга (травм) с изменениями психических функций. Оказалось, что поражение определенных областей в левом полушарии приводило к нарушениям речи. Поль Брока в 1861 году опубликовал результаты исследования больного с поражением мозга, потерявшего способность говорить. В 1873 году Карл Вернике опубликовал результаты исследования больного с поражением мозга, потерявшего способность понимать речь. Эти области, отвечающие за речь, так и названы: областями Брока и Вернике (рис. 16).

Рис. 16. Области головного мозга, отвечающие за обработку речи: 1 – зона Брока, отвечающая за артикуляцию; 2 – зона Вернике, отвечающая за понимание речи на слух
Казалось бы, вот оно: найдены центры речи! Задумаемся, что это такое – области, отвечающие за речь. Это зоны мозга, поражение которых приводит к нарушениям в артикуляционной речи (Брока) и в восприятии речи на слух (Вернике).
Вспоминается известный анекдот про исследование слуха у тараканов. Хлопнули в ладоши – они побежали. Оторвали ноги. Снова хлопнули в ладоши – не бегут. Значит, слух в ногах. Абсурд. Это показывает ограниченность клинико-анатомических сопоставлений. Кстати, позже выяснилось, что слуховыми органами у тараканов и правда являются ноги. Вот так…
Последующие исследования и многочисленные сопоставления показали, что области Брока и Вернике действительно имеют отношение к речи. Но оказалось также, что система мозгового обеспечения речи ими далеко не ограничивается. Дело в том, что клинико-анатомические сопоставления основаны на соотношении крупных поражений мозга и серьезных нарушений функций. Однако современный набор методов исследования позволяет регистрировать тонкие сигналы, связанные с работой мозга. В нашей лаборатории мы наблюдали сигналы, связанные с обеспечением грамматики речи в области, традиционно ассоциировавшейся с обеспечением движения и чувствительности. Это значит, что деятельность мозга управляется не центрами, а распределенной в пространстве и изменчивой во времени системой. (Это один из результатов моей докторской диссертации.)
Тем не менее исследователям удалось описать различающиеся между собой области мозга. В коре – это зоны, состоящие из клеток определенного вида, отличающихся одна от другой (рис. 17). Это так называемые поля, или зоны, Бродмана, названные по имени описавшего их ученого.

Рис. 17. Корбиниан Бродман в 1909 году разделил кору головного мозга на 52 зоны по функциональному значению
В различных областях мозга преобладают нейроны различного вида (рис. 18). Плотность клеток определенного типа изменяется от одной области к другой. Это было использовано Бродманом для выделения определенных областей коры мозга.

Рис. 18. Типы нейронов: 1 – мультиполярные нейроны; 2 – биполярные нейроны; 3 – униполярные нейроны; 4 – безаксонные нейроны
Сейчас благодаря развитию технологий гистологических исследований известно, что поля Бродмана не являются однородными образованиями и подразделяются на области и зоны. Особенно это характерно для лобной доли.
Описаны сегодня и так называемые ядра в глубоких структурах и образования в коре. У них странные названия: зрительный бугор, или таламус, гиппокамп, что в переводе означает «морской конек», бледный шар, миндалина, скорлупа – ну прямо как названия созвездий. Русский нейрофизиолог и психиатр В.М. Бехтерев (рис. 19) описал «проводящие пути головного мозга». В 1887–1893 годах, работая в Казани, он открыл эти пути, показав связь между отдельными участками коры больших полушарий и определенными внутренними органами и тканями. Эта работа принесла ему мировую известность. Бехтерев исследовал сотни препаратов мозга, в результате из тонкой металлической проволоки была создана первая трехмерная схема проводящих путей (рис. 20).
Die kostenlose Leseprobe ist beendet.