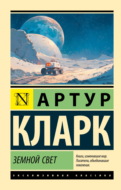Buch lesen: "Письмо незнакомки"
© Перевод. Д. Горфинкель, 2018
© Перевод. И. Мандельштам, 2018
© Перевод. П. Бернштейн, наследники, 2018
© ООО «Издательство АСТ», 2019
* * *
Амок
В марте 1912 года в Неаполе, при разгрузке в порту большого океанского парохода, произошел своеобразный несчастный случай, по поводу которого в газетах появились подробные, но весьма фантастические сообщения. Хотя я сам был пассажиром «Океании», но так же, как и другие, не мог быть свидетелем этого необыкновенного происшествия, так как оно случилось в ночное время, при погрузке угля, и мы, чтобы спастись от шума, съехали все на берег и там проводили время в разных кафе и театрах. Как бы то ни было, я лично думаю, что некоторые предположения, которых я тогда публично не высказывал, содержат в себе истинное объяснение той ужасной сцены, а отдаленность лет позволяет мне использовать доверие, оказанное мне во время одного разговора, непосредственно предшествовавшего странному эпизоду.
Когда я хотел заказать в пароходной конторе в Калькутте место для возвращения в Европу на борту «Океании», клерк только с сожалением пожал плечами. Он не знал, возможно ли еще обеспечить мне каюту, так как теперь, перед самым наступлением сезона дождей, все места бывают распроданы уже в Австралии, и он должен сначала дождаться телеграммы из Сингапура.
Но на следующий день он сообщил мне приятную новость, что может предложить мне одну каюту, правда, не особенно комфортабельную, под палубой и в средней части парохода. Я с нетерпением стремился домой, поэтому не стал медлить и просил закрепить место за мной.
Клерк правильно уведомил меня. Пароход был переполнен, а каюта плоха – тесный четырехугольный закоулок недалеко от паровой машины, освещенный только тусклым глазом иллюминатора. В душном, застоявшемся воздухе пахло маслом и плесенью; ни на миг нельзя было отойти от электрического вентилятора, который, как обезумевшая стальная летучая мышь, вертелся и визжал над головой. Внизу машина кряхтела и стонала, как грузчик, без конца взбирающийся с углем по одной и той же лестнице; наверху непрерывно шаркали шаги гуляющих на палубе. Поэтому, сунув чемодан в какую-то затхлую серую дыру, я поспешил назад на палубу и, поднимаясь из глубины, вдохнул полной грудью мягкий, сладостный воздух, доносившийся к нам с берега.
Но и на палубе для прогулок царили сутолока и теснота: тут было полно людей, которые с нервностью, вызванной вынужденным бездействием, без умолку болтали и ходили взад и вперед. Щебетание и трескотня женщин, безостановочное кружение по тесным проходам палубы, возбужденная болтовня пассажиров, скоплявшихся перед стульями для отдыха, – все это почему-то причиняло мне боль. Я видел новый мир, впитывал сливающиеся, мелькающие с бешеной быстротой картины. Теперь я хотел подумать, привести в порядок свои впечатления, воспроизвести в памяти то, что воспринял глаз, но здесь, на этом тесном бульваре, не было ни минуты покоя. Строчки в книге разбегались от мелькающих теней проходящих мимо людей. Невозможно было оставаться наедине с собой на этой залитой солнцем и полной движения пароходной улице.
Я три дня боролся с этим чувством и присматривался к людям и к морю, но море было всегда одним и тем же, пустынным и синим, и только на закате оно вдруг загоралось всеми красками радуги; а людей я уже через трое суток знал наизусть. Все лица были мне знакомы до неприятности; резкий смех женщин больше не раздражал меня, и не сердили вечные споры двух голландских офицеров, моих соседей. Мне оставалось только бегство, но в каюте было жарко и душно, а в салоне английские мисс беспрерывно упражнялись на рояле, выбирая для этого самые затасканные вальсы. Кончилось тем, что я решительно изменил порядок дня и нырял в каюту сразу после обеда, предварительно оглушив себя парой стаканов пива; это давало мне возможность проспать ужин и вечерние танцы.
Я проснулся, когда в моем маленьком гробу было уже совсем темно и тихо. Вентилятор я выключил, и воздух полз по вискам, жирный и влажный. Чувства были притуплены, и мне нужно было несколько минут, чтобы сообразить, где я и который может быть час. Очевидно, было уже за полночь, потому что я не слышал ни музыки, ни неустанного шарканья шагов. Только машина, дышащее сердце Левиафана, кряхтя, толкала потрескивающее тело корабля вперед, в необозримое.
Ощупью выбрался я на палубу. Она была пуста. И когда я поднял взор над дымящейся башней трубы и призрачно мерцающими тросами, мои глаза озарил вдруг магический свет. Небо сияло. Оно казалось темным рядом с белизной пронизывавших его звезд, но все-таки оно сияло; казалось, что бархатный полог застилает какую-то светящуюся поверхность, а звезды – только отверстия и прорези, через которые просвечивает этот неописуемый блеск. Никогда не видел я небо таким, как в ту ночь, таким сияющим, таким холодным, как сталь, и в то же время искрящимся, пенящимся, залитым светом, излучаемым луной и звездами, но горящим как будто в какой-то таинственной глубине. Белым лаком блестели в лунном свете все очертания парохода, резко выделяясь на темном бархатном фоне неба; канаты, реи, все контуры растворились в этом струящемся блеске. Словно в пустоте висели огни на мачтах, а над ними круглый глаз наблюдательной корзинки – земные желтые звезды среди сверкающих небесных.
Над самой головой стояло таинственное созвездие Южный Крест, прибитый мерцающими бриллиантовыми гвоздями к Неведомому; казалось, что он колыхался, тогда как движение создавал только ход корабля, который, слегка дрожа и дыша полной грудью, то поднимаясь, то опускаясь, гигантским поплавком подвигался вперед по темным волнам. Я стоял и смотрел вверх. Я чувствовал себя, как в ванне, где сверху падает теплая вода, только это был свет, белый и теплый, изливавшийся мне на руки, на плечи, нежно струившийся вокруг головы и, казалось, проникавший внутрь, потому что все смутное в моей душе вдруг прояснилось. Я дышал свободно и чисто и с восторгом ощущал на губах, как прозрачный напиток, мягкий, шипучий, опьяняющий воздух, напоенный дыханием плодов и ароматом далеких островов. Теперь, впервые с тех пор, как я поднялся по трапу, меня охватила священная радость мечтания и другая, более чувственная, заставлявшая меня, словно женщину, отдавать свое тело окружающей неге. Я хотел лечь и устремить взор вверх на белые иероглифы. Но палубные кресла были все убраны, и нигде на всей пустынной палубе для прогулок я не видел удобного местечка, где можно было бы отдохнуть и помечтать.
Я начал пробираться ощупью вперед, подвигаясь к передней части парохода, совершенно ослепленный светом, все сильнее изливавшимся на меня со всех сторон. Мне было почти больно от этого резко белого звездного света, мне хотелось укрыться куда-нибудь в тень, растянуться на циновке, не чувствовать блеска на себе, а только над собой и отражения его от вещей – как смотрят на внешний мир из затемненной комнаты. Спотыкаясь о канаты и обходя железные лебедки, я добрался наконец до бака и стал смотреть, как форштевень рассекает мрак и расплавленный лунный свет вскипает пеной с обеих сторон лезвия. Неустанно поднимался и опускался плуг в черную жидкую почву, и я чувствовал всю муку побежденной стихии, всю радость земной мощи в этой искристой игре. И в созерцании я утратил чувство времени. Не знаю, час ли я так простоял или несколько минут; качание чудовищной колыбели корабля унесло меня из пределов времени. Я чувствовал лишь, что мной овладевает усталость, похожая на сладострастие. Я хотел спать, грезить, но только не уходить от этих чар, не спускаться в мой гроб. Бессознательно я нащупал ногой бухту каната. Я сел, закрыл глаза, но в них все-таки проникал струившийся отовсюду серебристый отсвет. Под собой я чувствовал тихое журчание воды, вверху – неслышный звон белого потока Вселенной. И мало-помалу это журчание наполнило мою кровь, я больше не сознавал самого себя, не отличал, мое ли это дыхание, или биение далекого сердца корабля; я растекался, сливался в этом неугомонном журчании с полуночным миром.
Тихий сухой кашель возле меня заставил меня вздрогнуть. Я сразу очнулся от своего опьянения. Глаза, ослепленные белым блеском, проникавшим даже сквозь закрытые веки, с трудом открылись, – как раз против меня, в тени борта, сверкало что-то похожее на отблеск от очков; потом там вспыхнула большая круглая искра – несомненно, огонек трубки. Очевидно, сидя и любуясь пеной у носа корабля, я не заметил этого соседа, неподвижно сидевшего здесь все это время. Невольно, не придя еще в себя, я произнес по-немецки:
– Простите!
– О, пожалуйста… – по-немецки же ответил голос из темноты.
Не могу передать, как странно и жутко было сидеть безмолвно во мраке возле человека, которого не было видно. Я чувствовал, что этот человек смотрит на меня так же напряженно, как и я на него; струящийся и мерцающий белый свет над нами был так силен, что каждый из нас видел только контур другого в тени. Но мне казалось, что я слышу, как дышит этот человек и как он посасывает свою трубку.
Молчание стало невыносимым. Охотнее всего я ушел бы, но это казалось мне слишком грубым и внезапным. В смущении я вынул папиросу. Вспыхнула спичка, и огонек ее секунду дрожал в нашем тесном углу. За стеклами очков я увидел чужое лицо, которого ни разу не замечал на борту – ни за обедом, ни во время прогулки; и не знаю, было ли больно моим глазам от внезапной вспышки, или то была галлюцинация, но это лицо показалось мне мрачным, искаженным ужасом, призрачным. Однако, прежде чем я мог отчетливо разглядеть его, темнота поглотила опять освещенные на миг черты; я видел лишь очертание фигуры, темной на темном фоне, и минутами круглое огненное кольцо трубки среди пустого пространства. Никто из нас не говорил, и это молчание угнетало, как душный тропический воздух.
Наконец я не выдержал. Вскочив на ноги, я вежливо сказал:
– Спокойной ночи.
– Спокойной ночи, – ответил из мрака хриплый, жесткий, словно заржавленный голос.
Я, спотыкаясь, побрел мимо такелажа и стоек. Вдруг позади раздались шаги, торопливые и нетвердые. Это был мой бывший сосед. Невольно я остановился. Он тоже остановился в нескольких шагах от меня, и я сквозь темноту ощутил какую-то робость и удрученность в его походке.
– Простите, – поспешно заговорил он, – если я обращусь к вам с просьбой. Я… я… – он запнулся и от смущения не мог сразу продолжать, – я… у меня есть личные… чисто личные причины искать уединения… у меня траур… я избегаю общества пассажиров… Вас я не имею в виду… нет, нет… Я хотел только попросить вас… вы меня очень обязали бы, если бы никому на борту не говорили о том, что видели меня здесь… На это есть… так сказать, личные причины, мешающие мне быть в настоящее время на людях… да… так вот… мне было бы чрезвычайно неприятно, если бы вы упомянули о том, что кто-то здесь ночью… что я…
Слова опять застряли у него в горле. Я поспешил вывести его из замешательства, тотчас же обещав ему исполнить его просьбу. Мы пожали друг другу руки. Потом я вернулся в свою каюту и уснул глухим, чрезвычайно тревожным сном, полным причудливых видений.
Я сдержал обещание и никому не рассказал о странной встрече, хотя искушение было велико. Во время морских путешествий всякая мелочь превращается в событие, будь то парус на горизонте, взметнувшийся над волной дельфин, замеченный новый флирт или случайная шутка. Кроме того, меня мучило желание узнать что-нибудь об этом необыкновенном пассажире. Я просмотрел судовые списки в поисках его имени, присматривался к людям, стараясь отгадать, не имеют ли они отношения к нему; целый день я был во власти нервного нетерпения и ждал вечера, когда мог бы снова встретиться с незнакомцем. Загадочные психологические явления неодолимо притягивают меня; они волнуют меня до безумия, и я не могу успокоиться, пока мне не удастся разгадать скрытую в них тайну. Люди со странностями могут зажечь во мне жажду узнать их, которая немногим меньше жажды обладания женщиной. День казался мне длинным и пустым. Я рано лег в постель, я знал, что в полночь проснусь, что какая-то сила меня разбудит.
И действительно, я проснулся в тот же час, как и вчера. На покрытом фосфором циферблате часов обе стрелки перекрывали друг друга, в виде светящейся черты. Я поспешно поднялся из душной каюты в еще более душную ночь.
Звезды сверкали, как вчера, и обливали рассеянным светом дрожавший пароход; в вышине горел Южный Крест. Все было как вчера – в тропиках дни и ночи еще более похожи на близнецов, чем в наших широтах, – только во мне не было вчерашнего нежного, баюкающего, мечтательного опьянения. Что-то влекло меня, смущало, и я знал, куда меня влекло: туда, к черным лебедкам на носу; я хотел знать, не сидит ли там тот, неподвижный и таинственный. Сверху раздался удар корабельного колокола. Меня словно что-то толкнуло. Шаг за шагом я подвигался вперед, уступая какой-то притягательной силе. Не успел я еще добраться до места, как впереди что-то сверкнуло, точно красный глаз, – его трубка. Значит, он сидит там.
Я невольно отступил на шаг и остановился. В следующий миг я ушел бы назад, но что-то зашевелилось в темноте, кто-то встал, сделал два шага, и вдруг я услышал прямо перед собой его голос, вежливый и тихий.
– Простите, – сказал он, – вы, очевидно, хотите пройти на ваше место, и мне показалось, что вы решили уйти, когда увидели меня. Прошу вас, садитесь, а я сейчас уйду.
Я, со своей стороны, поспешил ответить, что прошу его остаться и что я отошел назад, чтобы ему не помешать.
– Мне вы не мешаете, – с какой-то горечью сказал он, – напротив, я рад не быть некоторое время один. Уже десять дней как я не сказал ни слова… собственно, даже несколько лет… и мне тяжело, я задыхаюсь, верно, оттого, что должен все глотать молча… я больше не могу сидеть в каюте, в этом… в этом гробу… Я больше не могу… и людей я тоже не переношу, потому что они целый день смеются… Я не могу это выносить теперь… я слышу это в своей каюте и затыкаю себе уши… правда, они ведь не знают, что… они и понятия не имеют… а потом, какое дело до этого чужим…
Он снова запнулся и вдруг неожиданно и поспешно сказал:
– Но я не хочу стеснять вас… простите мою болтливость.
Он поклонился и хотел уйти. Но я настойчиво удерживал его:
– Вы нисколько не стесняете меня. Я тоже рад обменяться здесь, в тиши, парой слов… Не хотите ли папиросу?
Он взял. Я зажег спичку. Снова в колеблющемся свете появилось его лицо, оторвавшееся от черного фона; на этот раз оно было прямо повернуто ко мне. Глаза из-за очков впились в мое лицо, жадно и с какой-то безумной силой. Меня охватил трепет. Я чувствовал, что этот человек хочет говорить, что он должен говорить. И я знал, что я должен молчать, чтобы облегчить ему это.
Мы снова сели. У него был второй палубный стул, который он предложил мне. Мы курили, и по тому, как беспокойно прыгал в темноте огонек его папиросы, я видел, что его рука дрожала. Но я молчал, молчал и он. Потом вдруг его голос тихо спросил:
– Вы очень устали?
– Нет, нисколько.
Голос во мраке снова на минуту замер.
– Мне хотелось спросить вас кое о чем… то есть я хотел бы вам кое-что сказать. Я знаю, я прекрасно знаю, как нелепо обращаться к первому встречному, однако… я… я нахожусь в ужасном психическом состоянии… я дошел до предела, когда мне во что бы то ни стало нужно с кем-нибудь поговорить… не то я погибну… Вы поймете меня, когда я… да, когда я вам расскажу… Я знаю, что вы не сможете помочь мне… но я прямо болен от этого молчания… а больной всегда смешон в глазах других…
Я прервал его и просил не терзаться напрасно и, не стесняясь, рассказать мне все… конечно, я не мог ему ничего обещать, но на всяком человеке лежит долг предложить свою помощь. Когда мы видим ближнего в беде, то естественным образом рождается долг помочь.
– Долг… предложить свою помощь… долг сделать попытку… так и вы, значит, думаете, что на нас лежит долг… долг… предложить свою помощь…
Трижды повторил он эту фразу. Мне стало жутко от этой тупой, упорной манеры повторять слова. Не сумасшедший ли это человек? Не пьян ли он?
И, словно угадывая мою мысль, он изменившимся голосом произнес:
– Вы, может быть, принимаете меня за безумного или за пьяного. Нет, этого нет – пока еще нет. Только сказанное вами слово странно поразило меня… поразило потому, что это как раз то, что меня сейчас мучит: лежит ли на нас долг… долг…
Он снова начал спотыкаться. Потом он замолк и начал с новым усилием:
– Дело в том, что я врач. В нашей практике часто бывают такие случаи, такие роковые… да, я бы сказал, предельные случаи, когда не знаешь, лежит ли на тебе долг… долг ведь не один – перед ближним, есть еще долг перед самим собой, и перед государством, и перед наукой… Нужно помогать, конечно, для этого мы и существуем… но такие правила хороши только в теории… До каких пределов нужно помогать?.. Вот вы чужой человек, и я для вас чужой, и я прошу вас молчать о том, что вы меня видели… хорошо, вы молчите, исполняете этот долг… Я прошу вас разговаривать со мной, потому что я прямо умираю от своего молчания… Вы готовы слушать меня… хорошо… Но это ведь легко… а что, если бы я попросил вас схватить меня и бросить за борт… тут уж кончается любезность, готовность помогать. Где-то она должна кончаться… там, где начинается наша собственная жизнь, наша собственная ответственность… где-то это должно кончаться… где-то должен прекращаться этот долг… или, может быть, как раз у врача он не должен кончаться? Неужели врач должен быть каким-то искупителем, каким-то всесветным помощником только потому, что у него есть диплом, написанный латинскими буквами; неужели он действительно должен отбросить всякую личную жизнь и подлить себе воды в кровь, когда какая-нибудь… когда какой-нибудь пациент является и требует от него благородства, готовности помочь и доброты? Да, где-нибудь кончается долг… там, где человек больше не может, именно там…
Он снова приостановился и затем продолжал:
– Простите, я говорю с таким возбуждением, но я не пьян… пока еще не пьян… впрочем, и это со мной теперь часто бывает, я спокойно признаюсь в этом вам, в этом дьявольском одиночестве… Подумайте: я семь лет прожил почти исключительно среди туземцев и животных… тут можно отучиться от спокойной речи. Потом, как начнешь говорить, так всего сразу не перескажешь… Но, подождите… да, я уже знаю… я хотел вас спросить, хотел представить вам один случай… лежит ли на нас долг помочь… так, с ангельской чистотой помочь… Впрочем, я боюсь, что это будет длинная история. Вы в самом деле не устали?
– Да нет же, нисколько.
– Я… я очень признателен вам… не хотите ли?
Он пошарил где-то за собой в темноте. Звякнули одна о другую две, три, несколько бутылок, которые он поставил возле себя. Он предложил мне стакан виски, к которому я едва прикоснулся, в то время как он разом опрокинул свой.
На миг воцарилось молчание. Вдруг ударил колокол: половина первого.
– Итак… я хотел рассказать вам один случай. Предположите, что врач в одном… в маленьком городке… или, вернее, в деревне… врач, который… врач, который…
Он снова запнулся. Потом вдруг, вместе с креслом, рванулся ко мне.
– Так ничего не выйдет. Я должен рассказать вам все прямо, с самого начала, а то вы не поймете… Это нельзя изложить в виде примера, в виде теоретической возможности… я должен рассказать вам свою историю. Тут не должно быть ни стыда, ни игры в прятки… передо мной ведь тоже люди раздеваются донага и показывают мне свои язвы и выделения… когда хочешь, чтобы тебе помогли, то нечего вилять и стараться что-нибудь утаить… Итак, я не стану рассказывать вам про случай с неким воображаемым врачом… я раздеваюсь перед вами догола и говорю: я… стыдиться я разучился в этом собачьем одиночестве, в этой проклятой стране, которая выедает душу у человека и высасывает у него мозг из костей.
Вероятно, я сделал какое-нибудь движение, так как он вдруг остановился.
– Ах, вы протестуете… понимаю: вы в восторге от Индии, от храмов и пальм, от всей романтики двухмесячной поездки. Да, тропики полны очарования, если видеть их, только катаясь по железной дороге, в автомобиле, на рикше: я сам это чувствовал, когда семь лет назад впервые приехал сюда. О чем я только не мечтал: я хотел овладеть языками и читать священные книги в подлиннике, хотел изучать болезни, работать для науки, ознакомиться с психикой туземцев; я был, как говорят на европейском жаргоне, миссионером человечности и цивилизации. Всем, кто сюда приезжает, грезится тот же сон. Но под невидимыми стеклами этой оранжереи человек теряет силы, лихорадка – от нее ведь не уйти, сколько ни есть хинина, – подтачивает нервы, становишься вялым и ленивым, рыхлым, как медуза. Европеец невольно отстает от своего естественного образа жизни, если попадает из больших городов на этакую проклятую болотную станцию. Рано или поздно пристукнет всякого: одни запивают, другие курят опиум, третьи дерутся и звереют, – так или иначе, но тупеют все. Они стремятся в Европу, мечтают о том, чтобы когда-нибудь опять пройти по улице, посидеть в светлой комнате среди белых людей, год за годом мечтают об этом, а когда настает срок, когда можно было бы получить отпуск, то им уже лень двинуться с места. Они знают, что всеми забыты, сознают, что они чужие, как морские ракушки, на которые всякий наступает ногой. И они остаются, завязшие в своих болотах, и погибают в этих жарких, сырых лесах. Пусть будет проклят тот день, когда я продал себя в эту вонючую дыру…
Между прочим, это было не так уж вполне добровольно. Я учился в Германии, сделался врачом, даже хорошим врачом, и работал при лейпцигской клинике. В одном из медицинских журналов того времени много писали по поводу нового впрыскивания, которое я первый ввел в практику. Тут подоспела история с одной бабенкой, которую я впервые увидел в больнице: она своего любовника довела до бешенства, и он ранил ее из револьвера; вскоре и я был таким же бешеным. У нее была манера держаться высокомерно и холодно – это и выводило меня из себя: властные и дерзкие женщины всегда умели прибрать меня к рукам, а эта так скрутила меня, что я и совсем потерял голову. Я делал все, что она хотела, я, – да что там, отчего мне не сказать всего, ведь прошло уже восемь лет, – я из-за нее растратил госпитальные деньги, и, когда это выплыло наружу, скандал был ужасный. Правда, моему дяде удалось прикрыть мое преступление, но карьера погибла. В это время я услышал, что голландское правительство вербует врачей для работы в колонии и предлагает подъемные. Я сразу сообразил, что это, верно, отчаянное дело, раз за него предлагают деньги вперед; я знал, что могильные кресты на этих пораженных лихорадкой плантациях растут втрое быстрее, чем у нас; но когда человек молод, ему всегда кажется, что лихорадка и смерть постигнут кого угодно, но только не его. Ну что же, выбора у меня не было, я поехал в Роттердам, подписал контракт на десять лет и получил внушительную пачку банкнот. Половину я отослал домой, а другую выудила у меня в портовом квартале одна особа, которая обобрала меня дочиста только потому, что была удивительно похожа на ту проклятую кошку. Без денег, без часов, без иллюзий уезжал я из Европы и не испытывал особой грусти, когда наш пароход выбирался из гавани. А потом я сидел на палубе, как вы сидите, как сидели все, и видел Южный Крест и пальмы, сердце таяло у меня в груди: ах, леса, одиночество, тишина! – мечтал я. Ну, одиночества-то я получил довольно. Меня назначили не в Батавию или Сурабайю, в город, где есть люди, и клубы, и гольф, и книги, и газеты, а – впрочем, название не играет никакой роли – на одну из районных станций, в двух днях езды от ближайшего города. Два-три скучных иссохших чиновника, пара полубелых туземцев – это было все мое общество, а кроме него, вокруг только лес, плантации, пустыни и болота.
Вначале еще было сносно. Я занимался всякой всячиной; раз, когда вице-резидент упал во время инспекционной поездки из автомобиля и сломал себе ногу, я без всяких помощников сделал ему операцию, о которой много говорили. Я собирал яды и оружие туземцев, занимался множеством мелочей, лишь бы не опуститься. Но все это продолжалось только до тех пор, пока во мне действовала привезенная из Европы сила; потом я завял. Мои европейцы наскучили мне, я прервал общение с ними, пил и отдавался думам. Мне оставалось ведь всего два года, потом я освобождался с пенсией, мог вернуться в Европу, начать жизнь сначала. Я забросил все занятия и только ждал, лежал в своей берлоге и ждал. И так я торчал бы там и по сей день, если бы не она… если бы не случилось все это…
Голос во мраке умолк. И трубка больше не тлела. Стало так тихо, что я сразу услышал опять звук воды, пенившейся под носом парохода, и отдаленное глухое биение сердца машины. Мне хотелось закурить папиросу, но я боялся резкой вспышки огня и отсвета на его лицо. Он все молчал. Я не знал, кончил ли он, дремлет ли или спит, таким мертвым казалось мне его молчание.
Вдруг прозвучал отрывистый сильный удар колокола: час. Он встрепенулся; и я снова услышал звон стакана. Очевидно, его рука искала виски. Послышался тихий звук глотка, затем вдруг его голос раздался снова, но на этот раз более напряженный и страстный.
– Да, так вот… подождите… да, так вот, это было так. Сижу я там, в своей проклятой дыре, сижу неподвижно, как паук в паутине, уже целые месяцы. Это было как раз после дождей. Неделя за неделей барабанила вода по крыше, ни одна душа не заглядывала ко мне, ни один европеец; изо дня в день сидел я в доме со своими желтыми женщинами и своим добрым виски. Я был тогда как раз совсем «down»1, совсем болен Европой: когда я читал в каком-нибудь романе про светлые улицы и белых женщин, у меня начинали дрожать пальцы, я не могу передать вам это состояние, это особого рода тропическая болезнь, яростная, лихорадочная и в то же время бессильная тоска по родине. Так я сидел тогда, кажется, с географическим атласом в руках и мечтал о путешествиях. Вдруг раздался возбужденный стук в дверь, и я увидел боя и одну из женщин. Лица обоих выражают крайнее изумление. Они докладывают с важным видом: пришла дама, какая-то леди, белая женщина.
Я вскакиваю. Я не слышал шума экипажа или автомобиля. Белая женщина здесь, в этой глуши?
Я готов уже выбежать на лестницу, но делаю над собой усилие и останавливаюсь. Смотрю мельком в зеркало, наскоро привожу себя немного в порядок. Я нервничаю, чувствую беспокойство, меня мучит неприятное предчувствие, так как я не знаю никого на свете, кто из дружбы пришел бы ко мне. Наконец я иду вниз.
В передней ждет дама и поспешно направляется мне навстречу. Густая автомобильная вуаль закрывает ее лицо. Я хочу поздороваться с ней, но она сама начинает говорить.
– Добрый день, доктор, – говорит она по-английски. Ее речь кажется мне слишком плавной и как бы заранее заученной. – Простите, что я застаю вас врасплох. Но мы были как раз на станции, наш автомобиль остался там (почему она не подъехала к дому? – молнией блеснула у меня в голове мысль) – и вот я вспомнила, что вы живете здесь. Я так много слышала о вас, с вице-резидентом вы проделали прямо чудо, его нога в безукоризненном состоянии, и он по-прежнему играет в гольф. О да, у нас там все говорят еще об этом, и мы охотно отдали бы нашего ворчуна военного доктора и обоих остальных в придачу, если бы вы приехали к нам. Вообще, почему вас никогда не видно? Вы живете точно йог…
И так она тараторит без конца, торопится и не дает мне вставить ни слова. Что-то нервное и неспокойное чувствуется в этой скользкой болтовне, и я сам заражаюсь беспокойством своей гостьи. Почему она так много говорит, задаю я себе вопрос, почему не называет себя, почему не снимает вуали? Лихорадка у нее, что ли? Больна она? Сумасшедшая? Я все больше волнуюсь, чувствую себя в смешном положении, стоя так перед ней и позволяя изливать на себя эту бесконечную болтовню. Наконец она на миг останавливается, и я могу пригласить ее наверх. Она делает бою знак остаться и первая поднимается по лестнице.
– Как у вас мило, – говорит она, осматривая мою комнату. – О, какая прелесть: книги! Я хотела бы их все прочесть! – Она подходит к полке и рассматривает названия книг. В первый раз, с тех пор как я вышел к ней, она на минуту умолкает.
– Разрешите мне предложить вам чаю? – спросил я.
Она, не оборачиваясь, продолжает рассматривать книжные корешки.
– Нет, спасибо, доктор… нам нужно сейчас же уходить… у меня мало времени… это была ведь просто маленькая прогулка… Ах, у вас есть и Флобер, я его так люблю… чудесная, удивительная вещь его «L’Education sentimentale»2… я вижу, вы читаете и по-французски… Чего только вы не знаете!.. Да, немцы, они проходят все в школе… Право, удивительно – знать столько языков!.. Вице-резидент бредит вами и говорит всегда, что вы единственный хирург, к кому он пошел бы под нож… наш добряк доктор годится только для игры в бридж… кстати, знаете ли (она все еще говорит не оборачиваясь) – сегодня мне самой пришло в голову, что хорошо было бы разок посоветоваться с вами… и так как мы как раз проезжали мимо, то я подумала… ну вы сегодня, может быть, заняты… я лучше заеду в другой раз.
«Наконец-то ты раскрыла карты!» – сейчас же подумал я. Но я не дал ей ничего заметить и заверил ее, что почту за честь быть полезным ей теперь или когда ей угодно.
– У меня ничего серьезного, – сказала она, полуобернувшись ко мне и в то же время перелистывая книгу, снятую ею с полки, – ничего серьезного, пустяки… женские неприятности, головокружение, обмороки. Сегодня утром во время езды, на повороте, мне вдруг стало дурно, raide morte3… бой должен был посадить меня и принести воды… ну, может быть, шофер слишком быстро ехал… как вы думаете, доктор?
– Не могу так об этом судить. У вас часто такие обмороки?
– Нет… то есть да… в последнее время… именно в самое последнее время… да… обмороки и тошнота.
Она снова стоит уже перед книжным шкафом, ставит книгу на место, вынимает другую и начинает перелистывать. Удивительно, почему это она все перелистывает… так нервно, почему не поднимает взора из-под вуали? Я намеренно ничего не говорю. Мне хочется заставить ее ждать. Наконец она снова начинает в своей развязной и суетливой манере:
– Не правда ли, доктор, в этом нет ничего серьезного? Это не какая-нибудь опасная тропическая болезнь…
– Я должен сначала посмотреть, нет ли у вас жара. Позвольте ваш пульс…
Я направляюсь к ней, но она уклоняется легким движением.