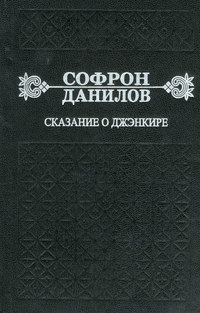Buch lesen: "Сказание о Джэнкире"
ПРОЛОГ
Только начал утирать взопревшее от пота лицо подолом рубахи, как у самых его ног что-то быстро прошмыгнуло; как будто почувствовал и касание. «Это, кажется, Хопто…» – подумал он с облегчением. Но, открыв глаза и подслеповато пошарив вокруг, никого поблизости не обнаружил. Что это могло быть? Неужели просто примерещилось? Не дух ли смерти посетил его ненароком – удостовериться, охота ли ему еще продолжать жить или, намаявшись и махнув рукой на бесполезное прозябание, предпочитает без сожаления покинуть сей опостылевший мир?.. Нет, сам он звать не звал, но приходу Его не удивился и тем более не испугался. Словно даже готов был к этой встрече.
Старый Дархан знал, что умирать не очень страшно: однажды он почти побывал на том свете. Как говорится, одной ногой в могилу оступился – это точно. Выходит, жил как бы заново, родившись второй раз. Впрочем, задерживаться на подобной мысли не было никакой нужды; и она, мелькнув неосязаемой тенью, тут же и рассеялась.
Другое повергло Дархана в расстройство: куда мог запропаститься верный друг и страж Хопто? Был бы он сейчас с ним рядом, голубчик Хопто! Беспокойно крутился бы вокруг, ластился, поблескивал-вопрошал умными зелеными глазами: «О чем твоя грусть-печаль?» И развиднелось бы в душе – проглянула бы голубая прогалина среди несусветного мрака. Дархан до сих пор не перестал дивиться: как ни скрытничай, пес безошибочно определял настроение своего хозяина. Хотя чему же удивляться? Это необъяснимое чутье он унаследовал от своего дальнего предка; да и в остальном Он был точь-в-точь копией того, давнего, словно бы родившегося вновь. И общая стать, и острые уши торчком, и вытянутая морда с носом в пестрине, и глаза – две капли воды. И «Хопто» назван он был неспроста – в память и честь своего прародителя, погибшего совсем еще молодым, во цвете лет и сил…
Произошло это, помнится, на втором году войны, где-то в самом конце июля: в тот день на росистой зорьке впервые чиркнул истоcковавшейся косой; а то все дожидался, когда луг пожелтеет, как хвост сарыча1. И напевал, наверное, – тешился от неизъяснимой радости, словно знакомой до рождения и всякий раз волнующей по-новому. Косил и пел. И так длилось вечность, ибо время для него перестало существовать. Однако и притомился в конце концов.
В самый полуденный зной, возвращаясь к своему шалашу на омурган2, в просвете между деревьев он увидел подле кострища темную смутную тень – не то зверь какой, не то человек. Испуганный, замер. Остерегаться тогда оснований было больше чем достаточно: в трех-четырех кёсах3 отсюда находились золотые прииски, где работали заключенные, жившие неподалеку в лагерях. То и дело доходили страшные слухи: там беглые зеки вырезали семью, а там – и вовсе целый выселок.
Попятившийся назад Дархан тихо свистнул верного пса, оставшегося на опушке рыть мышиную нору, и молча показал пальцем в сторону шалаша. Разразившись громким лаем, Хопто стремглав кинулся к стану.
Сгорбленный силуэт вскочил на ноги – человек! Лучше был бы какой-нибудь зверь… Дархан не успел и подумать, как Хопто уже стремительно обежал его, точно заключая в магический круг, исчез в шалаше, тут же выскочил вон; затем, присев возле незнакомца, внимательно обнюхал его и…
Только увидев, что Хопто как ни в чем не бывало вразвалку трусит обратно, Дархан перевел дух. Подбежавший пес дал знать глазами – мол, опасаться нечего, – и повел за собой робеющего хозяина.
– Здравствуйте… – едва приметным поклоном поприветствовал Дархана нечаянный гость.
Был он высок ростом. Молод ли, стар – по облику не угадать: то, что было когда-то человеческим лицом, теперь, дочерна сожженное солнцем, густо поросло рыжеватыми с тусклой проседью волосами. Одежда – ветхие рваные штаны и подобие куртки из мешковины, ноги обернуты в тряпье, из которого торчали наружу голые пальцы. На долгом своем веку Дархану еще не доводилось встречать такого изможденного, в чем душа держится человека – живой скелет, туго обтянутый сухой сероватой кожей.
«Беглец…» Хотя понял – и немудрено – с первого взгляда, Дархана самого удивило: почему его страх не берет? Что-то странное творилось и с собакой: смиренно положив голову на лапы, блаженно зажмурив глаза, лежала себе в тени.
– Дорообо…
Хоть и откликнулся на приветствие, как требует обычай, руки не протянул. Один создатель ведает, что это за человек, что у него на уме. Может, кроток и безобиден он только с виду, а дай повод – что стоит такому, отчаявшемуся, потерявшему самое дорогое в жизни, что может быть у человека, обернуться лютым зверем? Кто может поручиться? Правда, замышляй пришелец что-то коварное, Хопто вел бы себя совершенно иначе: злого человека, как он ни притворяйся, учуял бы своим собачьим нюхом безошибочно. Не промахнулся ни разу. Это и притупляло тревогу. Но все еще не решаясь, что предпринять дальше, стоял недвижно чуть поодаль, не приближаясь слишком.
Между тем незнакомец, показывая пальцем на закопченный чайник, пытался что-то объяснить.
По-русски Дархан и понимал-то всего ничего, но по виноватости в голосе пришельца, по тому, как тот прижимал к сердцу грязную с обломанными ногтями ладонь, по выражению глаз догадался: он просит извинения, что позволил себе без разрешения выпить остаток воды из чайника.
– Ничиво… ничиво… чичас кусат… чай вари…
Опередив Дархана, человек с суетливой радостью подхватил чайник:
– Я – я сам… где у вас вода?
Поняв вопрос, Дархан махнул рукой в глубь луговины, где сам брал воду в старице:
– Там… там… ыллык4… хади… – и демонстративно потоптался на месте.
«Как же так: человек, видать, зверски голодал, а ничего тут не тронул, ограничился лишь глотком пустой воды?» – Дархан необычайно поразился, обнаружив, что еда, впопыхах им не прибранная, а просто накрытая миской, осталась нетронутой.
Чайник быстро вскипел, и они молча принялись за немудреную трапезу. Поговорить бы, да невозможно: мешало проклятое незнание языка. Однако о чем бы и говорить? Не расспрашивать же, кто он, куда и зачем идет, – тут-то, боже упаси, и не нужно никаких слов.
Дархан уже закончил, а незнакомец еще продолжал есть, медленно и тщательно пережевывая, как бы и посасывая мелкие кусочки, которые аккуратно – не уронить ни единой крошки – отламывал от лепешки; неслышно запивал горячим, настоянным на листьях малины чаем. Наконец и он покончил с едой; взглядом поблагодарив хозяина, спросил:
– Скажите, в какой стороне Якутск? Дархан показал рукой на юг.
– А Магадан?
Дархан махнул рукой на восток.
Пришелец поник головой, задумался.
Когда Дархан, управившись с делами, – прибрал посуду, невесть сколько провозился, налаживая испорченные вчера грабли, – вернулся к костру, там уже никого не было. Обеспокоенно озираясь, обнаружил нежданного гостя неподалеку. Тот стоял подле кустов буйно разросшегося на опушке леса дикого шиповника и рассматривал, не оторвать, пылающую кипень кремовых, нежно-розовых, изредка темно-красных цветов. Дархан сочувственно вздохнул. Он знал: нехороший человек так увлеченно к цветам не потянется.
Вернулся незнакомец с каким-то просветленным, не похожим на только что бывшее, лицом.
– Спасибо вам, – проговорил с едва приметным поклоном и вздохнул: – Прощайте, добрый человек! Не поминайте лихом.
Когда повернулся, чтобы уйти, Дархан придержал его за рукав:
– Тохтоо5… Чичас…
Торопливо направившись за шалаш, он взял из ямы-времянки, приспособленной под кладовку, половину запасов лепешек, весь рыбный харч, положил все это в краснополосатый матерчатый мешочек и протянул незнакомцу.
Тот с недоверчивым видом взял довольно увесистый мешочек, заглянул в него и вдруг с задрожавшими губами закрыл лицо руками и упал на колени…
Спустя два дня на луг, где Дархан ставил копны, дробной рысью въехали двое вооруженных военных. У одного из них за седлом поперек на широком крупе лошади возлежала огромная, волчьей масти немецкая овчарка.
– Эй, ты! Посторонних людей тут не видел?! – Грозный голос клокотал в глотке бравого всадника, который при этом встопорщил по-тараканьи жиденькие светловатые усишки. – Здесь мимо никто не проходил?!
– Н-нет… – чуя недоброе, тихо обронил-выдавил из себя Дархан.
Вдруг овчарка глухо заворчала, тяжко, с утробными всхлипами, точно внутри у нее закипел и забурлил поставленный на огонь котелок, задышала, принюхиваясь, оскалила огромные клыки и, спрыгнув сверху, пружинисто приземлилась на сильные лапы.
Сердце Дархана екнуло: сзади к седлу второго, угрюмо молчащего военного был приторочен краснополосатый мешочек его! И вдруг мороз бритвой полоснул по лицу: что-то большое, круглое, тяжелое бултыхалось в нем. Чем могло быть это «что-то» – сомневаться не приходилось. Но именно поэтому и не смел поверить, гнал с суеверным страхом прочь очевидную истину, пойми которую до конца – и не сдержать предательского вопля – выдал бы себя с головой.
– Чего молчишь, азиатская харя?! – бешено гаркнул первый военный, поигрывая желваками и скрипя мерцающим золотом зубов. – И прочь отсюда! Это не твоя земля! Наша!
Дархан опустил голову. Мимолетно он успел заметить горящие лютой ненавистью желтые глаза овчарки, пенящуюся разверстую пасть, из которой с клыков тянулась клейкая слюна, и понял, что настал его последний, смертный час.
Вдруг откуда ни возьмись, Дархан так и не успел взять в толк, прочертив воздух белой молнией, верный Хопто оказался перед разъяренной овчаркой, заслонил своего хозяина.
«Зачем?., зачем?..» – плеснулось в замершей было душе Дархана, уже смирившегося с неизбежным и потому забывшего бояться за себя. И тем более невыносимо мучительно страдал за друга, выбравшего разделить его долю-судьбу. Ужас, оставленный в той, отошедшей, казалось, жизни и теперь вновь охвативший все его существо, возвращал-вытягивал из пустого пасмурного пространства небытия. И это воскрешение было так болезненно, что вроде бы простонал сквозь омертвевшие губы. Может, только почудилось. Ужас же рос. Хопто, в сравнении с этой чудовищной зверюгой, выглядел просто смехотворной малявкой: загрызет в мгновение ока и не заметит. «Уж лучше бы я один пал жертвой… Ведь Хопто все равно никак меня не оградит…»
– Хопто… – через силу, выжал из себя Дархан. – Хопто… Ты иди… иди прочь…
Овчарка, едва покосившись с величайшим презрением и уже не обращая внимания на чужую собаку-недомерка, изготовилась к мощному прыжку, чтобы в привычном броске подмять под себя человека-жертву – и начать рвать его в клочья, глубоко запустила длинные когти во влажную землю.
– Хопто… – тихо прошелестел в последний раз умоляющий шепот Дархана. Краткий миг, равный высверку молнии, – Хопто полуобернулся и взглянул на хозяина.
Словно кто раскаленным шилом ткнул Дархана в изболевшееся сердце: в глазах пса – ясных, чистых, мудрых и как некогда раньше красноречивых – он успел прочитать одновременно и беспредельную любовь, и бескорыстную преданность, и непоколебимую решимость. Понял: тут никакие мольбы не помогут. И другое понял: пытаться прогнать верного друга, пусть хотя он спасется, не в его власти. Нет у него в эту минуту такого права. «Видать, конец нам обоим…»
– Барс! – крикнул с седла светлоусый. Таким ласково-беспощадным голосом он, ясно, всегда натравливал на врага превосходно тренированного зверя, и тот послушно, с наслаждением исполнял приказ.
Вздыбив загривок и хрипло заурчав, овчарка прыгнула.
Дархан стоял не защищаясь, закрыв глаза. Цель – горло с перекатывающимся кадыком – была открыта. Мелькнула раззявленная красная пасть, растопыренные грязные когти…
…и тут же грозный рык прервался, сменился отчаянным предсмертным воплем.
Еще оглушенный, только что слышавший жаркое дыхание на лице, обрызганном липкой слюной, и не смея поднять руку, вытереть ее, Дархан смотрел как сквозь матовое, мутное стекло – не верил собственным глазам: прямо у его ног валялась с разорванным горлом издыхающая овчарка и билась в предсмертных конвульсиях.
– Барс!.. Барс!.. – истошно, рыдающе заорал-застонал светлоусый и двинул коня грудью на Дархана.
Овчарка судорожно дернулась еще несколько раз, вся как-то обмякла, словно из нее выпустили воздух, и вытянула ноги…
Разъяренный и испуганный охранник рывком выхватил из-за спины карабин и, то матерясь, то взахлеб вопя что-то нечленораздельное, раз за разом стал стрелять в Хопто, который по-прежнему сидел, загораживая собственным телом своего хозяина…
Глава 1
Утро
7 часов 30 минут6
– Да… да… Понял… Зарубим… – еще довольно моложавый, лет от силы под сорок, черноволосый, спортивного телосложения человек в отутюженном, без единой морщинки, сером костюме и белоснежной рубашке торопливо подавал в телефонную трубку эти слова-реплики. По тону, коим они произносились, не составило бы труда догадаться: подчиненное лицо заверяет в чем-то вышестоящее. Кажется, весьма и не на шутку раздосадованное; не исключено, даже разгневанное.
– Ляжем… Разобьемся, Евграф Федотыч… – Поймав очередную паузу, Кэремясов, секретарь Тэнкелинского райкома партии, всею грудью, точно надувал футбольный мяч, выдохнул – Обещаю! Слово коммуниста, товарищ Воронов!
Странный то был разговор. Хуже: подозрительный. Посторонний, очутись он невзначай свидетелем, да к тому же окажись не из числа беспечных лопухов, каких подавляющее большинство среди народонаселения, из числа сознательно-бдительной части его, вмиг бы усек-учуял неладное – скажем, сговор матерых махинаторов о хищении социалистической собственности. Не исключено, и в особо крупных размерах.
Глупо и смешно, конечно, сомневаться, что «где надо» не разобрались бы досконально, в чем дело, и не пожурили бы наивно-ретивого добровольца за ошибочку. Что ж, что говорили на непонятном языке? Это смотря кому загадочка – для профессионала тайны никакой. К примеру, ежели вышестоящее лицо грохнет кулаком по столу: «Зарубите себе на носу!» – что обязано отвечать лицо подчиненное? «Зарубим…» То же и с «разобьемся» – ответ на не подлежащий обсуждению приказ: «Разбейтесь в лепешку, а!..» Ну и так далее и тому подобное.
Было бы отчего сконфузиться тому «постороннему». Ну, да ведь и на старуху бывает проруха. Эх, тютя! Бедолага горемычный!
7 часов 45 минут
Хотя в завершение разговора начальство позволило себя утешить, смягчилось и, сменив гнев на милость, выразило уверенность в успехе – речь, между прочим, шла о выполнении государственного плана, – Мэндэ Семенович чувствовал себя выпотрошенным; сидел нахохленно, глыбисто ссутулясь. Глаза его тупо и полубессознательно елозили-разъезжались по испещренной пометками – воскликами, птичками и прочими ему лишь одному ведомыми закорючками-загогулинами– глянцевой странице тома в красном переплете. Видно, штудировал тщательно и скрупулезно – не абы как. Настольная была книга! И теперь вот обратился к ней, готовясь к докладу на очередном пленуме. За тем, собственно, и пришел в райком ни свет ни заря: в кабинете славно и просторно думалось. Именно в те редкие счастливые часы, когда бывал один и мог с наслаждением, без помех предаться мечтаниям, не опасаясь, что кто-то из бесконечных посетителей нарушит вольное течение их; и останется в душе горьковато-мутный осадок недодуманности, недовыстраданности. Точно прерванный в самый интересный момент сон…
Размышлялось в кабинете о делах не только государственных. Не гнал прочь и иных, обыденных мыслей, коли уж посещали – что ж! А пожалуй, и льстило: не сухарь, не прожженный бюрократ, стало быть. Взбрыкивала, случалось, и некая лихость. Некий, лучше сказать, кураж: «Где, извините, написано, что секретарю райкома должно быть чуждо что-нибудь человеческое?» И жмурился не без удовольствия, будто в этот момент одерживал верх в споре. Так и было: и спорил, и одерживал.
Торжествовать победу легко. Труднее уметь достойно пережить поражение. Сейчас Кэремясов не ощущал сам себя. Осталась пустая оболочка, а его не было. Не было – и все тут. Верь в мистику – так и решил бы. Слава богу, отрицал ее принципиально как лженауку. Это и спасло. Это и принесло прозрение. Мука и отчаяние, каковые он реально испытывал в эту минуту, не могли быть вне его плоти, вне его сознания, наконец.
– Да-а, положеньице… – узнал свой голос, хотя и прозвучавший как бы издалека, сдавленно. Обморок, кажется, начал проходить. И все же что-то невероятное продолжало с ним твориться и теперь. Он действовал чужой волей. Расскажи ему кто-нибудь (это мог быть невидимка, невесть каким образом оказавшийся в кабинете), какие жесты он производил в эти роковые мгновения, не поверил бы: «Не может быть!» – расхохотался бы. Но, увы, было. Что же? Так, подняв руку, откинуть со лба волосы («Всегда пользуюсь для этой цели расческой»), странно поразился и прерывисто захихикал, обнаружив в этой самой руке намертво зажатую телефонную трубку; после чего, досадливо крякнув (ну, кто бы не крякнул в этом разе?), шваркнул ее на аппарат («Чепуха! Не в моем характере срывать зло на чем или на ком-либо»). Э-э, уважаемый Мэндэ Семенович, не спешите – главное впереди. Вы, конечно, скажете, что не помните, как ваше собственное тело само выпросталось из-за стола и принялось шагать взад-вперед по широкой темно-бордовой дорожке, расстеленной в вашем скромном кабинете? «Ну, знаете, это уже полнейший бред! Умопомрачение какое-то!» А это называйте как хотите. Но было. Было…
Происходил ли такой душераздирающий диалог с невидимкою, Кэремясов тоже не помнил – некие впечатления действительно выскользнули-улетучились из памяти. Провал зиял – что верно, то верно.
8 часов ровно
Очнулся – точь-в-точь налетел на протянутую огольцами поперек дороги бечевку – перед портретом красивого большелицего человека с невообразимо густыми, по-молодому черными бровями. Он ободряюще, почти по-отечески смотрел на Кэремясова. «Я верю в тебя, Мэндэ! Ты не подведешь!» Возможно, говорил он другими словами, но смысл их, можно поручиться, был именно таков. И не мог быть другим.
«Ответь же!» – бухнуло, взорвалось сердце. Что? Как? Брякнуть с бухты-барахты: «Спасибо Вам за доверие!»? Не то! Нет, не то. Наверное, и нет подходящих слов. Захотелось взлететь. Радость проросла и, шумя победительно, плескалась-билась за спиной крыльями. Как раз сейчас ему была необходима духоподъемная сила – и вот она!
Мэндэ Семенович искренне любил этого Человека. Гордился быть его современником! Не-ет, не пустые фразы то были, не фанфаронство или, тем более, холуйское раболепие. Скажи: «Умри за него!» – не дрогнул бы.
Стало стыдно. Ох стыдно! «Это тебе-то трудно, Мэндэ, а ему каково? На его плечах – ДЕ-РЖА-ВА-А! Кто бы не надорвался, не износился под такой ношей? – И гнев полыхнул в груди: – Да-да, иные подонки: диссиденты и внутренние эмигранты – потешаются, дожидаются со злорадством, когда же Он собьется во время речи. Гогочут, гады!» Кэремясову казалось, что никто на целом свете не понимает и не сочувствует этому человеку. Но ведь должен быть кто-то, кто бы и понимал и сочувствовал? И это был он…
С усилием оторвался от портрета, сел за стол. Сразу же выхватил взглядом фразу из Его труда – не зря была подчеркнута жирной чертой: «Не может быть партийным руководителем тот, кто теряет способность критически оценивать свою деятельность, оторвался от масс…» Вторая часть цитаты тоже замечательная по глубине и мощи мысли: «…плодит льстецов и подхалимов, кто утратил доверие коммунистов» – к нему лично, Кэремясов мог побиться об заклад на что угодно, не относилась; но первая… касалась. И не только его – всех!
Взглянув еще раз с благодарностью на стену, Мэндэ Семенович приказал себе успокоиться: «Хватит нюни распускать, Мэндэ! Коммунист ты в конце концов или олух царя небесного? Думай, дорогой, думай, как выйти из положения!» Раскинуть мозгами и в самом деле было о чем. Еще как было.
8 часов 15 минут
«Что-о?! Предпринимать меры вы только собираетесь? О чем же, черт подери, вы, голубчики, думали до сих пор, а?.. От кого-кого, от тебя, Мэндэ, не ожидал, что подложишь такую свинью! Не ожидал, брат». И возмущение, и скорбь со слезой – в бурливом рокоте Евграфа Федотыча. Понимай так: не позвони он, не растормоши – сами и не почесались бы. Нет, не почесались бы. Куда там!
Кто бы, посторонний, вообразил, что кряжистый и в то же время легкий на подъем, с хитровато-ироническим прищуром в добром расположении духа, секретарь обкома может быть крутым, жестким. Уж он не станет гладить по головке провинившегося в чем-либо, будь он ему хоть сват, хоть брат. Это знали все. За то и уважали. Иные, конечно, покряхтывали, поеживались, но и те по здравому размышлению приходили к выводу: повезло! Федотыч не выдаст! Федотыч – человек!
А что суров нынче Воронов – причина на ладони: вероятно, вчера вечером перед ним положили сводку из объединения. И соленые, даже, может, забористые словечки и выраженьица, употребленные на сей раз не ради некоего шика, вызваны тою же причиною. «Пустые меры к…! Нужен план! Понимаешь ли ты – пла-ан?! Любой ценой!»
Оскорбиться, разумеется, проще пареной репы. Позволить себе такую роскошь Кэремясов не мог – не имел права. Шевельнулась было обида: что он, малое дитя? Не соображает, что план (как и Евграф Федотыч, произносил это слово с заглавной буквы) – святое дело? Загнал подленькую мысленку в щель – не высовывайся! Ишь, ты! Легко прожить хочешь, товарищ Кэремясов, – дудки! И другая мысль выскользнула: «А ему что, сладко? С него тоже шкуру дерут! Требуют: вынь да положь! И не кто-нибудь – сама Москва! А дальше, как водится, по цепочке: центр – с него, он – с меня, я – с директоров и парткомов приисков. Все мы в одной упряжке». Мэндэ Семенович понимал – ох как понимал! – Воронова. А понимая, жалел душевно. И не желал себе ни малейшего снисхождения. Принял бы, пожалуй, за оскорбление: страдать – так уж всем! «Правильно делает, что нажимает! Еще и мало! Подраспустился кое-кто…» Себя не исключил тоже.
Что план горел синим пламенем – факт. Мало сказать «прискорбный» – катастрофа!
А кому хуже всех? Ему – Федотычу! Он – хозяин области. Он и в ответе за все. И опять, не впервой уже, прихлынуло сочувствие. «Не дай бог оказаться на его месте». Если и лукавил – самую малость. В иные минуты залетал, случалось, и в горные выси. Но не теперь. Нынче о другом заботушка. Совсем о другом: «И вправду, я не выполню план, второй не справится, третий не сдюжит – что тогда будет с нашим государством?» Воображения представить Кэремясову не хватило. Да и возможно ли вообще представить такое?
Тогда-то и вылетело: «Обещаю!»
Впрочем, не раскаивался. Наоборот. В тот момент это слово было единственным, необходимым, которое он должен был произнести.
Во-первых. Именно этого слова ждал от него секретарь обкома.
Во-вторых. Оно было нужно и ему самому – сжигал за собою мосты. И вот теперь отступать некуда. Тем лучше. Оставалась одна дорога – вперед!
ПЛАН! Велик-то он велик, но ежели собрать все силы в один мощный кулак, бросить вдохновляющий клич, мобилизовать неисчерпаемый энтузиазм народа, то…
Такого же мнения до самого последнего времени держалось и руководство комбината. Еще весной на партийно-хозяйственном активе района было принято соответствующее постановление. Усомнился тогда хоть кто-нибудь? Нет. Куда там, каждый норовил перещеголять в обещаниях другого. Усмешка криво скользнула по губам Кэремясова. Гордость ли, горечь ли, не сказал бы и сам, выражала сия мимолетная машинальная гримаса? Если и печаль таилась в ней, – было отчего. Раздражали скептики и прочие нытики. Их сопротивление Мэндэ Семенович ощущал кожей, чуял нюхом их присутствие на каждом шагу, хотя никто не рисковал высказываться вслух. Если бы рискнули – вот их примитивные доводы, знал слово в слово заранее: «Сочинить план на бумаге – раз плюнуть, выполнить его на деле, промывая горы песка, – это о-го-го!» Детский лепет! Ладонь сердито пошлепывала по столу. По-ихнему план составляется с кондачка. Не-ет. Подобные горе-критики не хотят понять, что он базируется на реальных, подтвержденных капитальной разведкой цифрах. Это же ликбез! Арифметика для первого класса! Какой руководитель добровольно полезет в петлю: взвалит на себя план, заведомо обреченный на провал?
Кэремясов расстроился: и с такими «умниками» приходится дискутировать, гробить драгоценное время! Пусть спорил мысленно – выматывался вдрызг. И такая первобытно-дремучая тоска охватывала вдруг – завыть бы! И выть… выть… выть… Изойти воем. Сам себе порою не мог дать отчета: не плюнуть ли на все – и?.. Что «и» – а черт его разберет, что… Вот и теперь. Ну кто мог подумать, что не где-нибудь, на Чагде – крупнейшем прииске не только в районе, но и во всей республике! – золота окажется гораздо меньше, чем ожидалось? Разведка наобещала золотые горы, а на деле – пшик! Отвечать в первую голову опять же ему. И разговор «там» может обернуться всяко. Не исключено и эдак: «Не обеспечили план, уважаемый товарищ Кэремясов, – партийный билет на стол!» Это, конечно, крайний случай. Но и он возможен. Смотря под какую руку попадешь. Под горячую – цацкаться да церемониться не будут. «И правильно!» – согласился внутренний голос.
Чудо! Только оно выручило бы…
Умей Кэремясов молиться – взмолился бы. Горячо. Страстно. И вознесся бы его немой вопль: «Помоги! Сделай, Всемогущий, так, чтобы Чагда не скупясь подарила богатую россыпь! Яви щедрость, Всемилостивый! Что тебе стоит?»
Да, так оно и было. Просто не знал Кэремясов, что он молится-взывает всем существом, ибо опять уже впал в невменяемость; опять его тело не принадлежало и, значит, не подчинялось ему – автоматически, точно пьяное, моталось взад-вперед по кабинету.
А тут и голоса стали слышаться.
«– Кацо, бремя на моих плечах находится на критической черте. Добавь хоть грамм – мне каюк!»
Узнал: Мурад Георгиевич Кайтуков, директор прииска Аргас. Лет двадцать тому прилетел на Тэнкэли из Осетии. Здесь и семью завел, здесь и облысел. Но мужчина еще крепкий. Как говорится, орел – до последнего дыхания орел.
И другой голос возник.
«– Даст бабушка Томтор – выполним. А не даст…»
Он, он, главный инженер Петр Петрович Бястинов, тугой на язык, жадный на обещания. В действительности же не станет сидеть с подставленной ладонью, ожидая даров от «бабушки», – без шума и крика сделает все возможное.
А это чьи слова?
«Хватит! Это безумие без передыху носиться на предельных скоростях! Лично я не согласен так жить дальше ни одну минуту! Хочу нормальной человеческой жизни: вовремя засыпать и вовремя просыпаться, посещать филармонию, ходить в кино! Хватит с меня! Освободите меня от этого адского ярма!» – И даже пахнуло въедливым запахом «Прибоя».
Узнал и без того: Евгений Витальевич Кудрявцев, хозяин прииска Табалаах. Горяч! Темперамент как у табунного жеребца – вот и несет… Ничего, ничего. Пусть полыхает пламенем из ноздрей – скорей успокоится…
8 часов 55 минут
Пять минут, оставшихся до начала рабочего дня, Кэремясов позволил себе вздремнуть.
9 часов ровно
– Доброе утро, Мэндэ Семенович!
– Доброе, Нина Павловна. – «Какое там «доброе»! Чернее черного!» – подумалось само собой.
– Сегодняшняя почта. – Секретарша плавным изящным движением положила перед ним красную дермантиновую папку.
Тяжело вздохнув, Кэремясов открыл ее было, но тут же и решительно захлопнул.
– Этим займусь позже. Я там кому-нибудь нужен?
– Нужны. И многим. Редактора газеты я направила ко второму секретарю – хочет показать новую передовицу. Нектягаева, бригадира из совхоза «Тэрют», сплавила в управление сельского хозяйства.
– Зачем он приехал?
– За ветврачом.
– Ладно. Хорошо.
– Председателю поселкового Совета Зубко требуется, чтобы водовозную автомашину добыл для него именно первый секретарь райкома.
– Ну и как?
– Как миленький потопал в райсовет. И вообще все рвутся обязательно к первому секретарю. Как в бытность Ефрема Тихоновича…
Кэремясов прихмурился: не поощрял, когда при нем в непочтительном тоне упоминали его предшественника.
Нина Павловна поперхнулась было, но закончила непримиримо, еще более твердым, холодным голосом:
– Прошло уже больше года, а никак не привыкнут. Ничего. Привыкнут.
– Хорошо, – Кэремясов побарабанил пальцами по настольному стеклу. «Хорошо-то хорошо, да ничего хорошего. Как в слышанной недавно частушке, – подумалось с укоризною, но и, признаться, с некоторым удовлетворением. – Давно пора менять стиль руководства! Ох давно! С первых же дней он установил неукоснительный порядок: пусть никто не ждет, когда соизволит открыть рот первый секретарь, не ждет ничьего указующего перста – сам распоряжается на вверенном ему участке. Такой принцип замечателен тем, что дает людям большую самостоятельность, расковывает инициативу, повышает их гражданскую ответственность…» – И сама мысль, и красивые слова, в какие она облекалась сейчас в его уме, – все это не могло не радовать Кэремясова. – Но… иногда мы, кажется, переигрываем. Вот, например, с этим бригадиром из «Тэрюта» не мешало бы встретиться, обсудить, что и как…
Пока подыскивал мягкие слова, должные бы укротить рвение секретарши, и когда наконец нашел, осекся: на лице Нины Павловны обнаружил явную обиду. «Зашла же она в совершенно ином настроении, так? Или он не обратил внимания? С чего это она вдруг разобиделась? Вот прелести совместной работы с женщиной! Будь на ее месте мужик, – не потребовалось бы никаких китайских церемоний. А тут… Но в смысле аккуратности, исполнительности работник она – поискать. Да и вообще приятно: красивая женщина!» Подумалось без каких-либо потуг на фамильярность; тем более исключалась возможность каких-то шашней. Вслух произнес:
– Передайте директору комбината Зорину: пусть срочно зайдет ко мне! И пока он будет в моем кабинете, никого ко мне не пропускайте.
– Слушаюсь!
«Ну вот опять… Так, по-военному, отвечает, когда чем-то недовольна, – в порядке, так сказать, скрытого протеста».
Пока Нина Павловна обиженной походкой еще шествовала к двери, Кэремясов склонялся уже над красной папкой.
9 часов 5 минут
Прошла по меньшей мере минута, после чего Кэремясов с тяжелым вздохом раскрыл папку.
«Отчего же герой обязательно должен любой пустяк делать с «тяжелым вздохом»?» – наверняка подумал какой-нибудь въедливо-дотошный читатель. Тут же и заподозрил автора в суконном бытописательстве или, еще не слаще, допотопном натурализме.
Увы, дорогой читатель, на сей раз, извини, ты жестоко ошибся. И вздох, и тяжесть его – не архитектурное излишество стиля, сущая правда. Поставь-ка себя на место героя, – запоешь ли? Того и жди очередной неприятности! Но что до Кэремясова, не только в том дело: с этого мгновения как бы переступал черту, за коей кончалось все личное и начиналось служение…