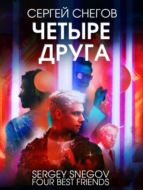Buch lesen: "Галактическая одиссея"
© Т.С. Ленская
© Е.С. Ленская
© ИП Воробьёв В.А.
© ООО ИД «СОЮЗ»
* * *
1
Что Арнольд Гамов, выйдя на покой, уединился в домике на заповедной Куршской косе юго-восточной Балтики, мне было известно. И что он не откликается на телефонные звонки, не отвечает на письма и телеграммы, не принимает приглашения на торжественные встречи и деловые совещания, тоже не составляло секрета. Я все же решился проникнуть к нему. Я надеялся, что самый знаменитый звездопроходец нашего времени заинтересуется моделью сверхмощного галактического крейсера, разработанного в нашем конструкторском бюро. Экспертная комиссия Большого Совета отвергла этот вариант космического корабля, компьютер Института Звездонавигации из ста восьмидесяти тысяч слов, хранившихся в его памяти, выбрал только два для оценки конструкции: «Неразумно смело». После такого убийственного заключения нам оставалось лишь поднять руки. Мои сотрудники, не пожелав сдаваться, задумали привлечь к экспертизе Гамова. Но он не ответил на письмо. Институтские астронавигаторы ехидничали: легче-де спроектировать новый корабль на «отлично», чем добиться от старого поисковика хотя бы малого знака внимания. Тогда я взял расчеты и чертежи и вылетел к Гамову. Я знал, что у него живет садовник Таллиани и что тот лишь по профессии садовник, а по призванию – цербер: свирепо спроваживает любого сразу после фразы «Здравствуйте, я хотел бы…», а тому, кто немедленно не убирается, предстоит любоваться распахнутыми пастями трех чудовищных догов, ждущих лишь сигнала, чтобы прыгнуть. Признаться, я не очень верил таким россказням. В прошлом, говорят, бывали и злые сторожа, и цепные собаки, и замки на дверях, и прочие жуткие вещи, о которых ныне давно забыли. Правда, от Арнольда Гамова, когда он ходил в дальний поиск, всегда ждали необычайного. «Чудаковатые выходки, вполне в духе великого Арна», выразился о его открытиях друг Гамова Крон Квама. Неудивительно, что и на Земле он, постаревший, но сохранивший прежнюю чудаковатость, не слишком считается с обычаями.
Это вступление должно объяснить, почему я три раза звонил у ворот, не решаясь перешагнуть порога. Никто не откликался. Не показывался Том Таллиани, которым меня пугали, не появлялись готовые разорвать исполинские псы. Я прошел по дорожке, обсаженной сиренью и розами, к домику. Кончался май, пьяно цвела сирень, распускались розы. В липах, обступивших дом, заливались соловьи. Домик был одноэтажный, три окна на дорогу, столько же на море, с верандой на юг. Постучав в дверь, я убедился, что она не заперта, вошел в сени. В доме имелось пять комнат, четыре небольшие, одна побольше, со стереоэкраном и стеклянными шкафами – что-то вроде музея минералов и чучел неземных животных. Все комнаты были пусты. Я вышел наружу и постоял у веранды. От нее шла дорожка на берег. Я направился к морю.
Садик метрах в двадцати от домика упирался в береговую дюну. Песчаная, невысокая, засаженная – для крепости – колючими кустиками, дюна служила естественной защитой от моря: даже в бурю волне не одолеть такую преграду. Балтика, светлая, в белой пене катящихся на берег волн, открылась наотмашь. Шел шторм с юго-запада, странный, мало похожий на обычные бури, когда ветер гонит валы, клонит деревья, свистит травой и ветками, взметает песок. Волны вздымались немалые, метра на два, а ветра не было. Зрелище захватило меня, я не вдруг заметил старичка, согнувшегося на склоне дюны. Он был похож на замшелый пенек, седой, лохматый, в сером плотно облегающем комбинезоне. Он не обернулся, только тихо сказал – и я сразу узнал глуховатый, протяжный голос, столько раз слышанный со стереоэкрана:
– Садитесь и помолчим, хорошо?
Молча пристроившись рядом, я искоса поглядел на него. Голос за те двадцать лет, что «великий Арн» отошел от дел, изменился мало, хотя в нем и появилась старческая хрипотца, но лица и фигуры я бы не узнал, встреться мы ненароком: так постарел знаменитый астронавигатор. Седина, и раньше густая в темных волосах, теперь стала сплошной и желто-золотистой, щеки запали, на руках вздулись синие жилы, гладкую кожу избугрили узлы. Только нос, внушительный, как труба, – «на троих создавался, одному достался» – остался прежним, даже казался крупней на сжавшемся лице. Я описываю так подробно внешний вид Гамова, увековеченного в тысячах бюстов, в миллионах фотографий, потому что мне выпало грустное счастье последним видеть его – и он уже мало походил на свой канонизированный облик.
– Смотрите! – прошептал он, будто боясь громким звуком что-то спугнуть. – Смотрите, ведь как красиво.
Он показывал на море, и я повернулся к морю. Солнце шло слева, от суши на воду, весеннее, низкое, и близился вечер, а волны, накатываясь, как бы вырастали у береговой кромки, и летящая над ними пена еще прибавляла высоты. И я увидел воистину удивительную картину. Балтика всегда зеленовато-стальная, летом больше зеленая, зимой больше стальная. Она и сейчас была такой, когда взгляд охватывал большое пространство, но волны, вздымавшиеся передо мной, светили полупрозрачно-красным, как крымские сердолики, эта сумрачная краснота шла изнутри, прорывалась сквозь поверхностную зеленоватость глубинным жаром. А пена, летевшая над гребнем, чуть впереди него, была не белой, а розовой, волны, косо мчавшиеся на песок, шли от солнца, разбивались не всей стеной, но от южного своего конца к северному, и пена той части волны, что взметывалась на берег, вдруг прощально ярко вспыхивала. И по всему гребню, по всей его розовой пене, от одного конца к другому бежал огонь и погасал в отдалении, а на берег надвигалась новая волна с розовым воротником, и по ней опять бежал от одного края волны к другому густой огонек.
– Из такой розовой пены родилась Афродита, – сказал я.
– Вот такую же розовую пену мы наблюдали на Кремоне, – тихо отозвался он. – Там погиб астроинженер Петр Кренстон. И, спасая его, отдали жизни еще двое. Вы слыхали об этом?
– Кто же не знает о вашей высадке на Кремоне! – ответил я.
Он упер локти в колени, охватил лицо ладонями, не отрывал глаз от полупрозрачных, как бы раскаленных изнутри волн с розовыми венцами пены. И я тоже вглядывался в них и слушал грохот воды, и вдыхал пахнущий морем воздух, и меня заполонило ощущение сродни сладкому дурману: пена, раскатываясь на песке, превращалась в летящую взвесь, я пил ее и хмелел и, поглощая розовый туман, сам становился полупрозрачным и красноватым, во мне тлел внутренний жар, мне хотелось посмотреть на себя со стороны и убедиться, что как солнце светит сквозь вздымающуюся стену волны, так и сквозь мое тело, окрашенное в красное, просвечивают предметы, что позади.
– Собственно, кто вы такой и зачем явились? – услышал я вдруг.
Гамов теперь смотрел не на море, а на меня – недоверчивый, строгий взгляд отстранял меня от волн, выталкивал из дурмана.
Я отмахнулся и вяло пробормотал:
– Не мешайте, здесь так красиво!
Он расхохотался. Растерянный, я вскочил. Он сказал:
– Я рад, что до вас дошла магия вечерних безветренных волн. Афродита, между прочим, родилась в утренней, а не в вечерней розовой пене. Если бы вы явились на утренней зорьке во время наката с востока, а не с запада, как сейчас, то праздник рождения богини дошел бы до вас во всем величии. Итак, кто вы такой и что вам нужно?
Я довольно путано объяснил, чего желаем мои сотрудники и я. Он покачал головой. Он позабыл о космосе. Он слишком мало жил на Земле, на зеленой, на прекрасной, на матерински доброй Земле. Пусть не мешают ему последние годы жизни дышать лишь ею, думать лишь о ней, прикасаться к ее траве, ее воде, ее снегу, ее влажной почве…
Он говорил все это, закрыв глаза, нараспев, он декламировал, а не возражал. Не утерпев, я прервал его:
– Чепуха, Арн! Вы смотрите на божественное зрелище вечерней земной зари, а вспоминаете трагедию на Кремоне. Вы не отстранитесь от космоса. И космос от вас неотстраним.
Он приподнялся. Он был невысок. На меня глядели с худого лица не по-стариковски живые голубые глаза, желто-белые волосы, упавшие вдоль щек, подчеркивали яркость глаз. Он был похож на святого, грозящего грешникам с древней иконы. Лишь несоответствие лика великомученика и гибкой худощавой фигуры выдавало характер – святости было не ждать у лихого астроразведчика Арнольда Гамова.
– Вы говорите о космосе, юноша, – сказал он хмуро. – А что знаете о нем? Два-три галактических рейса, стажировка на ближних планетах, командировка куда-нибудь в дальний уголок, так? Космос – ваша профессия, верно? А душа где?
– Я был на Кремоне, где мало что напоминает, какой вы ее впервые увидели. Но трагедия Кремоны может повториться в других местах. Моя профессия – делать такие происшествия невозможными. Разве этому нельзя отдать душу?
– Вы строитель галактических кораблей? «Орион» – ваше детище?
– «Орион» спроектирован у нас, я главный конструктор.
– Хороший корабль, – сказал он задумчиво. – В мое время таких не было. Сколько бы жизней мы сохранили, если бы шли не на «Икаре», а на «Орионе».
– «Орион» – плохой корабль, Арн. Лучше «Икара», но хуже того, какой предлагаем мы теперь. Вам достаточно познакомиться с нашими расчетами, чтобы в том убедиться.
Его глаза стали рассеянными. Он смотрел внутрь себя, оглядывался на прошлое. Потом он вздохнул и возвратился в настоящее. Улыбка преобразила его лицо, оно, помолодев, перестало быть ликом. Он откинул за уши желто-белые волосы и протянул руку.
– Здравствуйте, Василий Грант. Я много слышал о вас. В мое время немало было дерзких конструкторов, но, кажется, вы всех отчаянней. Говорят, что если вас не удовлетворяют законы природы, вы исправляете их, правда? – Он не дал ответить и продолжал: – Но вы совершаете тривиальную ошибку – хотите техническими новшествами предотвратить все опасности. Кое-что это дает, не спорю. А если главная опасность – страсти души? Сколько киловатт развивает гнев? Печаль и скорбь – какова их мощь? И какое тормозное усилие в унынии? И какой дополнительный импульс в честолюбии?
– Не понимаю, Арн. – Поймете. Пойдемте.
Он заскользил с дюны. Я шел за ним. У садика я обернулся к морю. Солнце садилось, и волны, и пена были уже не розовыми, а кроваво-красными. Гамов отворил калитку в сад и нажал кнопку на воротах. У соловьев настал час вечернего азарта, они техкали отовсюду. На дорожке вдруг возникли три гигантских черных пса – широко разверстые пасти злобно нацелились на меня. Я остановился. Гамов рассмеялся.
– Ужасов дальнего космоса не страшитесь, трех безобидных существ испугались!
Доги остановились, Гамов шел прямо на них. Все собаки радуются, увидев хозяина. Эти и не помыслили вилять хвостом и строить умильные рожи. Я шел за Гамовым, сознавая, что сближение со страшилищами не сулит добра. Но Гамов прошел сквозь них. Он сделал знак не отставать, и я Пересек туловище среднего дога, не ощутив сопротивления. Пройдя несколько шагов, я обернулся. Псы двигались позади, и морды их так же свирепо скалились.
– Неплохо сработано, – сказал я, стараясь, чтобы голос не дрожал. – Оптическая иллюзия?
– Стереообраз. Каждый дог может совершать сто тридцать два движения, включая лай, ворчание и ласку. Их придумал Гюнтер Менотти на «Икаре». Здесь его создания отпугивают непрошеных посетителей. Уходя к морю, я забыл включить аппарат, а то бы вы так легко до меня не добрались.
– Ваш сторож Том Таллиани – тоже стереообраз?
– Он-то живой. Но на эту ночь уехал в Клайпеду. Входите, конструктор Василий Грант.
2
В комнату, куда он ввел меня, я уже заглядывал. Тогда она показалась похожей на музей минералов и чучел. Но это был скорей кабинет, а не музей, она вся была полна книг и ящиков с пленками и фотографий старинного образца – изображения менялись, когда менялся угол зрения, наших предков это забавляло, – а всего больше звездных карт, плоскостных и стереоскопических.
В углу стояли два кресла, массивные, прочные, я сел в одно, Гамов в другое. Между шкафами висел веерок фотографий, две женщины и семь мужчин – знаменитый экипаж «Икара», в таком составе он стартовал в дальний поиск с Галактической базы на Латоне.
– Да, – сказал Гамов. – Молодые, красивые, энергичные… Не все вернулись, но если бы мы и знали свою судьбу, ни один не отказался бы от похода. Ибо что смерть? Неизбежность! Три столетия биологи обещают одарить нас бессмертием, но дальше долголетия не пошло. Нет, мы не страшились смерти как таковой, мы боялись преждевременной смерти, ибо она означала, что наша цель не будет достигнута. Трое узнали именно раннюю смерть…
– Техническая подготовка вашей экспедиции…
Он вспылил. Каждому, изучавшему экспедицию на «Икаре», известно, что ее руководитель иногда впадал в такой гнев, что от него шарахались. Гамов вскочил, затряс седыми кудрями и впился в меня побелевшими глазами. Гнев его, впрочем, угас столь же быстро, как и зажегся. Он сказал с какой-то грустной иронией:
– Опять техническая подготовка!.. Она была прекрасной.
– Я читал ваши отчеты, заключения следственных комиссий, научные монографии о вашем рейсе.
Он пренебрежительно махнул рукой.
– Поздравляю. Мне не удалось одолеть всего, что написали о нас. Не сомневаюсь, нашли бездну умного. Ну и что? «Икар» был лучше подготовлен к дальнему рейсу, чем мы, его экипаж. Не уверен, что это понимают даже умные конструкторы.
Гамов своими туманными намеками на человеческий характер, будто бы мешавший удаче рейса, начал меня раздражать. Я был бы плохим конструктором, если бы согласился, что техническая оснащенность – что-то второстепенное. И рейс «Икара», несмотря на понесенные жертвы, был на редкость успешным, результаты его крупно обогатили науку о космосе – сетования на неудачи звучали неискренне. Никого не удивляет, что в полете среди экипажа появляются разногласия. Наука о совместимости характеров пока достижениями не блещет, разводятся даже влюбленные, поражавшие вначале пылкой страстью.
Я не постеснялся именно так ответить Гамову.
– Не понимаете, юноша, – сказал он с досадой. – Совместимость у нас была идеальной. Мы любили друг друга! Но как бы это сказать?.. Могли смотреть на одно явление и видеть его по-разному. Теперь понятно?
– Нет. Боюсь, ваши объяснения не доходят до меня. Он опять впал в отрешенность: как бы одеревенел, глаза стали тусклыми – смотрели и не видели. Не сомневаюсь, что в эти минуты перед ним возникали тысячи воспоминаний. И, вернувшись в реальность, он засмеялся.
– Не могу сказать, чтобы вы были деликатны. Я никого не принимаю, никуда не выезжаю, ни с кем не беседую, а вы моими категорическими «нет» пренебрегли. Даже страшные доги вас не испугали. Впрочем, я забыл их включить, это моя оплошность. Знаете, вы хорошо сделали, что не посчитались с моими странностями. Одиночество все же томительно. Не надейтесь, что я увлекусь вашими чертежами. Но поговорить о рейсе «Икара» могу, возможно, вы что-нибудь и для себя извлечете полезного. Идет?
Я, естественно, согласился.
3
– Для своего времени «Икар» был первоклассным галактическим кораблем, – так начал он. – Могучие аннигиляторы пространства безотказно обеспечивали сверхсветовые скорости. Я особо подчеркиваю это обстоятельство, его недооценивает новое поколение астронавигаторов, считающих движение вне эйнштейнового пространства не чудом человеческого гения, а обыденной операцией. Но мы, экипаж «Икара», понимали, что сотворено чудо, и благоговели перед величием людей, сумевших найти способ преодолевать пространство, уничтожая его вокруг себя. Вы легко сделаете отсюда вывод, что «Икар» для нас отнюдь не был некой космической гостиницей. Воплощение технического волшебства, врученное нам, особо отмеченным, как высочайший дар, – вот наше отношение к «Икару». Восхищение кораблем нас прочно объединяло.
Но не только это. Мы на редкость подходили друг к другу. Два года нас испытывали на дружбу в тяжелейших условиях Плутона, потом на жутких равнинах Цереры, планеты в системе Альтаира. На дружбу, юноша, не на совместимость! Одной совместимости мало для дальнего поиска, нужна любовь. Так вот – любовь была! Мы составили редкостный коллектив – девять влюбленных друг в друга молодых астронавигаторов. Бывают влюбленные пары, это естественно и тривиально. Влюбленная девятка – нечто исключительное, согласитесь. Мы были таким исключением и гордились этим. Если один долго отсутствовал, остальные восемь тосковали. А если отсутствовали двое, семь нервничали, теряли аппетит. Я добавлю еще деталь, хотя, возможно, вы о ней знаете. Гюнтер Менотти, первый астроинженер, и Петр Кренстон, биолог, были влюблены в Анну Мейснер, нашего астрофизика. На Земле, нет сомнения, Анна вышла бы замуж за Петра, и отвергла Гюнтера. Но в экспедиции на «Икаре» она пожертвовала любовью ради высшей цели, именно так она объявила мне – и никогда не оказывала Кренстону предпочтения перед другими, а они оба, Гюнтер и Петр, ни разу не показали, что она для них значит больше, чем остальные… Слово «показали» – нехорошее, оно наводит на мысль о неискренности, оно ассоциируется с известной бранью предков: «показуха». Неискренности не было, была гармония! И как живое существо, теряя какую-либо свою часть, превращается в инвалида, так и наш коллектив, утратив одного из девятерых, становился покалеченным. В этом всецелостном единстве была наша сила. Но и наша слабость!
О первых четырех годах наших галактических блужданий вам говорить нечего, они описаны, рассказаны, проанализированы. То, что назвали огромным успехом «Икара», захватывает и этот период. В эти первые четыре года не встретилось ни одной загадки, не распутанной нами. А чего еще желать поисковику? Так что не будем вдаваться в рассказы об удачах, известных каждому.
На пятый год, после четырехмесячного полета в пустом космосе, анализаторы уловили под углом градусов тридцать к курсу два быстро несущихся тела. Их быстрота привлекала внимание: естественные тела не мчатся со скоростью почти пять тысяч километров в секунду. Фома Михайловский, штурман и мой заместитель, считал, что мы повстречались с космическими кораблями. Разумных цивилизаций, вы это знаете не хуже меня, обнаружено немало, но технически развитых пока нет. Я приказал выброситься из сверхсветового в эйнштейново пространство и догонять незнакомцев. Автоматы забили тревогу: от первого корабля – если это был корабль – улавливалось очень слабое излучение, из тех, что убийственны для любой организованной материи, ибо разрывает внутримолекулярные связи. Вряд ли оно могло нам быть серьезной угрозой – у «Икара» мощные защитные поля, но причина для беспокойства была.
Вскоре сомнений не оставалось, что мы повстречались с механизмами, а не с космическими шатунами, те, кстати, в этом районе Галактики редки. Вы, надеюсь, знаете стереоизображения этих кораблей и поэтому можете понять, как мы удивились, увидев, что они напоминают мифические «летающие тарелки», так будоражившие воображение наших предков – правда, не сферические, а эллипсовидные. Алексей Кастор назвал их «блюдоподобными чечевицами», название удачное, по-моему.
Корабли шли один за другим на расстоянии примерно в семьдесят-восемьдесят тысяч километров, отдаление, по масштабам космоса, ничтожное. На наши позывные, посланные всеми видами излучений, они не отозвались. И не было заметно, чтобы работали двигатели: искусственные сооружения летели, как мертвые тела. По нашим понятиям, это означало, что на кораблях аварийное состояние. Я приказал затормозить силовыми полями «Икара» передовой корабль, а когда приблизится второй, остановить и его.
Мы шли наперерез их курсу. Первый корабль послушно замер в объятиях наших силовых тисков, другой быстро приближался. Фома готовился затормозить и его, когда вдруг носовая часть «блюдоподобной чечевицы» ярко озарилась, погасла, вновь озарилась и вновь погасла. Так повторилось три раза, последняя вспышка была самой яркой, но и самой непродолжительной. Фома с криком: «Он расстреливает передового!» включил тормозное поле такой мощности, что не только сам корабль, потеряв ход, закачался в силовых сетях, но и любое выпущенное им излучение мгновенно погашалось.
Если бы Михайловский сумел это сделать хоть секундой раньше, передовой корабль был бы спасен. Но теперь нам оставалось лишь наблюдать – после нас и вам, когда на Землю доставили снимки – как его после первого залпа охватило пламенем и как второй залп разнес его на пылающие осколки, а третий неминуемо превратил бы все осколки в плазму, если бы Фома не предотвратил такой финал.
– Какое зверство! – воскликнула Анна Мейснер. Она первая пришла в себя. Несправедливость всегда больно задевала ее, а тут событие не вызывало сомнений. – Бандитизм!
Ее поддержал Иван Комнин, в возбуждении не церемонившийся в выражениях, а не возбужденным мы его почти не видели, его волновало и то, что он видел, и то, что, не видя, воображал. В Академии о нем говорили: «Иван нервничает только в двух случаях: когда дождь идет и когда дождя нет». Он запальчиво закричал:
– Арн, это же флибустьеры Галактики, это же пираты космоса! Проучи их силовой оплеухой! Пусть потрясутся в своей бронированной чечевице!
– Спокойней, друзья! – приказал я. Признаюсь, я растерялся. Вообще мне не свойственна быстрота воображения, еще экзаменационный компьютер характеризовал меня как тугодума. Когда необходима стремительность решений, я блеска не показываю. К счастью, в таинственном космосе такие экстремальные случаи гораздо реже, чем на нашей ласковой упорядоченной Земле. Заступая на дежурство, я включаю автоматы на любые аварийные возможности, с надежными помощниками мне спокойней. Но тогда мы и мысли не допускали, что один корабль гонится за другим, чтобы его уничтожить, да и вели они себя, как мертвые тела, – и не дали автоматам особых программ. Я продолжал: – Мы пока не знаем причины события. Один корабль пытался уничтожить другой, ему – с нашей помощью – это удалось. Но почему это сделано? Что это за корабли? Кто в них сидит? Не будем спешить с выводами.
На Земле потом в этом обращении к экипажу увидели мудрость руководителя экспедиции. Можете мне поверить: не было мудрости, была растерянность, было желание отстраниться от немедленных действий. А что именно такое поведение оказалось единственно разумным, объясняется объективной сутью событий. Анна, наш астрофизик, заметила, что опасное излучение шло от уничтоженного корабля, а не от преследователя и, возможно, это играет роль в катастрофе. Я попросил Михайловского не дать остаткам взорванного корабля разлететься в космосе, и он артистически быстро сжал в компактную кучку все обломки и пыль. Остальные наши действия определялись ситуацией: на втором корабле находились разумные существа, надо было вступить с ними в контакт.
Но, как и прежде, корабль не отвечал на наши сигналы. Его недавние активные действия свидетельствовали, что он обитаем. Но снова он вел себя как тело, лишенное жизни: не делал попыток вырваться из силовых тенет, пассивно покоился в наших полях. Мы облетели вокруг, рассмотрели его сверху, снизу, с боков: он вспыхивал металлическим блеском в сиянии наших прожекторов – и это была единственная реакция на все попытки добиться связи.
– Затаились! – сердито сказал Иван. – Арн, будь осторожен. Как бы они не пальнули в нас.
Поведение странного корабля мне тоже не нравилось. Но и непрерывно кружить не имело смысла. Мы выслали автоматический космический катерок, сконцентрировав на нем охранные поля. Он пролетел под самым носом «блюда», вернулся и спикировал на него, словно собираясь ударить. Отпора не последовало. Только что мы видели грозное орудие разрушения, с огромной стремительностью пущенное в ход. А сейчас вокруг нахально носился эдакий космический комар и это покорно сносили. Иван перешел от гнева к восторгу:
– Ну и нервы у флибустьеров космоса! Ведь вряд ли они догадываются, что все их залпы для нас не опасней детской хлопушки!
Он преувеличивал мощь нашей защиты, сильной, но не абсолютной. Все просили о высадке на чужой корабль, я колебался. Внезапное превращение мертвой коробки в чудовищную боевую машину заставляло опасаться любой новой неожиданности. На меня стали наседать. Я огрызнулся:
Die kostenlose Leseprobe ist beendet.