Вооруженные силы на Юге России
Text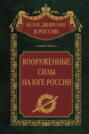


Zum Hörbuch
- Größe: 1050 S.
- Kategorie: Sachbücher, Geschichte, beliebt
7 апреля. День Святой Пасхи
Совершенно спокойно. Сообщили, что красноармейцы вынесли постановление, вопреки воле начальства, в этот день ни наступать, ни стрелять. Приходившие из района красных жители с грустью говорили, что там запрещены богослужения.
– А вот у вас же молились, – добавляли они.
Скромен был бы пасхальный стол у бойцов, если бы жители с радостью не разделили с ними свой, если бы крестьяне соседних хуторов не принесли им свое угощение. Отрадно встретили Праздник марковцы. Хуже было тем двум ротам, которые стояли на ст. Иловайская. Им запрещено было оставлять вагоны. Они оставались в холоде и должны были удовлетвориться казенной дачей, впрочем увеличенной щедрыми кубанцами стоявшего рядом состава. Их оживила и согрела водка, которой также поделились кубанцы.
8 апреля, на второй день Святой Пасхи, красные перешли в наступление на полк и стоявший правее Алексеевский пехотный и принудили их на следующий день отойти на линию ст. Чистяково. В последующие дни, до 20 апреля, шли каждодневные бои. Наступали красные, но наступали и марковцы, алексеевцы и Конный полк. Красные заметно слабели, главным образом морально: их расстраивали рейды батальонов марковцев, иногда довольно глубоких (на село Хрустальное). Ослабление противника позволило полк отвести в резерв в село Алексеево-Орлово, куда пришли и две роты со ст. Иловайская.
21–29 апреля полк в резерве. Но он стоит как на позиции: орудия, пулеметы готовы в любой момент открыть огонь. До противника всего верст десять, и перед ним лишь легкая завеса от Конного полка. Но батальону полковника Наумова пришлось спокойно простоять только три дня: он был вызван на фронт для поддержки корниловцев.
Первый его бой у ст. Криничная. Он не сдержал красных и ночью отошел к ст. Макеевка, где вошел в связь с дроздовцами. На следующий день атакованный красными, потеряв пулемет, он отошел к ст. Харцысск, где на какой-то платформе стал немедленно грузиться в вагоны. Состав тронулся сразу же. Была ночь.
Проезжая мимо главного Харцысского вокзала, ярко освещенного, все были поражены, услышав игру духового оркестра и царившим на станции полным спокойствием. Поразило их еще и то, что на путях стояли составы, груженные орудиями, повозками, фуражом, будто станция была где-то на значительном удалении от фронта, а не в нескольких верстах.
Узнали, в чем дело: на станции был приехавший после выздоровления от тифа генерал Врангель. Узнали также, что он в этот день, где-то между Алексеево-Орловом и Зуевом, смотрел 1-й и 2-й батальоны полка и говорил им о скором переходе армии в наступление, а пока приказал стоять твердо и держаться на месте наличными силами, какие бы они ни были. Как ни казалась всем обстановка отчаянной, но генерал Врангель поднял уверенность бойцов в скором решительном переломе борьбы.
3-й батальон, вопреки ожиданию его чинов, не выгрузился на ст. Сердитая и не вернулся к полку, а поехал на ст. Чистяково, от которой ночью совершил набег на хутора к западу от Рассыпной и только после этого присоединился к полку, продолжавшему стоять в резерве. Между прочим, пленные красноармейцы, и крестьяне это подтверждали, говорили, как они трепещут при мысли о появлении у белых танков; каждый случайный дымок они принимали за танк. И, как ни странно, разговоры о танках только теперь получили реальное основание и у марковцев.
30 апреля, отдохнув всего два дня, батальон полковника Наумова, имя которого в полку произносилось с гордостью, опять направлен в дело. Он выступил с двумя орудиями в северном направлении, выбил красных из Давыдово-Орлова, затем Иваново-Орлова и остановился в 8 верстах не доходя до Енакиева с обеспечивающими его фланги эскадронами конного полка.
1 мая. Для красных знаменательный день. Пролетарский праздник. В охранении 9-я рота. Ей ясно виден город и большое оживление на окраине: воинские части, толпы народа, красные флаги… Бесспорно, проводился первомайский митинг. Забавное зрелище, но и беспокоящее, большевики подымают настроение и красноармейцев, и жителей. А в это время остальные роты батальона выстроились за селом для встречи генерала Шкуро.
Галопом приближалась большая группа всадников. Впереди казак с национальным флагом, по бокам два других; за ними генерал со штабом, далее сотня казаков со значком, на котором изображена волчья голова. Генерал, поздоровавшись с ротами, сказал, что в ближайшем будущем он со своим корпусом нанесет противнику сокрушающий удар и облегчит переход в наступление всей армии. Поговорив с полковником Наумовым, он ускакал. На этот раз марковцы не сомневались в помощи казаков. А пока…
В 16 часов густые цепи красных с красными флагами перешли в наступление на батальон. Сначала находившаяся в охранении 9-я рота, а затем, уже за селом, и весь батальон с двумя орудиями и десятком пулеметов оказали им упорное сопротивление. «Вперед. За революцию!» – неслось из красных цепей. Но не сдвинулась с места редкая цепь. Упорство ее было необычайное, и это упорство вызывали красные флаги. Противник отхлынул в село, понеся огромные потери. Но и батальон понес большие: одна 9-я рота потеряла 17 человек, почти половину своего состава.
Батальон на ночь отошел к Давыдово-Орлову. На следующий день он уже не мог остановить красных и отошел к Рассыпной, которую в этот день взяли 1-й и 2-й батальоны полка.
С 3 по 12 мая полк стоит на линии станции и отбивает ежедневные атаки красных. Уже слабые, без всякого порыва. В полк вернулся командир полка, полковник Блейш, и с ним десятки выздоровевших от ран и болезней. Влито было небольшое пополнение из запасного батальона. Поступило в полк и несколько офицеров, прибывших из Русского экспедиционного корпуса, бывшего во Франции. Роты постепенно достигли состава в 30–40 человек и казались, после всего пережитого, достаточно сильными. Силен был полк числом пулеметов и отличными испытанными пулеметчиками.
О скором наступлении говорили факты: возвратившиеся в полк своими глазами видели направляемые на фронт танки; артиллеристы говорили о вызове их недавно сформированной 4-й батареи и о приказании иметь в батареях не только полный комплект снарядов, но и возимый запас.
Марковский артдивизион был переименован в бригаду в составе четырех легких и двух гаубичных батарей. 1-ю дивизию, после смерти генерала Станкевича, принял командир конного полка, генерала Колоссовский; ее состав: Корниловский, Марковский, Алексеевский пехотные и Алексеевский конный полки; Марковская артбригада94 и Марковская инженерная рота95 со взводами железнодорожным и телеграфным. Предвестником перехода в наступление было и назначение генерала Кутепова командиром 1-го армейского корпуса, составленного из 1-й и 3-й дивизий96.
Настроение марковцев крепло. В успехе не сомневались. «Вперед!» – был их клич. Сама погода, сменившая дожди и холод на солнце и тепло, поднимала уверенность. Одно лишь печалило: генерал Врангель назначен командующим Кавказской Добрармией, действующей на Царицынском направлении; его заместил генерал Май-Маевский.
12 мая днем полк получил приказ о переходе 13 мая в наступление. Общая радость и ликование. Когда в январе марковцы ехали в Донбасс, думали, что, как говорил генерал Деникин, они выступают на «Широкую Московскую дорогу», но оказались не на дороге, а в каком-то лабиринте шахт, заводов, железных дорог, балок… Четыре месяца сражались они, понеся потери до 2000 человек, так и не выйдя еще на дорогу. Наконец-то они выйдут на нее и пойдут вперед к заветной цели.
В тылу
Марковцы в тылу – это почти исключительно раненые, больные, инвалиды, какая-то часть выздоравливающих, получивших 2 – 3-недельный отпуск. Их тысячи. Ими заполнены госпитали, военные общежития. Уезжая в тыл, они, пережившие физические и моральные испытания в боях, мечтали там не только поправиться, но и отдохнуть физически и морально. Они отправлялись в тыл, испытывая радость, думая, что там они найдут всяческое сочувствие и содействие. Но в тылу они вынуждены были быстро разочароваться.
В первый раз марковцы, как и все добровольцы, познали тыл эгоистичный и трусливый, когда они до ухода в 1-й Кубанский поход вели борьбу в районе Ростова и Новочеркасска. Потом во время 2-го.
В воспоминаниях записи: «Страшно радовали трехцветные флаги на станциях, старорежимные вахмистры-жандармы, порядок. Но вот и ложка дегтя. Поезда наполнены беженцами. Как саранча набрасывались они (а большинство интеллигентных) на съестное, покупая все, очевидно не стесняясь в деньгах. Даже бабы были недовольны. «Дайте хоть что-нибудь купить военному».
«На нас, ехавших на фронт, смотрели испуганно и зло. Я пробовал поговорить… куда там. «Вы вот воюете все, не даете покоя; только вызываете большевиков на репрессии».
«Итак, виноваты. И это говорят спасающиеся у нас за спиной. Очень много офицеров отлично одетых, здоровых, веселых, ходивших по всяким учреждениям Екатеринодара, особенно благотворительным. Из них можно было свободно составить офицерскую дивизию».
«Фронтовики вели себя скромнее и достойнее. Одеты были явно хуже. Мы и они друг друга не понимали. «Черт вас несет на фронт. Не ухлопали, опять хотите?» И в первый раз услышали фразу: «Ловченье свет, неловченье тьма. Я не преувеличиваю».
«Вернулись наши роты, загорелые, небритые. Встретились как братья. Говорили о полке. Еще усилие, и мы пойдем на Москву, добьем гада, опозорившего Родину. Пасть может и великий народ, погибнуть же может только подлый».
Ложек дегтя было немало. В богатой семье, искренно и радостно приветствовавшей и принимавшей у себя добровольцев, когда был отдан приказ о мобилизации, без стеснения и возмущенно говорили: «Какое право имеет генерал Деникин проводить мобилизацию?» В семье видного судейского просили посодействовать, чтобы их сын избежал мобилизации, и если это нельзя, то хотя бы устроить его на какое-либо безопасное место. На фронте марковцы забывали про такие ложки дегтя и сталкивались с ними снова, когда попадали в тыл.
Бои в Донецком бассейне вывели из строя многие сотни, и на этот раз большинство из них размещалось в Ростове. Марковцы были нетребовательны, удовлетворялись скромными госпиталями, скудным питанием; были благодарны за внимательный уход, за милое отношение как медицинского персонала, так и «волонтерок» женской молодежи, заменявших санитаров и доставлявших светлую радость. Но стоило несколько поправиться и выйти из госпиталя в город, как снова омрачалось их настроение. Они встречали надменных офицеров, отлично одетых, смотревших на них свысока и часто в отношении их пренебрегающих элементарной этикой; элегантных дам и господ, отказывающихся оказать раненым хоть долю внимания и уважения. Даже… даже когда марковцы хоронили своего любимого командира-героя, полковника Булаткина, ростовчане в массе проявили полное равнодушие и лишь отчасти любопытство.
Сильно возмущало марковцев и отношение тыловых военных властей к раненым, когда, как казалось бы, они должны были быть особенно внимательны к фронтовикам и снисходительны к их поступкам. Комендант госпиталя грубо отчитывал офицеров даже за короткое опоздание из отпуска. Но такому отношению был положен конец самими ранеными. Выписанный из госпиталя офицер получил 3-недельный отпуск, но ему негде провести его, и он просил оставить его еще на неделю. Грубый отказ. Офицер теряет самообладание, и комендант приказывает связать его; вскакивают с коек раненые и требуют оставить офицера вплоть до полного выздоровления. Требование удовлетворяется.
Трое марковцев, едва ставших на ноги, пожелали наконец-то развлечься, сходить в театр. У кассы большая очередь; стоят в ней и комендантские офицеры. Марковцы сочли, что они имеют полное право получить билеты вне очереди, и один из них подошел к кассе.
– В очередь! – закричали стоявшие.
– Мы раненые, – отвечают им.
Особенно горячо требовал стать в очередь комендантский полковник.
– Если хотите получить удовольствие, то потрудитесь иметь удовольствие постоять в очереди, – выпалил он и, подойдя к стоявшему у кассы комендантскому поручику, приказал следить, чтобы кассир не выдал билетов.
Марковцев это взорвало, и, несмотря на крики стоявших «в очередь!» и несмотря на предложение одной дамы купить им билеты, они, поблагодарив ее, продолжали настаивать на выдаче им билетов вне очереди. И билеты им были даны, но только когда к кассе подошел кто-то из администрации театра и сказал:
– Господа! Раненые имеют полное право получить билеты вне очереди.
Таков был даже «военный» тыл армии.
Дама-патронесса одного из госпиталей Ростова пригласила к себе на пасхальный обед 12 офицеров марковцев и корниловцев. Помимо их, в гостях оказалось еще человек 16 штатских и военных: старший врач какого-то Донского корпуса, блестящий адъютант и какие-то «тузы». После обеда в гостиной разговорились на разные темы. Важные гости подняли вопрос об «ориентации» Добрармии и считали ошибкой генерала Деникина, что он в свое время принял «ориентацию» на союзников, а не на немцев, как Дон. Давно бы большевики были разбиты, утверждали они. Говорили и о другой «ошибке»: поход Добрармии на Кавказ, а не к Царицыну, как предлагал атаман Краснов. Был затронут и больной вопрос об офицерах, которые держались на рядовом положении – «офицеров нужно беречь». Ни по одному из затронутых вопросов у беседующих фронтовиков и тыловиков не нашлось общего мнения. Так и разошлись. Дама сделала красивый жест в отношении раненых, но для нее своими были люди тыла. С душевной горечью ушли с обеда добровольцы. И было чем им серьезно возмущаться и беспокоиться. Что мог дать армии такой тыл?
Но были, как исключение, и отрадные случаи. Вот один. Молодой подпоручик-марковец после выписки из госпиталя жил в общежитии при комендантском управлении. Спал на соломенном тюфяке и такой же подушке; полуголодным оставался и после обеда, и после ужина, невкусно приготовляемых на казенной кухне. У него нет ни копейки денег. О культурных и духовных запросах комендантское управление не беспокоилось. Черная тоска была у подпоручика. Он мог бы поехать отдыхать в хозчасть полка, но так хотелось остаться в городе, хотя бы на несколько дней.
Однажды он сидел в сквере. Мимо проходили дамы, мужчины, окидывая его мимолетным равнодушным взглядом. Но вот две дамы внимательно посмотрели, остановились и, подойдя, спросили о здоровье, о том, что ему, вероятно, скучно, и предложили пойти к ним. Не сразу согласился подпоручик. Дома обе дамы, мать и дочь, сделали все, чтобы развлечь офицера. Его угостили; дочь играла на рояле, а потом расспрашивали его о семье, о полку, о бойцах… о многом. Уговорили остаться ночевать. А на следующий день сказали, что решили предоставить четыре комнаты для пять-шесть легко раненных и нуждающихся в поправке, обещая полный уход за ними. Свое решение они выполнили, и в течение нескольких месяцев у них перебывало немало марковцев. Очень ценно было доброе участие к бойцам, но еще более ценно было их полное безоговорочное сочувствие идее борьбы и понимание духа и настроения добровольцев. Светлое исключение в тылу армии. И, говоря об обеих дамах, марковцы делали вывод: биться за таких людей радость. И как больно, что тыл в массе не желает думать о нуждах фронта и живет своей эгоистичной жизнью.
В конце апреля Ростов переживал очередную панику. Красная армия подошла к нему с юго-востока на один переход. Марковцы считали это приближающимся ему возмездием. Они с любопытством смотрели на волнующихся граждан, а те избегали смотреть на них. Но иные все же спрашивали: «Как вы думаете?» Они отвечали спокойно: «А мы думаем, что вот нас куда-то эвакуируют». Поезда с ранеными уходили из Ростова на юг, главным образом на Минераловодскую группу. Раненых провожали со скрытым равнодушием, уезжали виновники их грядущих несчастий. Марковцы с благодарностью помнили лишь волонтерок и сестер госпиталей, двух дам и немногих других, провожавших их со слезами и благословениями.
Вероятно, не было города на Юге России, где бы в лазаретах не лежали марковцы, корниловцы, дроздовцы, алексеевцы. Все жили мыслями и беспокойством за свои части. Всех объединяло сознание принадлежности к старым добровольческим частям. Все ревниво оберегали честь и славу их. Были споры о степени их доблести. Вызывали на это статьи и заметки в газетах. Но поспорят и успокоятся. Братство частей крепилось не только на фронте, но и в тылу, в госпиталях.
Но как ни покойно и удобно жилось в госпиталях, как ни приятно было отдохнуть от боевой страды и развлечься, все же мысли бойцов непрерывно направлялись к их «боевым семьям», к борьбе, долгу служения Родине. И не выдерживали они даже в таких прекрасных местах, как Геленджик, Минеральные Воды, в расцвете весны. Еще не залечены раны, еще не восстановлены силы, а они просят выписать их из лазаретов. Для окончательного поправления здоровья есть этап – хозяйственная часть, которая ближе к полку и где необходимо провести последние приготовления, касающиеся обуви, белья, обмундирования – вечной заботы добровольцев.
«Человек нервный, но добрый» (записано о начальнике хозчасти, полковнике Николаеве) выдумывал все, что мог, чтобы снабдить возвращающихся в полк хоть каким-либо обмундированием, бельем, сапогами. Но требовательность, быть может и законная со стороны возвращающихся в строй, наталкивалась на действительное отсутствие всяких запасов, но кое-что, хотя бы починка, проводилось. В хозчасти узнавали новое о тыле, о рогатках-таможнях, границах. Не обвинять же в этом генерала Деникина? Да. В тылу далеко не все благополучно.
Обстановка в середине мая 1919 года
С начала 1919 года Красная армия вела наступление на всем фронте Вооруженных сил Юга России. Но она потерпела поражение на своем левом фланге, где Кавказская Добрармия перешла в наступление с линии реки Маныч и подходила уже к Царицыну. Все усилия сбить воспрявшую духом Донскую армию окончились полной неудачей. Не удались и беспрерывные атаки на Добрармию в Донбассе. Зато на Украинском фронте красные добились полного успеха, дошли до Черного моря и захватили большую часть Крыма.
Наступление Красной армии к востоку от Днепра сдерживали слабые отряды, которые смогли организоваться на разлагающейся Украине, усиленные затем малочисленными частями Добрармии в Крыму и отступившей от Екатеринослава группой офицеров в 400 человек. Собравшиеся в Северной Таврии части составляли Крымско-Азовский корпус, который, не удержавшись на Крымских перешейках, откатился на Ак-Манайские позиции, недалеко от Керчи, где при поддержке флота союзников и нескольких малых судов, переданных ими в распоряжение Добрармии, упорно оборонялся.
В марте красные захватили и Одесский район. Здесь союзники в полной мере и наглядно показали свое отношение к драме своей недавней союзницы России, к драме Украины, которой они обещали помощь, и к Добрармии.
Десант союзников в Одессе был постепенно доведен до 3½ дивизий: 1½ французских и 2 греческих под французским командованием. Последнее разрешило формирование и РУССКИХ отрядов под своим контролем, и добровольческих частей, подчиненных генералу Деникину. Прибывший в Одессу генерал Тимановский энергично начал вербовку с большой надеждой на успех. В городе проживали тогда десятки тысяч офицеров из местных жителей и осевших здесь с начала революции, из нежелающих ехать в районы, занятые красными, а также недавно бежавших с Украины от анархии и большевиков под защиту штыков союзников. Был план сформировать в Одессе 4-ю «Железную» стрелковую дивизию, в мирное время здесь стоявшую, которой командовал на фронте генерал Деникин и офицером которой был генерал Тимановский.
Но формирование продвигалось слабо. Однажды был устроен смотр отряду и прохождение церемониальным маршем. Впереди шли 40 марковцев в своей форме. Громкое «Ура марковцам!» неслось со всех сторон. А потом в газете появилась статья писателя Брешко-Брешковского, возносившего дух и славу марковцев до небес. «Нам, читавшим эту статью, было как-то не по себе», – записал капитан Савельев.
После этого парада отряд стал быстро расти и к марту насчитывал 5000 человек. Переименовавшись в бригаду, он частично занимал участок на фронте, частично нес гарнизонную службу в Одессе, где скрывалось немало анархического элемента. Бригада была сильна дисциплиной и порядком; готова была начать наступательные действия, но союзники бездействовали и сдерживали ее порыв тем, что грозили лишить всякого снабжения.
Активные действия начали красные, и даже не их регулярные части, а партизанские отряды. Они разгромили на одном участке франко-греческий отряд, захватив его танки. Французское командование срочно стало эвакуировать Одессу, приказав генералу Тимановскому прикрывать эвакуацию. Бригада оказалась брошенной французами. Все русские формирования распались, и только бригада, сохраняя порядок, стала отходить к румынской границе и перешла ее, но в половинном составе, слабые духом и волей оставили ее.
Румыны и французы потребовали ее разоружения, но генерал Тимановский отказался, сдав лишь ту часть вооружения, которая не могла быть погружена на пароход, прибывший из Новороссийска. Вывод ясен для всех: нужно рассчитывать только на свои силы.
