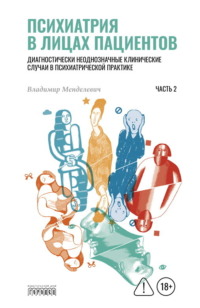Buch lesen: "Психиатрия в лицах пациентов. Диагностически неоднозначные клинические случаи в психиатрической практике. Часть 2"

© Менделевич В. Д., 2025
© ИД «Городец», 2025
@ Электронная версия книги подготовлена ИД «Городец» (https://gorodets.ru/)
Предисловие ко второй части
Первая часть книги «Психиатрия в лицах пациентов. Диагностически неоднозначные клинические случаи в психиатрической практике» вызвала оживленный интерес не только у специалистов, но и у «простых» заинтересованных читателей. Оказалось, что описанные в ней клинические наблюдения и их психопатологический анализ привлекли внимание не только в связи с запутанностью почти детективных сюжетов, но и потому, что позволили изнутри взглянуть на «психиатрическую кухню». Читателям стало понятнее, как и почему ставятся те или иные психиатрические диагнозы, как их аргументируют профессионалы, с какими трудностями сталкиваются. Немаловажным оказалось и то, что психиатры в этой книге предстали не как «каратели» и прокуроры, а как адвокаты своих пациентов.
Во второй части «Психиатрии в лицах пациентов» описаны не вошедшие в первую часть случаи из практики, которые появились в поле зрения авторов уже после выхода первой части книги. Оказалось, что необычных, неоднозначных и диагностически сложных случаев не становится меньше – их поток не иссякает. Мы задумались, почему так происходит. Ведь, казалось бы, длительный профессиональный стаж должен снижать число «непонятных больных». Оказалось, что дело не только в профессиональном уровне специалистов, но и в том, что психиатрия склонна к изменениям, а психопатологические феномены – к патоморфозу. Эти происходящие видоизменения связаны со множеством факторов. Часть из них обусловлена накоплением знаний людей (обывателей) о проявлениях психических расстройств и распространяющейся практикой самодиагностики. Другая часть спровоцирована социально-психологическими изменениями и представлениями о норме. Постмодернизм существенно повлиял на то, что именно люди стали называть психической патологией, – репертуар нормативного поведения расширился. Кроме того, люди стали предъявлять завышенные требования к своему самочувствию – их перестали удовлетворять прежние уровни стабильности или комфорта. Произошел некий переворот в головах, и началась гонка за «психологическим удовольствием». Еще одним значимым социально-психологическим параметром стало широкое распространение мистического и мифологического мышления. В условиях, когда многие люди склонны к бездоказательной конспирологии, в психиатрии возникла проблема дифференциации нормы от патологии – стало трудно отличить, к примеру, когда человек «бредит», а когда «имеет свою точку зрения» и необычное мировоззрение.
Авторы будут рады, если описанные во второй части новые клинические задачи и их решения вызовут у заинтересованных читателей интерес к психиатрии и помогут налаживанию отношений между обществом и психиатрией.
Все пациенты дали информированное согласие на использование их медицинских и иных данных в научных и учебных целях.
Имена изменены.
Предисловие к первой части
Обычно психиатрия предстает перед читателем в виде учебников, монографий, научных статей, в которых автор сосредоточивается на описании психопатологических симптомов, закономерностях проявления различных психических и поведенческих расстройств, на рассмотрении механизмов их возникновения. Психиатрия раскрывает себя в виде загадочной, нетривиальной и довольно сложной научной дисциплины. Нередко за повествованием о психиатрии теряется человек, страдающий душевным недугом.
Но есть и иной способ познакомиться с психиатрией – это изучить ее сквозь призму конкретного пациента, уникальных случаев болезни и увидеть за симптомами лица и душу. Именно такому подходу и посвящена книга «Психиатрия в лицах пациентов». Она имеет подзаголовок – «Диагностически неоднозначные клинические случаи в психиатрической практике». В книге собраны необычные, трудные для дифференциальной диагностики клинические примеры из жизни конкретных пациентов, которые наблюдались у нас на протяжении последних лет. Нас привлекла в этих пациентах загадка диагноза их психического расстройства. Каждый описанный случай в своем роде уникален, часто приходилось по несколько раз встречаться с пациентами, уточнять у них их видение собственных страданий, иногда наблюдать годами только для того, чтобы понять, что нет никакой диагностической ошибки и что назначенная терапия оказалась эффективной.
Надеемся, что книга заинтересует коллег психиатров, психотерапевтов, медицинских психологов, наркологов, неврологов и всех, кому небезразлична судьба пациентов и кто стремится к объективности в психиатрии.
Квадробинг: где заканчивается игра и начинается психопатология?1
Тема квадробинга (квадробики) стала резонансной в российском обществе после того, как законодатели посчитали подобное поведение молодежи неадекватным, деструктивным и девиантным. Общество раскололось на ярых противников и осторожных сторонников. Высказывалось мнение о том, что за поведением квадроберов стоит психическая патология, поскольку «нормальный человек не может стремиться преображаться в животное и вести себя не по-человечески».
Известно, что под квадробингом понимается современная молодежная субкультура, в рамках которой подростки склонны имитировать действия и повадки животных, ходить на четвереньках, иногда питаться из соответствующей посуды, совершать физиологические отправления по-кошачьи или по-собачьи [18]. С точки зрения некоторых специалистов и общественных деятелей, основной проблемой и опасностью подобного поведения является нарушение личностной тождественности, «поиск альтернативной идентичности», влияющей на формирование моральных ценностей и на принятие позиции о существовании множественных нормативных форм самовосприятия, например, позиции в отношении допустимости трансгендерной и небинарной гендерной идентичности [цит. по 4].
Психиатрических работ, посвященных проблеме квадробинга, в научной литературе практически не представлено, поскольку для психопатологов принципиально важным остается вопрос о необходимости обнаружения очевидных симптомов и синдромов, дифференциации их с нормативным поведением, но не моральная оценка поведения человека [7]. С этой точки зрения, игровая деятельность детей и подростков в норме может быть противопоставлена феномену «игрового перевоплощения» (бреду метаморфозы – превращения в животное (зооантропия), в частности, в кошку (галеонтропия) [2, 13, 15]. В качестве основы дифференциальной диагностики нормы и патологии выступают характер и глубина нарушений идентификации и депересонализации. В литературе имеются указания на то, что синдром патологического фантазирования в виде игрового перевоплощения может встречаться в рамках шизофрении, а также при расстройствах аутистического спектра (РАС), шизоидном расстройстве личности и органических психических расстройствах [3, 5, 6].
Ниже приведен клинический случай 11-летней Марины, занимавшейся квадробингом с восьмилетнего возраста и прекратившей подобную деятельность по причине буллинга со стороны сверстников и социального прессинга в связи с новым законодательством. Спецификой конкретного случая явилось то, что обращение к психиатрам не было связано с квадробингом, – мама привела подростка на обследование из-за патологически сниженного настроения, суицидального мировоззрения, интенсивного селфхарма, школьной и социальной дезадаптации. По словам мамы, ассоциирование себя с животными у Марины сменилось на идентификацию с героем (героями) корейских аниме и косплеингом.
Марина, 11 лет. Обращение к психиатрам связывает с опасениями мамы по поводу ее психического нездоровья и неадекватного поведения. Сама девочка не признает необходимости консультирования и лечения у психиатров и лишь выполняет просьбы матери. В своем поведении не видит никаких отклонений – считает нормальным суицидальное мировоззрение, нанесение самопорезов, квадробинг и косплеинг. Рассматривает свои увлечения как приемлемые и широко распространенные среди современных подростков. Обсуждение темы квадробинга старается избегать, поскольку, с одной стороны, она уже не занимается «этим видом спорта», с другой – страшится осуждения со стороны окружающих. Акцентирует внимание лишь на проблеме социофобии.
Анамнез жизни и болезни. Беременность у матери протекала без патологии. Психическое и физическое развитие в соответствии с возрастом. С трех лет посещала детские дошкольные учреждения, в школу пошла с семи лет. В настоящее время учится в пятом классе гимназии с углубленным изучением иностранных языков, в последнее время была вынуждена перейти на домашнее обучение. Есть младший брат трех лет. Учеба в школе давалась с трудом, плохо запоминала школьные тексты, с трудом понимала, что нужно сделать в математических задачах. Со слов мамы, еще в подготовительном классе учителя говорили, что Марина «не тянет» школьную программу. Любимым предметом называет рисование, самым трудным – английский язык, «ненавидела» физкультуру, говорила, что школьников «воспитывают как каких-то солдат». Фразу «шагом марш» и командный голос учителя воспринимала как угрозу. Училась в основном на «тройки» и «четверки». Школу воспринимает как мучение. Жалуется на трудности со слушанием и запоминанием на уроке, на вопрос, «о чем же ты думаешь на уроке?», отвечает: «скорее бы он закончился». На данный момент учителя в школе, со слов мамы, относятся к ней с пониманием. С одноклассниками отношения не складывались с начальных классов. Был всего один друг, с которым впоследствии перестали общаться. На вопрос о причине расставания сообщила, что «стыдно дружить с мальчиком, нас будут считать типа мы любовники какие-то». Особо выделяет тот факт, что раздражало то, что «девочек сажали за парты с мальчиками, которые пинались и которых [она] ненавидела». При этом соглашается, что подобное негативное поведение со стороны мальчиков не распространялось на других девочек. В четвертом классе Марина решила сообщить о буллинге учителю, на что та серьезно не отреагировала. При этом дело дошло до инспектора по делам несовершеннолетних, который провел беседу со всем классом. В настоящее время у Марины всего одна близкая подруга («Юки»).
В дошкольном возрасте Марина увлекалась фигурным катанием, получила третий юношеский разряд, затем бросила занятия, когда начались трудности из-за набора веса. С первого класса посещала музыкальную школу («воспитатели в детском саду говорили о ее исключительном музыкальном слухе»). Бросила занятия из-за конфликта с учителем. В дальнейшем был период, когда увлекалась игрой на барабанах и верховой ездой. Примерно в четырехлетнем возрасте был период, когда Марина подражала поведению кошек – стала ползать на четвереньках, руки держала, как кошачьи лапы, высовывала язык и имитировала все кошачьи повадки. Мама расценила такое поведение как «защитное от стресса». После смены детского сада подобное поведение прекратилось. Однако, она продолжала носить на голове «кошачьи ушки» и одежду только с изображением кошек.
В 9–10 лет началось «осознанное» увлечение квадробикой, которое включало изготовление костюмов (масок), подражание повадкам животных, съемку себя на видео для выкладывания в социальные сети. Стала ходить преимущественно на четвереньках, совершала прыжки, причем старалась это делать максимально похоже на кошачьи движения. В связи с тем, что прыжки совершались с мебели на мебель (с кресла на диван или на стул), в доме было испорчено немало вещей – сломана дверь, на которой Марина, как кошка, пыталась висеть, подоконники, батареи. Из-за этого крайне ухудшились отношения с отцом, в то время как мама относилась к подобному увлечению дочери терпимо и даже помогала в изготовлении масок, хвостов, костюмов. В то же время девочка никогда не требовала к себе отношения как к кошке, не ела из мисок, не ходила по-кошачьи в туалет. Никогда не ассоциировала себя с животным, не считала, что она в действительности не девочка, а кошка или волк (был период, когда она имитировала поведение волка). В школу маски и хвосты не носила, и там как кошка себя не проявляла. Никогда не мяукала, но «выдумывала» себе кошачьи имена («Нямкэт», «Рейни», «Эн»).
Считала, что «квадробика как вид спорта имеет множество положительных качеств – во время хождения на четвереньках и прыжков худеешь и укрепляются мышцы». Занималась квадробингом в компании двух подружек. Чаще всего это происходило либо в квартирах подружек, либо в общем дворе. Втроем разыгрывали сценки, в которых каждая «кошечка исполняла свою роль». Все действия снимали на видео и в дальнейшем выкладывали в социальные сети – нравилось, что видео набирали множество просмотров и лайков. Количество подписчиков канала Марины достигло одной тысячи человек. За время увлечения квадробингом попадала в трудную ситуацию, например, как-то на Марину и подружек в образе кошек во дворе напали девочки, представляющие субкультуру Эмо. Из-за подобного поведения в школе девочку подвергали буллингу, оскорбляли, смеялись над ней. После того как Марина узнала, что за квадробинг введено наказание, она приняла решение прекратить подобную деятельность. В это же время увлеклась корейскими аниме и косплеингом – перевоплощением в роли героев мультфильмов (фильмов), переодеванием в костюмы и в передаче характера, пластики тела и мимики любимых персонажей. В качестве объектов для подражания сначала был выбран Эн – мальчик-робот (из аниме «Дроны-убийцы») – добрый, благородный персонаж, помогающий окружаюшим людям. Затем его сменила девушка Рейни – придуманная Мариной девушка-квадробер с ушками на голове. В дальнейшем выбор пал на корейского «суицидального мальчика Ли Хуна».
Впервые обратились к психиатру в возрасте восьми лет в связи с жалобами на плохую память и внимание, была направлена к нейропсихологу, который посчитал, что у девочки «чисто психиатрические проблемы и что без приема лекарств занятий проводить не имеет смысла». Поводом для этого стало то, что на прием девочка пришла в ободке с кошачьими ушками на голове. После повторной консультации у психиатра было принято решение о том, что «никакой психофармакотерапии не требуется – подростковый возраст пройдет – и исчезнут проблемы». Однако, состояние Марины продолжало ухудшаться – она перестала справляться со школьной программой, еще более уединилась, перестала выходить из дома, участились эпизоды селфхарма, усилились размышления о «никчемности жизни». Состояние усугубилось после того, как она стала свидетелем падения мужчины с балкона. Вместе с другими свидетелями происшествия подошла к телу упавшего на землю человека и в испуге внимательно рассматривала все детали. Однажды сообщила матери о том, «почему это одному человеку выбрасываться из окна и умирать можно, а мне нельзя».
Была проведена консультация профессора-психиатра онлайн, во время которой Марина общаться не захотела и за спиной мамы прыгала, как кошка, с дивана на кресло. Было констатировано, что у девочки «приподнятый фон настроения, двигательно возбуждена, импульсивна, демонстративна. Речь смазанная, односложная, высказывания наивно-откровенные. Предпочитает быть в образе кошки, чем быть девочкой. Ассоциации конкретно-инфантильные». Выставлен диагноз: «шизоаффективное расстройство, синдром патологического фантазирования у ребенка с резидуально-органической церебральной недостаточностью» – и рекомендован прием арипипразола по 10 мг в сутки. Со слов мамы, впервые признаки «социофобии» у Марины проявились за полгода до обращения к психиатрам. Она начала бояться людей, избегать общения, выбирать уединение, в связи с чем практически не выходила из дома. Причину своего страха людей объяснить не может, хотя иногда сообщает, что люди на улице, в транспорте могут на нее «странно» смотреть («мужики таращатся», «некоторые прям смотрят, прям с улыбкой»). Поясняет, что, возможно, это связано с тем, что ее считают «ненормальной». С того же времени у Марины появилось желание нанести себе порезы для того, чтобы «снять стресс». Объясняет, что страдала от того, что у нее нет друзей, конфликты в школе и «социофобия». Порезы на руках, на животе, на ногах, на лице наносила острыми предметами. После таких действий «становилось легче на душе, забывались проблемы». Вначале совершала селфхарм почти каждый час, затем реже – каждый день, в последнее время прибегает к такому способу расслабиться не так часто. Использует «трекер вредных привычек» – методику, которой Марину обучил психолог («ради подарков готова по три-четыре дня не резаться»). Договоренность по трекеру соблюдает почти всегда, таким способом отучилась резать одну руку. Отмечает, что иногда удержаться от стремления нанести себе самопорезы «крайне трудно». За полгода несколько раз возникали «панические атаки», когда «начинало трясти, не могла усидеть на месте, глубоко дышала, появлялся страх смерти».
Психический статус. На прием зашла, робко озираясь по сторонам и оглядывая собравшихся врачей. Внешне выглядит смущенной, испуганной – взгляд опущен в пол, фигура сутулящаяся. Одета в одежду темного цвета, оверсайз. Волосы падают на лицо, прикрывают глаза. В контакт вначале вступает неохотно, утверждая, что у нее никаких психологических проблем нет и она ходит по врачам исключительно для успокоения мамы. В процессе беседы становится более раскованной, открытой и откровенной. Голос тихий, но хорошо модулированный. С самого начала просила не обсуждать вопрос квадробинга, поскольку, во-первых, это уже неактуально, а во-вторых, потому, что ее уже много раз об этом расспрашивали, и она все подробно рассказала. На руке имеются неглубокие порезы от нанесенных самоповреждений. На щеке наклеен пластырь телесного цвета («для красоты»). Стала так приклеивать пластырь в последние недели, подражая своему кумиру (идолу) Ли Хуну2. На вопрос о том, как ей бы хотелось, чтобы к ней в процессе обследования обращался психиатр, сообщила, что предпочтительнее именно Ли Хун, а не Марина. Однако, не стала на этом настаивать и спокойно реагировала, когда ее называли настоящим именем. Ассоциацию с Ли Хуном объясняет тем, что она похожа на него доминирующим настроением, мировоззрением и увлечениями – «суицидом похожа, он тоже любит оверсайз». Отзывается о Ли Хуне с восхищением («хороший, милый») и сочувствием, делая упор на его страданиях, одиночестве, на том, что он сирота, потерявший родителей. На вопрос о том, что ведь она сама не сирота, ее родители живы и ничего трагического в ее жизни не происходило, сообщает, что сопереживает таким, как Ли Хун, и хотела бы, чтобы и к ней так же относились окружающие. Обрадовалась, когда психиатр сообщил, что видел эту манхву и оценивает ее как психологически интересную, раскрывающую важную тему одиночества.
Марина сообщила, что ей нравится «косплеить» Ли Хуна, на скопленные ею самой деньги даже купила парик этого персонажа, приклеивает, как и он, пластырь себе на лицо и имитирует его поведение. Полностью отдает отчет, что она не является Ли Хуном, а лишь перевоплощается в него для того, чтобы почувствовать спокойствие на душе. Ее не смущает, что копирует она не девочку, а мальчика. Марина очень хотела бы, чтобы и ее подруга, которой она дала имя Юки, поучаствовала в этой игре. При этом понимает, что та бывает грубой, негативной по отношению к ней, вследствие чего никакие секреты свои ей не доверяет. Со слов мамы, у Юки свои психологические проблемы, но, учитывая, что других подруг у Марины нет, «ей приходится дружить с ней». Помимо этого, у Марины есть интернет-подруга из другого города, с которой она делится секретами, и ей бы очень хотелось, чтобы она была с ней рядом. Со слов мамы, та девочка «очень добрая» и «мило общается». Марина объясняет, что на данный момент отказывается от посещения всех школьных мероприятий, поскольку никто ее там не понимает и не принимает. Иногда общается с младшим братом, но в целом «ненавидит» и его («он все ломает, портит вещи», «родители больше любят его, больше внимания ему уделяют»). На вопрос о том, зачем она так много времени проводит на балконе и иногда ведет себя рискованно, например, садится на край, сообщила, что не боится упасть и ее это успокаивает.
Описывая свое «прошлое увлечение» квадробингом, говорит о том, что это была и игра, и занятие спортом. Никогда себя не ассоциировала с животными, понимала, что она девочка, и не хотела меняться. Осознавала, что окружающие воспринимали такое поведение как неадекватное, но ей нравилось так играть. Кроме того, нравилось, что к ней со стороны подписчиков странички в соцсетях приковано внимание. С некоторой досадой говорит о причинах прекращения занятиями квадробингом. Называет два основных – крайнее недовольство со стороны отца по причине того, что немало домашней мебели было сломано из-за ее «кошачьих прыжков», и страх наказания после принятия закона о запрете квадробинга.
Об отце активно не рассказывает, на вопросы о нем отвечает отрывчато, немногословно («с папой мы не общаемся», «я его боюсь», «он на меня кричал»). Мама подтверждает, что у них с Мариной произошел конфликт из-за увлечения квадробикой, когда папа «психовал», требовал снять маску с лица. В настоящее время они не разговаривают друг с другом.
Во время беседы Марина склонна спокойно обсуждать тему самоубийства, считая, что это вероятный вариант исхода ее жизни. На вопрос о том, что, если она верующая, то подобное поведение не является правильным, задумывается и соглашается, что «идеи о самоубийстве – это теория, и никаких действий я предпринимать в ближайшее время не собираюсь». Обсуждает эту тему с особой серьезностью, не проявляя страха и эпатажа, демонстрируя философское отношение. При этом сообщила, что, если выбирать, то лучше всего спрыгнуть «например, с шестнадцатого или с двенадцатого этажа», не уточнив, почему именно с них. Однако, потом добавляет, что любит сидеть на окне, но боится при этом выпасть из него. При вопросе о том, нужно ли что-то поменять в жизни, сказала, что «ничего менять не надо», подумав добавила, что можно «школу полностью убрать». При размышлениях об идеальной жизни сказала, что она не нужна, «и так нормально». А депрессия, спокойное и грустное состояние ей нравится, но причину этого объяснить не может. При вопросах об описании эмоций, чувств, причин поведения часто отвечает «не знаю», «вы все об этом спрашиваете, а я не понимаю».
Говорит, что, возможно, в будущем хочет стать психологом. Хочет закончить девятый класс, но сомневается в том, что это ей удастся («если я пойму, что у меня там хорошие оценки, у меня все получается, то я буду учиться; если нет, то не закончу»). При этом говорит, что может и «не дожить до окончания школы». При обсуждении столь деликантных тем не проявляет выраженных эмоциональных реакций тревоги, страха или оживления. В некотором смысле ориентируется на реакции собеседника. Интеллект соответствует возрасту, речь достаточно развита, словарный запас богатый. Галлюцинаторно-бредовой симптоматики не выявляется.
Психологическое обследование. В контакт вступает с необоснованным недоверием, в периоде адаптации проявляет себя немногословной, скрытной, особо напряженно-мрачной по настроению. Место предполагаемой в новой ситуации социальной тревоги, скорее, занимает пассивно-протестная или косвенная раздражительность, нередко становится фиксирована на отражающих ее собственный эмоциональный фон стимулах, отрывках диалога, проявляя более или менее нелепое, некритичное «смещение» на них мотивационной доминанты. Речь с отдельными механическими нарушениями произношения, связанными с индивидуальными особенностями строения челюсти. В эмоциональной экспрессии доминирует дисфорическое по окраске «выпячивание негативного» вместе с напряженной замкнутостью (в частности, как демонстрация реакции пресыщения или обостренной сенситивности). В первом же рисунке – своеобразное искажение образа вне полученной инструкции, которое вначале никак не поясняет, но в опросе, завершающем работу, говорит о нем с неприкрытым выражением уничижительной гетероагрессии (презрением, отвращением, насмешками) – «Я – дрон-убийца», «Это когда настроение настолько отвратительное, что охота наплевать на весь мир: глобуса не хватает [чтобы сделать это сейчас же]». В этом контексте обращает на себя особое внимание роботоподобный и как бы изуродованный образ человека на рисунке (частичное отсутствие конечностей, замена лица «нежизненной» частью).
Со слов присутствовавшей мамы, в последние полгода девочка «всегда в плохом настроении», тяжело переживает неудачи, высказывается о нежелании жить, «не любит, когда на нее смотрят» (реагирует агрессивно). В просьбах от родителей угадывается стремление к получению немедленного и непосредственного переживания удовольствия (как правило, от покупок, проведения времени «в телефоне»). В раннем развитии – «гиперактивность», манифестировавшая только с 4 лет и до школы компенсированная постоянными занятиями спортом, затем – нейропсихологической коррекцией.
В трактовках проективных картин РАТ аффективно фиксирована на «негативных» трактовках человеческих образов как источниках агрессии, предательства, чувства обиды. Так, о любых трех фигурах говорит «типичная дружба втроем», а о человеке, догоняющем другого, немедленно говорит «побить хочет» (также: «два идиота решили разбить себе голову»). По Методу Цветовых Выборов – реакция эмоциональной напряженности и неустойчивости фона настроения с вовлечением физиологических потребностей (как акцентированного стремления к отдыху и расслаблению), противоречие между тенденциями к спонтанности и самоконтролю, нетерпеливость, раздражительность, подавленное противодействие обстоятельствам, ощущение дискомфорта и приниженности вместе с оптимизмом, поисками социальной активности и признания без тягостной ответственности, упорство и требовательность в достижении своих целей, с уступчивостью ради сохранения связей, неудовлетворенное желание доброжелательных отношений и ощущение непонятости значимыми окружающими.
Внимание по пробе Шульте ближе к легкому снижению по концентрации и распределению: 58”, 59”, 1’16”, 1’13”; реакция на нагрузку в виде неустойчивости волевого усилия (в основном переход к «заторможенной» пассивности). Непосредственное запоминание по пробе «10 слов» в норме после короткого врабатывания, с небольшой неустойчивостью ретенции (5–9–8–10 слов из 10, отсроченно 8). Проба на опосредованное запоминание показывает адекватный или (чаще) акцентирующий субъективные переживания/протестность/сенситивность, эгоцентрический подбор образов (к понятию «болезнь» рисует указатель в две стороны: «туда – болезнь, свобода, а туда – мучение, школа», рисунок к понятию «богатство» – разбитое сердце: «Если что-то будет богатое, то оно еще больше будет агрессивное для меня… Богатое, оно наглое».) «Пиктограммы» неряшливо-схематические в отличие от выверенного индивидуально-значимого рисунка, с чередованием импульсивной гиперстении и тревожности (дублирование линий). Воспроизведение на уровне «низкой нормы» за счет многочисленных неточностей. Мышление в невысоком или замедленном темпе (общая когнитивная инертность), в вербально-логическом и конструктивном компонентах преимущественно типичные недочеты абстрагирования и пространственного синтеза (по «органическому» типу), продуктивность под постоянным и существенным влиянием эмоционально обостренных отказных реакций (вследствие пресыщения нагрузкой и тесным взаимодействием по поводу нее, либо фиксации на субъективно (аффективно) значимом). В классификации предметов показывает способность к объединению по существенному признаку, составляет группу «измерение», однако, иногда малокритично переходит к ситуативным («при болезни используются») или второстепенным конкретным (из-за чего слабо справляется с объединением групп – соединяет их как «стекляшки», «мучения»: связанные со школой), презрительно переворачивает карточки с людьми – «терпеть не могу», неоднократно подчеркнуто называет эту группу «идиоты». Скрытый смысл прочитанного рассказа («Галка и голуби») улавливает верно, но передает с утрированной эгоцентрической окраской («Не очень хорошо поступила – осталась без ничего»), дает демонстративно разрозненные оценки, подчеркивая собственные сиюминутные идеи – «Не надо наказывать бедную птицу!», «Не надо завидовать голубям!», на внешнюю стимуляцию к упорядочиванию ответа реагирует негативно («Мне лично пофиг»). В пробе «Простые аналогии» нуждается в корректирующих подсказках, так как не улавливает наиболее глубокие из заданных обобщающие межпонятийные связи. На Кубиках Коса конструирует с преодолеваемыми затруднениями синтетического восприятия усложненных образцов. Счетные навыки не нарушены: правильно решает в уме несложные арифметические примеры с неизвестными. Интеллект сохранный. В обследовании когнитивной сферы определяется негрубое неравномерное снижение когнитивных возможностей по «органическому» типу (в картине которого преобладают недостаточность функции внимания и снижение уровня обобщения и пространственного синтеза), при выраженной субъективно-эмоциональной обусловленности стиля и содержания когнитивной деятельности, возникающей в силу ситуативно интактных – дистимии, эмоционально-волевой неустойчивости, раздражительности, пресыщаемости, обостренной сенситивности, демонстративных тенденций, а также признаки эмоционально-мотивационной и волевой незрелости, что в совокупности может представлять собой предпосылки патохарактерологического направления развития.
Терапия. За время наблюдения психиатрами получала следующую психофармакотерпию: сертралин (до 100 мг в сутки), ламотриджин (до 50 мг в сутки), арипипразол (до 10 мг в сутки). Проходила психотерапию. Со слов мамы, эффективность незначительная и краткосрочная – оценивалась по частоте самоповреждений. По мнению Марины, она не нуждается ни в каком лечении и принимает лекарства исключительно для спокойствия мамы. При этом отмечает, что настроение на фоне лечения становится лучше, смягчается социофобия, становится более общительной, готовой выходить из дома.
Обсуждение
Представленный случай одиннадцатилетней Марины привлек наше внимание неоднозначностью психопатологической интерпретации наблюдавшегося феномена квадробинга и его трансформации в иную форму «игровой идентичности». Психиатрами, осматривавшими пациентку, в ее игровых перевоплощениях усматривалось патологическое (бредоподобное) фантазирование в рамках расстройств шизофренического спектра, а для купирования состояния назначались атипичные антипсихотики. Анализ случая позволяет по-иному квалифицировать поведенческие расстройства девочки. Дискуссионным является вопрос о том, имеются ли научные основания причислять ее игровую деятельность (квадробинг, косплеинг) к психопатологическому кругу явлений? Учитывая тот факт, что психосоциальная дезадаптация Марины была связана не только и не столько с квадробингом, значимым представляется также анализ связи игровой деятельности с психопатологическими симптомами. В клинической картине заболевания доминировали аффективные расстройства (эмоциональная лабильность, депрессивный фон настроения) в сочетании с суицидальными мыслями и намерениями, поведенческие нарушения в виде самоповреждений и импульсивности, а также личностные особенности (социофобия, мизонтропия). Помимо этого, в клинической картине обнаруживался редкий феномен флюктуирующей идентичности, синдром игрового перевоплощения и квадробинг.