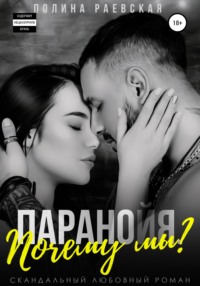Buch lesen: "Паранойя. Почему мы?"
Глава 1
«Пусть мы и сами знаем, что оступаемся, знаем даже раньше, чем сделали первый шаг, но ведь это сознание все равно ничему не может помешать, ничего не может изменить.»
К. Макколоу «Поющие в терновнике»
– Ну, привет, Настюш. Не ждала? – первое, что произносит Долгов, проходя в мою спальню.
Это его насмешливое пренебрежение и ленивая походочка сытого котяры действуют на меня, как красная тряпка на быка. Такой едкой, жгучей злобой захлестывает, что я едва сдерживаюсь, чтобы не зарычать, как бешеная зверюга и не наброситься на этого ухмыляющегося козла.
Мне хочется расцарапать его наглую физиономию, разбить ее в кровь, разорвать на кусочки за это паясничество в самые горькие для меня минуты, за всю боль и горе, что я проживаю.
Перед глазами проносятся все те унижения и отчаянное бессилие, когда я переставала чувствовать себя человеком; когда на коленях ползала перед Можайским, умоляя о помощи; и каждую ночь, сидя в кладовке в ожидании очередных побоев, звала Долгова или просила все небесные силы сохранить моего малыша.
Я прокручиваю это снова и снова, и ненавижу. Кто-то где-то писал, что больше всего мы ненавидим тех, кого когда-то любили, и он прав. Убеждаюсь теперь в этом на все сто. Даже Елисеев и Можайский в списке самых ненавистных мне ублюдков уступают место Долгову. Ненавижу его за все, что он сделал, а главное – за то, что не сделал, хотя мог бы и должен был.
Однако вместо того, чтобы выплеснуть ему в рожу свою агонию, оглушить болью и правдой, впиваюсь обкусанными ногтями в ладони и заставляю свое натянутое, как струна, тело принять такую же лениво- расслабленную позу, и отзеркалить ухмылочку.
Никогда эта скотина не узнает, за что я сражалась и какую цену заплатила. Пусть думает, что предала, не любила, пусть ненавидит, мстит. Мне уже все равно. Главное, чтобы в полной мере прочувствовал, каково это, когда человеку, который еще вчера шептал тебе о любви, на самом деле плевать. Поэтому, неимоверным усилием воли взяв свои эмоции под контроль, приподнимаю снисходительно бровь и, наконец, отвечаю:
– А должна была?
Долгов снова усмехается, только вот во взгляде ни единого намека на насмешку, в нем ярость и едва сдерживаемое бешенство.
– Ну да, че это я? – не скрывая сарказма, парирует он и специально, нервируя меня, медленно обходит комнату по кругу. – Слышал, с Елисеевым путаешься, – начинает он приближаться. Мне хочется попятиться назад, но заставляю себя стоять на месте.
– И? – бросаю с вызовом, вскинув подбородок. Злость придает смелости.
– «И»? – вкрадчиво уточняет Долгов. – Даже так?
– А что, ты из тюрьмы прямиком ко мне, чтобы слухи обсудить? – шлю приторно – издевательскую улыбочку, но он тут же возвращает ее мне.
– Да нет, Настюш, просто решил заехать, вы*бать тебя по старой памяти. Бабы – то твоими молитвами давно не было, а ты, как раз, тут первая по пути.
– Неужели? – скалюсь еще лучезарней, пытаясь скрыть за этим оскалом боль и унижение. Мне так плохо, что я совершенно перестаю себя контролировать, хоть и понимаю, что переступаю черту, которую переступать не следует. – Не хочу тебя разочаровывать, – снисходительно тяну, растягивая гласные, – но ты не по адресу. Благотворительный фонд для лохов и неудачников лучше поискать дома или где там сейчас твоя жена спрятана?
На несколько долгих секунд повисает напряженная пауза. У Долгова от ярости лицо приобретает такой оттенок, что в гроб краше кладут.
– Да ты что? – хищно ощерившись, подходит он почти вплотную и, тут же посерьезнев, с угрозой цедит. – Ты, Настенька, попутала что ли?
– Я попутала? – вырывается у меня ошарашенный смешок. – Нет, Серёженька, это ты попутал. Хочешь спросить с меня за суд? Спрашивай. А с кем я трахаюсь – не твоего ума дела, понял?! Тебе башку что ли окончательно в тюряге отбили или старческий склероз напал? Так давай напомню: ты меня бросил! Послал еще до суда, поэтому иди в жопу со своими вопросами!
В следующую секунду разъяренный Долгов хватает меня за шею и со всей дури впечатывает в стену. Затылок обжигает острой болью, перед глазами темнеет и тут же взрывается мириадами разноцветных мушек. Закашливаюсь, но Долгову плевать, давит еще сильнее на горло.
– Ты! Сука! Ты кого тут из себя корчишь передо мной? – цедит дрожащим от гнева голосом, обжигая горячим дыханием и своей близостью. В нос забивается противный, тюремный запах, похожий на то, как если бы его одежду несколько дней замачивали в затхлой воде с сигаретными окурками, однако я успеваю в этой вони почувствовать его собственный, ни с чем несравнимый аромат, от которого меня ведет и невольно бросает в дрожь, но Долгов расценивает ее по-своему. – Че кривишься, падла? Не нравится?
– Убери от меня руки! – впившись ногтями в его запястье, хриплю и пытаюсь вырваться, но он наваливается всем весом, распиная меня на стене.
Соприкосновение с его исхудавшим, но по-прежнему крепким, сильным телом, подобно электрическому разряду – прошибает до самых костей. По коже пробегает мороз, и тут же становиться невыносимо жарко. Дышим загнано и смотрим глаза в глаза, готовые разорвать друг друга.
– Трахалась с ним? – выдыхает он мне в щеку, сверля меня взглядом одержимого психа, но мне не страшно, мне горько и противно до слез.
Я потеряла маму, сестру, да все, что у меня было! И это стопроцентно его рук дело, но все, что его волнует – это единственный ли он мужик, побывавший во мне.
Если до этого у меня еще и были какие-то сомнения, что ему не все равно, то теперь от них не осталось и следа. Плевать ему. На все плевать.
Слезы обжигают глаза, но я давлю их в себе. Растягиваю дрожащие губы в ядовитой ухмылке и шепчу:
– Трахалась, Долгов. С удовольствием трахалась, как самая настоящая ебл*вая су… – договорить не успеваю, я даже не успеваю ничего понять, как его кулак впечатывается в стену в паре сантиметров от моего лица.
– Заткнись! – выплевывает он с такой яростью, что кажется еще чуть-чуть и свернет мне шею. Но мне уже плевать, что со мной будет. Меня несет, прорывает, как назревший гнойник.
– Ну, давай, ударь, – подначиваю, окончательно слетая с катушек. – Давай! Ты ведь только и способен, что винить бабу за то, что сам – слабак и ни черта не смог сделать. Давай бей, я же тебя предала! А вот ты – молодец, настоящий мужик! Бросил меня в самое пекло....
– Заткнись, бл*дь! Закрой свой рот!
– А то что? Что ты сделаешь?
– Убью тебя суку! Убью! – орет он, и бьет по стене снова, и снова, сжигая меня диким, полыхающим взглядом.
Наверное, не свихнись я от горя, я бы уже сжималась в ужасе и билась в истерике. Впрочем, возможно, это она и есть, ибо мне не страшно, меня колошматит всю от хохота. Я смотрю на его сбитый в кровь кулак и смеюсь, как припадочная сквозь бегущие по щекам слезы.
– Тупое животное! – выплевываю с презрением и продолжаю выводить Долгова. – Ну, давай, убивай! Никчемные куски дерьма, вроде тебя, всегда так делают – вместо того, чтобы защищать, сливаются, а потом качают права, когда их меняют на нормальных мужи…
– Да пошла ты, тварь! – замахивается он, я скукоживаюсь в ожидание удара, но Долгов с досадой снова впечатывает кулак в стену. А я уже просто не выдерживаю, меня накрывает звериной злобой, и я бью его наотмашь по лицу.
– Да! Я – тварь! – срываюсь на крик. – Тварь, которую ты бросил, когда надоела и послал для надежности на глазах у всей своей семейки. Поэтому, когда мне сказали, что я могу засадить тебя за решетку, я с радостью согласилась. Я ведь тварь!
Меня разрывает на части от боли, и я снова влепляю ему пощечину. Бью с такой силой, что рука немеет. На мгновение мир, будто замирает. Щека Долгова покрывается красными пятнами. На его посеревшей коже это выглядит ужасно. Впрочем, то, как меняется его лицо от бешенства, по -настоящему пугает.
Пугает настолько, что я, как мелкая, трусливая собачонка, оскаливаюсь еще больше и, глядя ему в глаза, влепляю очередную пощечину: вторую, третью. Долгов сжимает челюсти так, что желваки начинают ходить на щеках. От гнева у него подрагивают сжатые в тонкую полоску губ и как у дракона раздуваются ноздри, того и гляди, огонь повалит, однако он даже не пытается защититься. Давит мне на горло и сверлит диким взглядом.
Я же, окончательно озверев, хлещу еще и еще. Мне мало. Вспоминаю все, что со мной делали, вспоминаю маму, Глазастика и бью, захлебываясь слезами и накатывающей цунами истерикой. У Долгова уже вся рожа красная и разбита губа, а я не могу остановиться, продолжаю лупить, куда придется ладонями, кулаками, чувствуя с каждым ударом еще большую горечь и боль.
– Ненавижу тебя! Всем сердцем тебя ненавижу! Лучше бы ты сдох! – ору вне себя от отчаяния и горя, понимая, что никого и ничего уже не вернешь.
Видимо, это становиться последней каплей. Крепкая рука сдавливает мое горло с такой силой, что в глазах темнеет, и я начинаю, как выброшенная на берег рыба, хватать воздух ртом, но не успеваю ничего понять, как Долгов швыряет меня со всей дури на кровать и уже в следующее мгновение я стою на коленях на полу, уложенная животом на матрас.
Сообразив, к чему эта поза, внутри все холодеет и меня пробивает дрожь.
Я готова быть избитой, искалеченной и даже убитой, но только не изнасилованной. И главное – не им – не мужчиной, которого я любила.
– Нет! Не трогай! Не смей! – начинаю сопротивляться изо всех сил, но Долгов, молча, впечатывает меня лицом в матрас и, не церемонясь, стаскивает до середины бедра мои лосины с трусиками, похабно бросая:
– Вижу, Елисеев – большой любитель кустов.
Этот козел смеется, а я цепенею от унижения, чувствуя, как холодный воздух обжигает мои ягодицы и промежность. С того дня, как я потеряла малыша, старалась даже лишний раз не прикасаться к себе там… Я мылась – то с содроганием. Стоило только коснуться, как снова проживала те страшные секунды и чувствовала на пальцах липкую кровь.
Дальнейшее происходит, как в каком-то кошмарном сне, благо он быстро заканчивается, стоит только Долгову войти в меня.
– Бл*дь! – слышу позади шипение и чувствую, как по ногам начинает что-то стекать. Впрочем, ни что-то, а, наверное, кровь. Не кончил же он с одного толчка.
В следующее мгновение хватка на моей шее ослабевает и Долгов выходит из меня. Я всхлипываю от режущей боли и скукоживаюсь в комок. Живот ноет, разрывает на части. Уткнувшись в матрас едва дышу. Мне уже плевать, как я выгляжу с этими спущенными лосинами и трусами, с окровавленной промежностью. Да на все уже давно плевать. Когда человека ломают, он перестает испытывать стыд и унижение. В конце концов, чего стыдиться, если от гордости и собственного достоинства все равно ничего не осталось.
– У тебя месячные начались, иди в ванную, – произносит Долгов глухо. У меня вырывается истеричный смешок, и я тут же захожусь в слезах.
Месячные. Как же?!
Впрочем, пусть «месячные». Истеку кровью и сдохну. Все равно не хочу больше просыпаться в этом поганом мире. Мире, где за сраные бумажки можно пустить в расход и любовь, и дружбу, и детей, и братьев, и сестер.
– Ты слышишь? – снова раздается надо мной напряженный голос Долгова. Я не понимаю, про что он говорит, да это и не имеет значения. Просто пусть уйдет.
– Оставь меня в покое. Что тебе еще надо? – произношу через силу.
– Вставай. Собери необходимые вещи, мы уезжаем, – ошарашивает он.
Поднимаю голову с матраса и смотрю во все глаза.
– Давай, – с невозмутимым видом кивает Долгов на шкаф, прикладывая к сбитым казанкам мокрое полотенце.
– Ты в своем уме вообще? – все, что могу выдохнуть, ни черта уже не понимая.
– Собирайся! – отрезает он жестко. – Или я тебе сейчас помогу.
Он делает шаг ко мне, я инстинктивно отшатываюсь. Дрожащими руками натягиваю торопливо лосины и забираюсь на кровать.
– Не смей ко мне приближаться! – цежу, отползая все дальше и дальше. Несколько долгих секунд мы смотрим друг на друга, словно видим впервые. И это действительно так.
Я не знаю этого мужчину: не знаю его холодный, безжалостный взгляд и, что за ним скрывается. А главное – какую еще черту он способен переступить, чтобы наказать меня или просто заткнуть.
Оказывается, чтобы человек стал чужим не нужны годы и расстояния, достаточно одного неправильного шага. Жаль только, что его недостаточно, чтобы разлюбить.
Скривившись, Долгов явно хочет что-то сказать, но в последний момент передумывает. Втягивает с шумом воздух, словно призывая все земные силы дать ему терпения и, не говоря ни слова, идет в гардеробную. До меня доносятся звуки выдвигающихся шкафов.
Не знаю, что он задумал и зачем я ему. Ясно одно: я по – прежнему марионетка без прав и возможности выбора.
Не то, чтобы меня это как-то волновало или возмущало… Нет. Мне уже абсолютно все равно, что будет дальше. Не осталось ничего, что со мной бы ни сделали и чем меня можно было бы напугать. Однако, хочется покоя. Я хочу остаться наедине с собой. Свернувшись калачиком под теплым одеялом, спрятаться от всего мира и, обняв пустой, ноющий живот, оплакать свои потери: маму, Глазастика, своего малыша, себя, наконец, и свою переломанную, испоганенную жизнь. Но…
– У тебя пять минут, чтобы привести себя в порядок. Потом не проси заехать в магазин или еще куда-то по твоим женским делам. Будешь сидеть в машине и справляться сподручными средствами, – объявляет Долгов, выходя из гардеробной с дорожной сумкой от Луи Витон, как попало набитой моими вещами. – Давай, пошевеливайся. Я и так потерял кучу времени, скоро менты объявят в розыск, и выехать из города будет сложно.
Он еще что-то говорит, а я просто пытаюсь осознать этот п*здец. Смотрю на совершенно индифферентного Долгова и чувствую себя сумасшедшей. Если бы не боль в низу живота, я бы решила, что у меня и правда слетела кукуха, и мне привиделось, что он нагнул меня над матрасом и трахнул "на сухую". Но я все еще не до конца натянула трусы, и кровь медленно стекает по моим бедрам, а значит ничего мне, к сожалению, не привиделось.
– Думаешь, после всего произошедшего меня волнуют твои угрозы и, тем более, проблемы? – спрашиваю едва слышно, хотя хочется заорать дурниной от боли, от обиды, от всей этой жестокости и несправедливости.
Долгов ничего не отвечает, бросает сумку возле двери и решительно направляется ко мне.
– Не трогай меня! – не взирая на опоясывающую боль, вскакиваю с кровати и хватаю с тумбочки книгу, чтобы хоть как-то обороняться.
– Собралась, живо! – взбесившись, рявкает этот мудак. Я тяжело сглатываю, задрожав от нового приступа боли и страха, Долгов же добавляет. – Ты вроде не совсем дура, должна понимать, что мне достаточно свистнуть, и тебя отсюда вынесут без всяких разговоров. Так что давай, сама, по-хорошему.
– Какой шикарный выбор, – вырывается у меня едкий смешок сквозь слезы.
– А кто тебе виноват? – заявляют мне таким тоном, словно говорят о погоде. – Не жевала бы сопли и не надеялась на Елисейку или на кого ты там рассчитывала, сидела бы уже давно на Манхэттене и попивала бы свой мятный чай, любуясь Гудзоном. У меня еще в январе было все готово. Тебе нужно было лишь подождать до утра, а не нестись, сломя голову, к своей мамаше.
Сказать, что я охренела – не сказать ничего. Я просто онемела от захлестнувшего меня возмущения и злости. Однако, представив, что все могло быть именно так, становиться невыносимо, до слез больно. Ведь я уже тогда, получается, была беременна, а значит, могла… мы могли…
Нет, я даже думать об этом не в силах.
– Ну, да, – проглотив колючий ком, киваю с горькой усмешкой. – Это все я.
Долгов тяжело вздыхает, будто я его жутко утомила.
– Я тебе так скажу, Настя, – продолжает он свои нравоучения. – Либо человек сам делает выбор, либо за него выбор делают обстоятельства. Усидеть на двух стульях еще ни у кого не получилось. Да ты и сама теперь в этом убедилась, так что не наступай дважды на одни и те же грабли. Пора взрослеть. Пора делать выбор.
– Как будто ты мне его оставил, – огрызаюсь, понимая всю бессмысленность этого диалога.
– Оставлял. Помнится, еще в самом начале дал тебе возможность отказаться, но что ты мне тогда ответила? Кажется, это звучало так: «Хочу быть твоей».
– Я… – возмущенно открываю рот, но он не позволяет возразить.
– Не знала, не понимала и вообще маленькая была? – насмешливо уточняет, и тут же следует будничный ответ. – Ну, тогда объясняю: быть моей – значит не просто передо мной ноги раздвигать. Это может каждая баба. Быть моей – значит выбирать меня! Не маму, ни папу, ни сестру, а МЕНЯ! Всегда! Независимо от обстоятельств, вопреки всем и всему, понятно? И впредь ты будешь поступать именно так. Мне пох*й, хочешь ты того или нет! Тебе пора уяснить: то, что я назвал своим, остается моим до конца. И лучше вдумайся в это, если не хочешь повторения чего-то подобного, – обводит он ничего не выражающим взглядом кровать.
– Господи, какое же ты животное! – выплевываю с отвращением и болью, задыхаясь от понимания, что он не чувствует ни капли сожаления или вины. Ни за то, что произошло сейчас, ни за то, что сделал с моей семьей.
– Да. Но для такой трусливой сучки в самый раз, – будто подтверждая мои мысли, соглашается он и жестко резюмирует. – Всё, иди мойся, хватит из себя жертву корчить, ты уже эту роль в суде отыграла на отлично. Собирайся, мы уезжаем. У тебя две минуты.
– Я никуда с тобой не поеду, – шепчу, глотая слезы.
– А я не спрашиваю, поедешь ты или нет. Я говорю – ты делаешь! – отрезает он и обходит кровать, я шарахаюсь, сбивая с тумбочки лампу. Долгов, как ни странно, останавливается и отведя взгляд, словно увидел что-то неприятное, добивает:
– Ты протекла, иди.
Опускаю взгляд, вижу на своих белоснежных лосинах кровавое пятно, и в глазах темнеет, меня накрывает дежавю. Я будто снова стою на подъездной дорожке перед мамой с Можайским и истекаю кровью. Задрожав, начинаю задыхаться от паники, но выскользнувшая из рук книга падает прямо на ногу, очень вовремя приводя в чувство, иначе я не знаю, во что вылилась бы моя истерика.
Зашипев, машинально наклоняюсь к онемевшей ноге. Пока растираю ушиб, прихожу немного в себя и беру эмоции под контроль. Втягиваю с шумом воздух и, превозмогая тупую, ноющую боль в животе, ковыляю в ванную. На Долгова стараюсь не смотреть.
Оказывается, стыд еще жив. Стыд человека, у которого не осталось ничего сокровенного.
Словно в подтверждение этого Долгов заходит следом за мной в ванную. Застыв соляным столбом, поднимаю вопросительно бровь.
– Не кипишуй, смотреть не собираюсь, – «успокаивает» он и, как Елисеев, опустив крышку, садится на унитаз, приготовившись ждать.
– А что ты собираешься? – вспомнив то издевательство, моментально вспыхиваю от гнева.
– Ну, уж точно не выбивать дверь, если тебе придет в голову закрыться.
– Я не собираюсь ее закрывать. Выйди!
– А я не собираюсь проверять, – отрезает он и, давая понять, что диалог окончен, напоминает. – У тебя полторы минуты.
Меня снова начинает колотить, но уже от злости и бессилия. Хочется заорать во весь голос, но я настолько вымотана, что получается лишь с шумом втянуть воздух и, переступая через остатки гордости, тихо попросить:
– Пожалуйста, выйди. Я ничего не буду делать.
Долгов собирается, судя по выражению лица, в очередной раз послать меня, но я тут же добавляю:
– Если так сомневаешься, оставь дверь открытой. Но пожалуйста… выйди. Я тебя прошу.
Он медлит. Смотрит на меня пристально, отчего я невольно вся сжимаюсь в попытке прикрыть пятно. Наверное, выгляжу крайне жалко, потому что, поморщившись, он, не говоря ни слова, выходит. А я себя так и чувствую: жалкой, раздавленной, ничтожной.
Смахиваю подступившие слезы и обессиленно опускаюсь на бортик ванной. Руки дрожат, ноги не держат. Живот так противно скручивает в спазмах, что впору лечь и умереть.
Ну, вот за что мне все это? Разве то, что я позволила себе любить женатого мужчину соизмеримо с тем, что я проживаю сейчас?
Пока размышляю о законе бумеранга, аккуратно смываю следы Долговского бешенства. Между ног щипет так, что не могу сдержать слез.
Господи, неужели не зажило после выскабливания? Или это разрывы от грубого проникновения? А может, все – таки месячные? Крови – то не так уж много, да и по времени уже пора.
– Заканчивай, – врывается в мои переживания и надежды Долгов.
От неожиданности вздрагиваю, душевая лейка выпадает из моих ослабевших рук и падает с громким стуком. Меня с ног до головы обдает почти кипятком.
Я люблю греть ноги в горячей воде, но полностью моюсь исключительно в едва теплой, поэтому невольно взвизгиваю. Уж слишком горячо, особенно, для лица.
Естественно, Долгов тут как тут. Обжигает взглядом, а у меня внутри все обмирает. Стыдно становиться. До слез стыдно, стоит только вспомнить уничижительную фразу о том, что я за собой не следила.
Отворачиваюсь к стене и едва держусь, чтобы не разрыдаться от унижения.
Не знаю, почему меня беспокоит среди всего этого кошмара такая глупость. Смешно ведь: он берет меня силой, а я переживаю о том, что месяц не делала эпиляцию. Но, наверное, дают о себе знать втолкованные мамой истины.
Она бы сейчас наверняка выдала что- то из арсенала великих женщин типа "Чем хуже у девушки дела, тем лучше она должна выглядеть". Мама любила всякую пафосную ерунду и четко ей следовала. Она вообще была ходячим пособием, как быть женщиной, мимо которой не пройдет ни один мужчина.
Была… – словно молнией пронзает. При мысли, что Жанна Борисовна больше никогда не будет поучать меня со всезнающим видом, накатывает такая щемящая, отчаянная боль, что я понимаю, беспокоится об эпиляции не так уж глупо.
Пусть я еще не приняла и не осознала новость, которую сообщила Лиза, да и в груди теплится надежда, что это снова утка, как в тот раз – с аварией, однако я точно знаю, моя психика не выдержит очередной потери. Мне просто не за что будет зацепиться, чтобы удержаться на плаву и не утонуть в горе. Поэтому лихорадочно загоняю на задворки сознания эту, еще ничем не подтвержденную, новость и возвращаю себя в «здесь и сейчас».
Долгов, убедившись, что я не упала и ничего себе не повредила, снова оставил меня одну. Выдохнув с облегчением, выхожу из душа и перерываю шкаф в надежде, что домработница пополнила мои запасы гигиенических средств. Те, что были до роковых событий я выкинула, дабы маме не донесли, и она не догадалась, что я беременна.
К счастью, все на месте. Более того, мама, видимо, предусмотрела, что что-то может быть не так, как раньше и теперь среди стандартного набора: ежедневок, для стрингов и тампонов, была пачка прокладок с "кучей капель". Ее-то я и беру.
Может, все-таки попросить врача? – проскакивает мысль, как только надеваю чистые трусики, но тут же отмахиваюсь от нее.
В конце концов, зачем? Чтобы эти "всесильные" мудаки и дальше пытались за мой счет самоутвердиться и что-то доказать друг другу?
Нет. Не хочу больше. Да и Долгов вряд ли станет искать мне врача, будучи в бегах. Зачем я ему вообще нужна, не понятно. Какой-то очередной каприз зажравшегося придурка: будто я мяч, который каждый из них пытается забить в ворота другого. При этом никому из них я по сути не нужна. Я – просто игра: такая же бессмысленная, как футбол и одновременно такая же веселая и захватывающая.
Пока один – один. Долгов сравнял счет. Уверена, Елисеев моей пропажей будет крайне недоволен. Он ведь еще не получил то, что хотел. Уж не знаю, как мама и Можайский удерживали его от меня, но даже не сомневаюсь, он свое еще потребует. А я лучше умру, чем эта мразь коснется меня снова.
В общем, в жопу такую жизнь! – решаю для себя и, выпив обезболивающее, собираю в косметичку все, что может понадобиться, если я не откину кони. После накидываю халат и иду в гардеробную, где быстро переодеваюсь в спортивные штаны и футболку. Достав из ящика шкатулку с дорогими для меня вещами, выхожу к Долгову.
–Собралась? – резюмирует он, оглядев меня с ног до головы. Отвечать ему даже односложными предложениями у меня нет абсолютно никакого желания. Молча, кладу в сумку косметичку и шкатулку, а потом опомнившись, беру с комода наше с мамой и Глазастиком прошлогоднее фото, сделанное буквально за пару недель до переезда.
На фотографии мы, конечно же, как с картинки счастливой семьи, которой никогда не были, но сейчас я не вижу этой наигранности. Передо мной лишь красивая до умопомрачения мама и мы с Глазастиком с искрящимися улыбками на наших беззаботных лицах.
Господи, моя маленькая хохотушка… Неужели тебя больше нет?
Горло перехватывает спазм, а глаза жгут слезы.
– Ты правда их убил? – вырывается у меня всхлип, когда Долгов забирает из моих рук фотографию и подталкивает к выходу.
На мгновение он замирает, а у меня ярким заревом вспыхивает надежда, но в следующее мгновение его лицо принимает абсолютно непроницаемое, жесткое выражение.
– Пошли, – цедит он сквозь зубы и берет меня под локоть, но я, все поняв, тут же отшатываюсь.
– Не прикасайся, – шепчу, задрожав от слез. – Никогда больше не трогай меня этими грязными руками!
– Тогда прекрати истерику и спускайся вниз! – припечатывает он безжалостно. И мне ничего другого не остается, кроме, как глотать слезы и прощаться со всем, что когда-то называлось моей жизнью.
Во дворе нас ждет настоящая вакханалия: вся охрана дома перебита, залитые кровью бойцы валяются то тут, то там. Обслуживающий персонал согнан, как скот в кучу и охраняется несколькими быками с автоматами.
– Где моя тетя? – с ужасом оглядываю весь этот беспредел.
– Все нормально с твоей тетей. Посидит часок другой взаперти, потом ее выпустят, – отзывается Долгов абсолютно спокойно и подводит меня к одному из джипов.
– Я не поеду, пока не увижу ее, – останавливаюсь в паре шагов, не давая себя усадить.
– Ты не в том положении, чтобы ставить мне условия, – отрезает он и, обойдя меня, достает из машины бронежилет. – Надевай. Если я сказал, что с ней все в порядке, значит с ней все в порядке.
– Ты мне уже однажды сказал, что с моей мамой и сестрой ничего не случится! – срываюсь на крик и пытаюсь вырваться из его хватки, но он встряхивает меня, словно куклу и опускает мне на плечи порядка десяти килограмм армида, от которых я едва не оседаю на подъездную дорожку.
– Я сказал тебе то, что ты хотела услышать, – тут же подхватывает меня Долгов и ставит жирный крест на всех моих надеждах. – Есть обстоятельства, над которыми я не властен. Смерть твоей сестры и матери – одно из них.
– И это твое оправдание? – шокированная этой шарахнувший прямо в лоб правдой, шепчу, заходясь в слезах.
Долгов, ничего не говоря, усаживает меня в машину. Закрыв за нами дверь, отдает какие-то последние распоряжения по телефону и только, когда наш кортеж из трех или четырех машин выезжает со двора, произносит:
– Я не оправдываюсь, Настя. В вопросах выживания оправданий быть не должно. Ты либо добренький и мертвый, либо злой и живой. Я предпочитаю быть живым.
Что на это можно ответить?
Собственно, ничего. Спрашивать, неужели нельзя было убрать одного Можайского, тоже бессмысленно, поэтому просто отворачиваюсь к окну и плачу, глядя на пролетающие за окном улицы.
Понятно, что каждый выживает, как может, и не он, так его. И я не желаю Долгову смерти даже после всего, что между нами произошло. У меня нет мыслей в духе “лучше бы он, чем они”. Но, вспоминая Глазастика, еще совсем недавно примеряющую на себя роль тёти: то, как она радовалась вместе со мной, гладя по вечерам мой живот, мое сердце разрывается на части от бессильной злости.
Я знаю, что тот Гордиев узел, в который сплелись судьбы моих любимых людей невозможно было аккуратно распутать, только рубить. Но, боже, как же больно. Как же мне больно!
Закусив кулак, чтобы не завыть в голос, плачу навзрыд. Перед мысленным взором проносятся кадры из прошлого: как я увидела моего большеглазика впервые. Такую красную, слегка отекшую с белыми, как снег волосами. Она казалась мне тогда до безобразия страшненькой, но я все равно полюбила ее всем своим истосковавшимся по любви и ласке десятилетним сердечком. Ей я подарила все то, чем не могла поделиться с мамой. Со школы я летела к этому комочку радости и нянчилась с ней днями напролет. Когда первым ее словом стало "няня", моему счастью не было предела. Она была моей нежностью, радостью и любовью в нашем лишенном любви и тепла доме.
А уж, когда узнала о моей беременности и вовсе… В каком же восторге она была, что скоро у нас будет маленький, и можно будет катать его на коляске, кормить с бутылочки и переодевать. Она тогда постоянно фантазировала, представляя наше будущее и рассказывая про свое: что у нее, когда вырастет, обязательно будет большой дом в деревне и много – много детей, а еще непременно муж – кондитер, чтобы она могла есть сладкое в любое время. Такие по-детски смешные, милые мечты… Сейчас они по – живому режут, ибо не будет. Ничего уже у моего Глазастика не будет: ни дома большого, ни много-много детей, ни мужа-кондитера, ни банального "вырасту".
Не вырастет, так и останется в воспоминаниях маленькой девчушкой, и только в сердце большой, незаживающей раной.
С каждой минутой эта рана разрастается все сильнее и сильнее, стоит только представить, как мы могли бы жить втроем с мамой и Глазастиком в Греции, в уютном домике на берегу Средиземного моря. Наверное, это могла бы быть чудесная жизнь. Думать, о том, что Можайский вряд ли позволил бы ей стать реальностью, мне совсем не хочется. Сейчас я хочу мечтать. Говорят, это совсем не вредно. Жаль только, не уточнили, что это бывает свирепо больно, когда точно знаешь, что твоим мечтам не суждено сбыться.
В этом коконе боли я провожу неизвестно, сколько времени. Прислонившись к стеклу, смотрю невидящим взглядом вдаль и чувствую, как меня изнутри сжирает пустота и горечь. Слез больше нет. На меня накатывает какое-то тупое безразличие, и я просто смотрю в никуда.
Вымотанная переживаниями и стрессом, сама не замечаю, как засыпаю. Сквозь сон чувствую, как меня аккуратно укладывают, позволяя вытянуться на сидении. Так становиться намного удобнее. Скованное напряжением тело постепенно расслабляется, а уж когда заботливые руки начинают нежно гладить меня по волосам и лицу, я и вовсе едва не мурчу. Правда, моя нега длиться недолго.
Вскоре начинается какая-то суета: в мой сон то и дело врываются взволнованные голоса, забористый мат, машину мотает, будто по ухабам, руки, еще недавно поглаживающие меня, теперь напряженно держат. А в следующее мгновение я едва не подскакиваю от раздавшегося выстрела.
– Тихо, маленькая, тихо! – не позволяя мне поднять голову с его колен, успокаивающе поглаживает меня Долгов и тут же жестко бросает сидящим впереди мужикам. – Леха, люк открывай и пали прямо в голову. А ты, Витёк, юли хоть немного. Ты же, бл*дь, не трамвай.