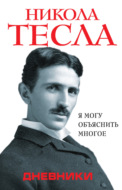Buch lesen: "Петр Лещенко. Исповедь от первого лица"
© ООО «Яуза-пресс», 2017
* * *

От редакции
Петр Константинович Лещенко… Один из самых известных русских певцов первой половины ХХ века. Неординарный человек с неординарной, трагической судьбой.
Федор Шаляпин называл Петра Лещенко «патефонным певцом», прозрачно намекая на то, что каждый патефон играет его песни. Не то в шутку называл, не то из зависти к популярности Лещенко, которая превосходила (да – превосходила!) популярность Шаляпина. Шаляпинских патефонных пластинок выпущено гораздо меньше, чем пластинок Лещенко.
Большую часть своей жизни Лещенко был на виду. О нем писали газеты, о нем ходило множество самых разнообразных слухов, его имя упоминали в мемуарах, вторая жена певца на закате своей жизни успела написать книгу о нем… Но все то были взгляды со стороны, различавшиеся лишь степенью близости рассказчика к великому артисту. Сейчас же у нас есть возможность ознакомиться с воспоминаниями самого Петра Лещенко, написанными им в 1950–1951 годах. Певец сильно переживал из-за того, что его считали белоэмигрантом или даже – фашистским пособником. Официально обвинение в каком-либо пособничестве фашистам против Лещенко не выдвигалось, но в быту – в разговорах со знакомыми или во время концертов советские граждане часто спрашивали его о том, почему он эмигрировал в 1918 году, почему не возвращается на родину, как мог он петь «для фашистов» и т. п. На самом же деле Лещенко никуда не эмигрировал. После тяжелой контузии, полученной на фронте в августе 1917 года, прапорщик Лещенко лежал в госпитале в Кишиневе, где он жил с матерью и отчимом до того, как записался вольноопределяющимся в действующую армию. В январе 1918 года Бессарабия была оккупирована румынской армией, а затем присоединена к Румынии. Так Лещенко, вместе со всеми остальными кишиневцами, стал румынским гражданином. После войны он не раз обращался в инстанции с просьбой о предоставлении ему советского гражданства, но эта просьба так и не была удовлетворена. Супругам не разрешали выехать в Советский Союз вместе. Лещенко, как иностранному гражданину, предлагали ходатайствовать о возвращении перед Министерством иностранных дел СССР, а его жене, как советской гражданке, оказавшейся за границей в ходе войны, следовало обращаться в Управление по делам репатриации. Различные сроки рассмотрения дел в разных инстанциях грозили любящим супругам долгой разлукой. Кроме того, высока была вероятность того, что Петру Лещенко могут отказать, а его жену отправят в Советский Союз. Супруги же непременно хотели ехать на родину вместе.
Что же касается «пения для фашистов», то лучше пускай об этом расскажет сам Лещенко.
Воспоминания Лещенко – это пронзительный рассказ о жизни мальчика из бедной семьи, который благодаря своему таланту и упорству поднялся к вершинам славы, стал богатым, но вот счастливым при всем том себя не ощущал никогда. Затаенная боль проскальзывает между строк даже в те моменты, когда Лещенко рассказывает о каком-то счастливом событии из своей жизни. Относительно (не полностью, а всего лишь относительно) счастливым певца можно назвать лишь в последние годы жизни, когда рядом с ним была очаровательная, любящая и преданная Вера Белоусова. Глубину связывавшего их чувства нетрудно представить не столько по тому, что Лещенко пишет о ней, сколько по тому, какие слова и выражения он при этом использует.
Они могли бы жить счастливо долгие годы, вырастить детей, нянчить внуков, но счастье оборвалось 26 марта 1951 года, когда Петр Лещенко в антракте между первым и вторым отделениями концерта в городе Орашул-Сталин (ныне – Брашов) был арестован сотрудниками Департамента государственной безопасности при Министерстве внутренних дел Социалистической Республики Румыния (МВД СРР). Все документы Лещенко, в том числе и неоконченная рукопись его воспоминаний, были изъяты. В июле 1952-го уже советскими органами госбезопасности по обвинению в измене Родине была арестована жена певца Вера Лещенко (в девичестве Белоусова). Вся вина Веры состояла в том, что она вышла замуж за подданного капиталистического государства, что квалифицировалось как измена Родине (ст. 58–1 «А» УК РСФСР). В августе 1952 года Вера Белоусова-Лещенко была приговорена к смертной казни, которую заменили 25 годами лишения свободы. В 1954 году она была освобождена со снятием судимости. Вера мечтала встретиться с мужем, но этой мечте не суждено было сбыться. Петр Константинович Лещенко умер в тюремной больнице румынского города Тыргу-Окна 16 июля 1954 года. Место его захоронения неизвестно.
Дело Петра Лещенко со всеми изъятыми у певца материалами хранилось в архиве МВД Румынии до 1989 года. В ходе Румынской революции 1989 года и неразберихи, вызванной сменой власти в стране, архив МВД СРР был частично разграблен. Среди исчезнувших дел оказалось и дело Лещенко. Тот факт, что до сих пор, несмотря на неоднократные просьбы поклонников Петра Лещенко и его жены, дело великого певца так и не стало достоянием общественности, объясняется отсутствием дела в архиве, а не какими-то иными причинами. До сих пор остается неизвестным, какие обвинения были предъявлены Петру Лещенко и состоялся ли суд над ним.
С 1963 года в румынских школах изучение русского языка из обязательного стало факультативным, но тем не менее в 1989 году многие румыны довольно свободно говорили и читали по-русски. Имя Лещенко привлекло внимание, поскольку старшее поколение румын помнило певца. Благодаря этому обстоятельству рукопись Лещенко сохранилась до наших дней. Каким-то образом (скорее всего, была куплена у тех, кто рылся в архивах) она попала в руки горячего поклонника творчества Петра Лещенко бухарестского искусствоведа Михая Попеску и стала частью его коллекции, посвященной знаменитому певцу. По неизвестным причинам Попеску не предпринимал никаких шагов для публикации воспоминаний Петра Лещенко. Видимо, для него, как и для многих других коллекционеров, важнее всего было владеть рукописью, а не делать ее достоянием общественности.
К счастью, племянник Попеску, унаследовавший коллекцию после смерти своего дяди, придерживается иных взглядов. «Нельзя скрывать такие документы от общества, – убежден он. – Тем более что сам Лещенко писал воспоминания не для себя, а для людей, стремился рассказать им правду о себе».
Наша редакция выражает признательность господину Теодору Мазилеску за предоставленную для публикации рукопись воспоминаний Петра Константиновича Лещенко. В будущем году исполняется сто двадцать лет со дня рождения великого певца. Вообще-то подарки принято дарить именинникам, но в этом случае сам именинник руками Теодора Мазилеску подарил своим поклонникам бесценный подарок – исповедь от первого лица.
Петр Лещенко пел:
«Эй, друг гитара.
Что звенишь несмело?
Еще не время плакать надо мной.
Пусть жизнь прошла,
Всё пролетело,
Осталась песня…»
Пусть жизнь прошла, зато осталась песня.
Вступление
Позавчера мне исполнилось пятьдесят два года. Празднуя свое пятидесятилетие, я почувствовал, что перешагнул через порог, за которым старость. Хожу и напеваю:
«В жизни всё неверно и капризно,
Дни бегут, никто их не вернёт.
Нынче праздник, завтра будет тризна,
Незаметно старость подойдет»1.
Бо́льшая часть жизни прожита. Что ждет меня впереди? Тяжело у меня на душе. Мучает неопределенность моего положения. Нашего положения. Что с нами будет? Гляжу на Верочку2, и сердце сжимается от боли. Думаю, угораздило же тебя связаться со мной. И сразу ужасаюсь таким мыслям. Что бы я без нее делал? Не могу представить свою жизнь без нее. Она – единственная моя отрада. Награда, которую даровал мне Бог. Пишу эти строки тайком от нее. Дам прочесть, когда закончу, пока пишу, никто, кроме меня, читать написанного не должен. Верочка станет первой читательницей моих воспоминаний. Впрочем, она и так знает всю мою жизнь. Я рассказал ей все о себе досконально в самом начале нашего знакомства. Не хотел, чтобы она видела во мне «того самого Лещенко». Хотел, чтобы она узнала и полюбила меня настоящего.
Теперь же я хочу, чтобы меня настоящего узнали все. Не хочу оставаться в памяти людской лицом с афиши. Не хочу, чтобы на моей родине считали меня тем, кем я на самом деле не являюсь. От советских граждан я не раз слышал в свой адрес «белоэмигрант». Были слова и похуже. «Вы пели для фашистов!» – бросил мне в лицо генерал Водопьянов3. Не сказал, а бросил, словно перчатку. Я ответил, что пел для русских. Фашисты на мои концерты не ходили. И фашистских песен я никогда не пел. Многие певцы, желая показать свою лояльность, начинали концерты какой-то фашистской песней. Многие, но не Петр Лещенко. Больно ранит меня и вопрос о том, почему я не хочу вернуться на Родину. Его мне задают всякий раз, когда я выступаю перед советскими солдатами. Не хочу… Да я бы птицей полетел, если бы мне разрешили! Я прошу, прошу, прошу, но разрешения все нет и нет. Во время концертов я не могу рассказывать, что и как. А написать об этом можно и должно, чтобы положить конец слухам и домыслам.
Будущее мое туманно. Всякое может случиться. Пока у меня есть возможность, я должен успеть рассказать правду о себе, начиная с того, как я стал «белоэмигрантом», и заканчивая нынешним днем. Если нам улыбнется счастье, то последняя строка будет написана уже не в Бухаресте, а где-нибудь в Советском Союзе. Очень на это надеюсь.
Шаляпин однажды сказал мне, что, несмотря ни на что, мечтает умереть на родине. У меня та же самая мечта. Но до этого я еще надеюсь пожить на родине и мечтаю объехать с гастролями весь Советский Союз. Всюду хочется побывать. Мечтаю, чтобы у нас с Верой были дети. Но мои мечты пока еще остаются мечтами. В моем положении о детях и думать нечего. А между тем мне уже пошел пятьдесят третий год.
Рассказ о себе я начну с августа 1917 года. Тогда в моей жизни произошло неприятное событие, случайным образом определившее ее дальнейший ход.
Контузия
В августе 1917 года меня контузило взрывом снаряда. Проклятый снаряд угодил прямо в наш окоп. Мне повезло, я относительно легко отделался. Семеро солдат моего взвода были убиты осколками, а меня задел только один. Задел, слегка оцарапал руку. Пустячное ранение, которое и ранением назвать язык не поворачивался. Взрывом меня подбросило кверху. Падая, я об что-то ударился головой, скорее всего – о ящик с патронами. Шишка была огромной, в полголовы.
«Повезло вам, прапорщик, – сказал мне врач в полевом госпитале. – Пару недель полежите, а затем вернетесь в полк». Я тоже думал, что мне повезло. А вот солдатиков моих было жалко. Привык я к ним за те четыре месяца, пока командовал взводом. Фронт быстро сближает людей.
Я считал дни, торопился вернуться в полк. Тогда армия раскололась надвое. Одни не желали воевать дальше, другие стояли на том, что воевать надо до победного конца. Я относился ко вторым. Молод был, глуп, ничего не понимал в жизни. Но, как и положено юнцу, считал себя взрослым и мудрым. Как же! Мне уже девятнадцать лет и прапорщик! Я на хорошем счету у начальства! За четыре месяца службы в 55-м пехотном Подольском полку я дважды удостаивался похвалы его командира, полковника Цепушелова. Это обстоятельство позволяло мне питать надежды на внеочередное производство в следующий чин. Меня заметили, как представится случай отличиться, я стану подпоручиком. Так я думал.
Тогда я считал, что связал свою жизнь с армией навсегда. Записываясь в вольноопределяющиеся, я составил план своего карьерного роста. Согласно этому мальчишескому плану, к окончанию войны я должен был дослужиться до капитана, а то и выше. Во время войны карьера офицера летит на крыльях, если, конечно, он храбр. А в мирное время карьера ползет ползком. Пока идет война, надо пользоваться случаем. Воевать было очень страшно, но я старался перебарывать страх и считался в полку храбрецом и отчаянной головой. То, что я хорошо ладил с солдатами, давало мне возможность не опасаться выстрелов в спину. В 1917 году такое случалось сплошь и рядом. Офицеры, не пользовавшиеся любовью у солдат, опасались их больше, нежели противника.
О певческой карьере я в то время не думал. В 1915 году у меня начал ломаться голос и мне сказали: «Петь пока нельзя, а что будет после – поглядим. Далеко не из каждого способного мальчика вырастает хороший певец». Прежде чем думать о пении, следовало дождаться, пока установится голос. А чем заниматься в это время? На что жить? Ремесла я никакого не имел, учиться мне было не на что. Война же подводила к мысли о военной карьере. Да и какой юноша хоть ненадолго не мечтал стать офицером? Так, тебе девятнадцать или двадцать лет, и ты никто. Ничего еще не сделал, ничего еще не добился. А офицер уже фигура уважаемая! Подобные мысли и привели меня в вольноопределяющиеся. Патриотические соображения тоже имели место. Я даже по глупости своей тогдашней радовался тому, что идет война и у меня есть возможность проявить себя.
Вышло все по пословице «бодливой корове бог рог не дает». Контузия погубила мою военную карьеру, а возможно, и уберегла меня от смерти на поле боя. Выше прапорщика мне так и не удалось подняться. После контузии с головой моей происходили ужасные вещи. Она начинала кружиться, стоило мне только встать на ноги. А виски днем и ночью будто сжимали щипцами. Я терпел, надеясь, что вот-вот это закончится. Прошло две недели, три, месяц… Из полевого госпиталя меня перевели в Кишинев. Врачи давали мне пить какие-то порошки, но больше надеялись не на них, а на время. «Время лечит, надо подождать», – то и дело слышал я. Состояние мое улучшалось, но происходило это очень медленно. Только к Рождеству я смог выходить на прогулки один, без сопровождающего. Радости моей не было предела, но тут на меня свалилась новая напасть. Я заболел дизентерией. В то время от этой болезни часто умирали. Все силы выходили из человека с кровавым поносом. Я тоже был на грани смерти. Но все же сумел выкарабкаться из могилы, в которой уже стоял обеими ногами. Произошло это благодаря ангелу, которого послал мне Бог в образе сестрички Катюши Соленковой. Она заботилась обо мне так, будто я был ее родным братом или мужем. При такой болезни, как дизентерия, очень многое зависит от ухода. Катюша меня выходила. Я влюбился в нее. В такого ангела невозможно было не влюбиться. Как только немного оклемался, сделал ей предложение. Сейчас смешно вспоминать об этом. Лежит на койке обтянутый кожей скелет и делает предложение. По-хорошему следовало бы дождаться выздоровления, но мне было невтерпеж. Оказалось, что у Катюши уже есть жених, который служит на флоте. Не знаю, был ли он на самом деле или же она придумала его, чтобы подсластить мне горькую пилюлю. После прихода румын госпиталь был закрыт. Катюша куда-то исчезла, и я ее с тех пор не видел. Но очень надеюсь когда-нибудь встретить ее. Всякий раз вспоминаю Катюшу, когда пою «Голубые глаза». Глаза у нее были цвета чистого неба.
Контузия загнала меня в госпиталь, а дизентерия удержала там до прихода румынской армии в Кишинев4. Вот так я стал «белоэмигрантом». На самом деле я никуда не эмигрировал, а оставался на одном и том же месте, в Кишиневе, в госпитале. Но Кишинев вдруг и совершенно для меня неожиданно стал Румынией, а я стал румынским подданным.
Кишинев, в который меня привезли в младенческом возрасте, я считал своей родиной. Здесь жила моя семья – мать, отчим и недавно родившаяся сестренка Валя. Уехать из Кишинева куда-то, бросив их, я не мог. Уезжать – так всем вместе. А куда уезжать? Кругом творилось черт знает что и никто из нас (меня, матери и отчима) не понимал, что происходит. Вдобавок у матери на руках была Валя. Куда поедешь в столь смутное время с ребенком на руках? И на какие средства куда-то ехать? Я не пытаюсь оправдаться. Я просто хочу объяснить, что в 1918 году наша семья не имела возможности уехать из Кишинева куда бы то ни было. Не и-ме-ла!
Никуда мы на самом деле не эмигрировали. Все решилось за нас и без нашего участия. Нашего мнения никто не спрашивал. Жили мы в России, но вдруг оказались в Румынии. Вот и вся наша «эмиграция».
Мои тогдашние политические взгляды походили на окрошку. Всего понемножку и хорошо перемешано. Монархистом я никогда не был, даже в то время, когда на троне сидел Николай Второй. Мне всегда казалась глупостью передача власти по праву рождения. Так можно передавать имущество, но не власть. А вдруг дурак в царской семье родится – что тогда? Он все равно станет царем? В божественную природу царской власти я никогда не верил. Мое убеждение таково – правителя должен выбирать народ. Февральскую революцию я встретил с большим воодушевлением. Нам, учащимся школы прапорщиков, не дозволялось участвовать в митингах, но мы все равно ходили на них с красными бантами на шинелях. Радовались тому, что царь отрекся и теперь все равны. О том, какая из политических партий права, а какая – нет, я тогда не задумывался. Знал только лишь то, что категорически не приемлю монархистов и анархистов. Анархистов я не понимал. Мне казалось (и сейчас кажется), что они сами не понимали, чего они хотят. Всем анархистам, которых я знал, хотелось только одного – пограбить вволю. Это мне не нравилось. Признаюсь честно, что глубоко в политику я не вникал. Голова шла кругом. Вдобавок я убежден, что каждый должен заниматься своим делом. Как хорошо сказал Крылов: «Беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги тачать пирожник, их дело не пойдет на лад»5. Я пою, поскольку умею петь, но вряд ли я смог бы выступать на митингах или заседать в парламенте. Пусть это делают другие, у которых хорошо получается.
Я не вникал в тонкости политики, а просто верил, как верили многие в то время, что после Февральской революции жизнь изменится в лучшую сторону. Октябрьская революция произошла, когда я валялся в госпитале. Сведений о ней до нас поначалу доходило мало, и были эти сведения отрывочными, искаженными. Снова что-то произошло в Петербурге, а что именно – непонятно. Лишь много позже я разобрался, что к чему. Но к тому времени из Румынии в Советский Союз уже нельзя было переехать только лишь по одному своему желанию. Впервые желание жить в Советском Союзе посетило меня в 20-е годы. Я понимаю, что неисполненное желание ничего не стоит. Но если желание было, то о нем следует написать. Такая огромная страна, как Советский Союз, – это же мечта для любого артиста. Можно ездить с гастролями по ней бесконечно. Какие просторы! Сколько зрителей! В отличие от Шаляпина, которого слушают даже те, кто русского языка не знает, мне нужна русская публика. Я хорошо себя чувствую только среди русских. Я так и пишу в каждом своем заявлении, передаваемом в советское посольство: «Хочу жить и петь на родине». Между словами «жить» и «петь» можно смело ставить знак равенства. Песня для меня все равно что жизнь. Я не представляю себе жизни без песни. Не знаю, что буду делать, если вдруг перестану петь. Наверное, сразу же умру от тоски. Сейчас даже смешно вспоминать о том, что когда-то я хотел быть военным.
Кишинев в 1918 году
Те годы были трудным, тяжелым временем. Никто в Кишиневе не ожидал от румынской армии ничего хорошего. Но в действительности все оказалось хуже ожидаемого. Как только румыны заняли Кишинев, генерал Броштяну объявил в городе осадное положение и наделил армию с жандармерией неограниченными полномочиями. Моя бедная мама ужасно волновалась за нас с отчимом, несмотря на то что ей нельзя было волноваться. Она кормила Валю, а от волнения пропадает молоко. За меня мама волновалась потому, что я был прапорщиком русской армии, врага армии румынской. Вспомнит какой-нибудь офицер или солдат о том, как его ранило на фронте, или брата своего убитого вспомнит и застрелит меня со злости. Отчим вынуждал ее волноваться тем, что был зубным техником. В глазах общества зубные техники выглядели обеспеченными людьми, у которых непременно припрятано золотишко. Вдруг кто-то позарится, начнет искать повод для того, чтобы придраться и устроить обыск. Нашего соседа, тихого старичка-ювелира, арестовали якобы за «агитацию», а на самом деле для того, чтобы иметь возможность его ограбить. Отношения между румынской армией и жителями Кишинева были крайне неприязненными. На фоне этой неприязни смешно звучали разглагольствования политиков и генералов о «сердечной братской любви» и прочих теплых чувствах между румынами и бессарабцами.
Дела отчима, и без того не очень хорошие, из-за всех происходивших событий пришли в упадок. Он зарабатывал какие-то гроши, которых едва хватало на пропитание и самые насущные нужды. Доходы падали, а цены все росли и росли. Выйдя из госпиталя, я сразу же принялся за поиски работы. Голос у меня к тому времени уже установился и окреп, но одного умения петь было мало. Для того чтобы найти место, певцу нужны кое-какие связи и репутация. У меня же ни того, ни другого не имелось. Кем я был тогда? Меня спрашивали: «Где вы пели?» Я отвечал: «В архиерейском хоре, давно, еще до войны». – «Что вы делали после?» – «После я был на фронте, а затем лежал в госпитале». Люди морщились и не всегда снисходили до того, чтобы послушать мое пение. А если и снисходили, то говорили: «Допустим, голос у вас есть, но кроме голоса нужно же еще и вид иметь». Для того чтобы выступать в приличных местах, нужно было иметь соответствующую экипировку, а у меня из всей одежды были только поношенный костюм и такое же поношенное пальто. Одежду мне на последние деньги купила мама, когда я вернулся домой из госпиталя. Ей не хотелось, чтобы я ходил по городу в русской военной форме, пускай и без погон. Мама продала старьевщику мою военную форму, которая за время, проведенное в госпиталях, сильно истрепалась, добавила то, что было отложено на черный день, и одела меня. Отчим был сильно этим недоволен. Между нами никогда не было особой приязни. Поначалу я его сторонился, а он старался меня не замечать. Я не мог забыть, как когда-то, еще до войны, он выгонял меня из дому. Мать мою эта неприязнь между мною и отчимом сильно огорчала. Ради мамы я пошел на уступки. Я видел, как она радуется тому, что у нее теперь есть муж, и не хотел разбивать ее счастье. Долгожданное, выстраданное счастье. Вряд ли стоит объяснять, как в обществе смотрят на одинокую женщину, имеющую ребенка неизвестно от кого. Особенно в таком полном предрассудков и чванства обществе, как в дореволюционном Кишиневе. У отчима, видимо, имелись схожие побуждения – ладить со мной ради спокойствия в доме. Так между нами установился тот худой мир, который, как известно, лучше доброй ссоры. Но я всегда знал, что ни на какую поддержку или помощь с его стороны мне надеяться не стоит. Он чужой мне человек. Мы друг другу чужие. До прошлого года я старался не афишировать это обстоятельство, но теперь уже не считаю нужным скрывать. Все могу простить людям, но только не подлость. Раскаявшегося вора или даже убийцу можно простить, но подлеца – никогда. В свой черед я расскажу о подлом поступке моего отчима, который имел место в годовщину маминой смерти. Сейчас же скажу, что до тех пор, пока ко мне не пришли слава и деньги, отчим меня терпел, мирился с моим существованием. «Что поделать, если уж угораздило жениться на бабе с ребенком», это его собственные слова, которые я хорошо помню, поскольку они повторялись не раз и не два. Он же сейчас утверждает, будто никогда ничего подобного не говорил. Когда же нелюбимый и кое-как терпимый пасынок вдруг стал знаменит, отношение изменилось. Отчим начал мною гордиться. Мне это казалось странным, поскольку, на мой взгляд, гордиться можно только тем, к чему ты причастен. Как можно гордиться тем, ради чего ты и палец о палец не ударил? Но я не возражал. Напротив, я радовался тому, что наши отношения потеплели, и видел, как радуется этому мама. Отчим охотно давал интервью журналистам, тем более что ему за это хорошо платили. Очень скоро в этих интервью слово «отчим» заменилось на слово «отец». Признаться, я был крайне удивлен, когда прочел в газете, что мой отец учил меня музыке и пению, купил мне гитару и всячески пестовал мой талант. Я спросил у отчима, он ли рассказал эту чушь или ее выдумали журналисты. Он со смехом ответил, что журналист так просил рассказать что-то «умилительное», так умолял, что мой «добрый» отчим пошел ему навстречу и рассказал то, чего на самом деле не было. Я не стал опровергать его рассказ. У меня и мысли такой не было. Выступить с опровержением означало трясти на людях грязным бельем, что совершенно не в моих привычках. Да и выглядело бы это не лучшим образом. В глазах общества я выглядел бы неблагодарным человеком. Верят в подобных случаях чаще отцам, нежели детям. Но всякий раз, когда при мне поминают «гитару, купленную отцом» или что-то подобное, я испытываю неприятное чувство. Ложь вообще действует на меня не только психически, но и физически. Сталкиваясь с ложью, я испытываю гадливость, как будто наступил в грязное.
Формально мой отчим был прав. Взрослый двадцатилетний парень должен обеспечивать себя самостоятельно. Не в оправдание себе, а всего лишь правды ради напомню, что в тот момент я только что вышел из госпиталя, где провел полгода. У меня были особые обстоятельства. Из первых же своих заработков я покрыл матери то, что она истратила на меня.
Обежав несколько раз весь Кишинев, я нашел кое-кого из знакомых довоенной поры. Сережа Кочергин, с которым мы вместе пели в хоре, пристроил меня петь в только что открывшееся кабаре «Черная роза» и одолжил мне по старой дружбе немного денег для того, чтобы я смог одеться для сцены. Условия в «Розе» были кабальными, много хуже, чем в других местах. Владелец, некто Павловский, выкрест из Бердичева, объяснял плохие условия тем, что сильно издержался, открывая дело, и теперь вынужден экономить на всем, в том числе и на плате актерам. «Павловский – плут, каких мало, – сказал мне Сережа. – Но он ставит дело на широкую ногу и умеет завлечь публику. Это хороший шанс для тебя». Я был согласен. Надо же где-то начать, чтобы заявить о себе, показать себя публике. Я понимал, что начинающему артисту, человеку без имени, нечего рассчитывать на хорошие условия. Что заплатят, то и хорошо, лишь бы только иметь регулярный заработок.
Сережа не ошибся. Павловский начал хорошо. Несмотря на то что подобных кабаре в Кишиневе в то время было предостаточно, публика к нему ходила. В первую очередь из-за того, что Павловский понимал, зачем люди ходят в кабаре, и предоставлял публике все виды развлечений, начиная с девушек и заканчивая кокаином. Он вообще был и плут, и хват, и черту брат. Не упускал никакой возможности заработать. Из-за этой своей неразборчивости Павловский и пострадал. Мало ему было кабаре, так он ввязался в какую-то авантюру с поддельными бразильскими бриллиантами, из-за чего был вынужден спешно бежать из Кишинева. «Роза» закрылась, не просуществовав и двух месяцев. Артисты и служащие остались на бобах. Павловский никому не заплатил полностью за первый месяц. Отнекивался, придумывал отговорки, давал какую-то мелочь, чтобы отделаться. Можно считать, что я прослужил у него два месяца даром. Даже зарекомендовать себя как певца и танцора не успел.
Отчаяние мое было велико. Известности в «Розе» я приобрести не сумел и ничего там не заработал. А ведь на мне висело уже два долга, а не один. Я был должен матери и доброму Сереже. Чертов Павловский! Я так мечтал однажды встретить его и хорошенько проучить по-цыгански. Цыгане таких мошенников учат кнутом и правильно делают. Пощечина для бессовестного человека что комариный укус, а вот кнут – это хорошая наука. Но не встретил я его и уже, наверное, не встречу никогда.
Отчим смотрел на меня волком, мама днем вздыхала, а по ночам плакала, а сам я был согласен на любую работу. Да – на любую, хоть грузчиком, правда, грузчик из меня получился бы никудышный, поскольку статью я не вышел. Ловкости у меня всегда было больше, чем силы. В мальчишеские годы я любил подраться и часто выходил победителем, но побеждал за счет ловкости.
Состояние мое в то время было ужасным. Годом раньше я был русским офицером, командовал взводом, чувствовал себя если не важной птицей, но хотя бы, значимым человеком. А теперь я никто. Жалкий, несуразный, неприкаянный, никому не нужный. Жалеть себя – недостойное и невыгодное занятие, но в то время я предавался ему очень часто. Было такое впечатление, будто мир рушится. Я совершенно пал духом, считал себя неудачником. На фронте вместо чинов и наград «выслужил» контузию. В Кишиневе творится черт знает что. Работы нет. Отчим постоянно попрекает. Мать жалко.
По соседству с нашим домом находилась столярная мастерская Остапа Дроботенко. У меня и в мыслях не было искать там работы, потому что столярного ремесла я не знал совершенно. Но однажды Остап сказал моей матери: «Сынок ваш без дела слоняется, а мне помощник нужен». Так я стал столярничать. Освоился быстро и даже полюбил это занятие за приятный запах дерева, которым была пропитана мастерская. В отличие от Павловского, Остап платил честно и своевременно. В придачу к жалованью я получал чаевые, когда выполнял работу у кого-то на дому. Помню, как однажды в Константинополе я поразил гостиничную прислугу тем, что собственноручно починил подломившуюся ножку кресла. Столяр-турок, придя в мой номер, разложил на полу свой инструмент и ушел. Я удивился, но портье объяснил мне, что наступило время молитвы. Наступило так наступило. Со скуки я взял в руки молоток и сам не заметил, как все починил. Много лет прошло после работы у Остапа, но мои руки не забыли ремесла. Вернувшийся с молитвы столяр уважительно покачал головой, глядя на мою работу, а затем озабоченно спросил, заплачу ли я ему за труды. Платить, по существу, было не за что, ведь он только инструмент успел разложить, но я заплатил не только что было положено, но и добавил сверх того. Вспомнил, как мне тоже, бывало, за какой-нибудь пустяк, который и работой назвать было нельзя, давали щедрые чаевые. Остап на это говорил: «Лучше сделать на копейку и получить рубль, чем сделать на рубль и ничего не получить».
От хождения по домам с тяжелым ящиком мне вышла нежданная польза. Во время работы я имел привычку тихонечко что-нибудь напевать. Один из клиентов, у которого я чинил обеденный стол, заинтересовался моим пением. Мы разговорились. Клиент, которого звали Иваном Антоновичем, оказался регентом из храма вмч6. Феодора Тирона, который по фамилии семьи ктиторов7 Чуфля в народе звали Чуфлинским8. В храме этом мне бывать приходилось, но с Иваном Антоновичем я раньше знаком не был.