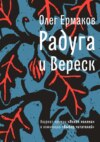Buch lesen: «С той стороны дерева»
Лиде и Валере Меньшиковым, Нине
«…и показал, как читать буквы, находящиеся внутри».
Мирча Элиаде. Шаманизм. Архаические техники экстаза
Часть первая
Глава первая
Ехали мы на поезде вдвоем с Валеркой. Эта поездка давно была запланирована. С девятого класса. Ну да, старая история побегов в Индию-Америку. Только мы собирались рвануть в Сибирь, на Байкал. Книг, журналов, фотоальбомов о Байкале было перечитано-пересмотрено изрядно. Заодно и отчетов путешественников-первопроходцев пространств от Урала до Тихого океана. Вообще-то направление на Байкал выбрал я. Валерке все равно было куда, лишь бы подальше от опостылевшей школы, семейных дрязг. А я с младых ногтей думал о Байкале. Иногда мне кажется, что и родился с этой идеей – поехать на Байкал. Почему-то одни уголки мира нас влекут, а другие – нет. Например, я был и остаюсь равнодушен к югу, Крыму; южная пышность утомляет даже на фотографиях. Но всегда питал симпатии к северу. Особенно к Гренландии. «Гренландская жизнь прекрасна тем, что здесь совсем не думают о жизни ради достижения какой-нибудь цели. Все идет само собой. Приятно не нести с собой флага, не тащить глупого плаката со странным лозунгом, чувствовать, как хорошо остановиться по дороге в никуда и оглянуться назад», – писал мой любимый Рокуэлл Кент. И звучало это как манифест. Именно этого я и хотел: оказаться на дороге в никуда. И меня привлекал этот уголок амбара с айсбергами, слепящими тундрами, по которым беспечного ездока влекут дружно лохматые мощные псы. Да, мир велик, как амбар.
В девятом классе мы уже пытались пуститься в путь по этому амбару, сразу в дальний угол – на Байкал. Наметили встречу на трамвайной остановке. Сперва думали поехать шабашить к дальнему родственнику Валерки, заработать денег и двинуться дальше, в Сибирь.
Валерка уже был на месте. Я припоздал. Медленно шел. С рюкзаком, лыжами. Сначала, выйдя из подъезда, – быстро, потом – потом шаг замедлился сам собою… Путаться стали размышления. Э-э, да, вот уедем из Смоленска, а что там? Кому нужны два недоросля? Что мы умеем? И что предпримут родители? Мои были в разводе, Валеркины нет. Но отец, разумеется, сразу подключится. Хотя сам он в семнадцать лет уехал из деревни в Карелию на лесозаготовки. Ну, так в семнадцать же лет. И времена были другие, потом все равно пришлось доучиваться. А ты, если учиться толком не будешь, поучал меня, бывало, отец, дворником и станешь: налево пыль, направо… И я шел с рюкзаком и лыжами и думал, а вдруг отец прав? Тогда БГ еще пел по флэтам, и песню «Великий Дворник» еще не сочинил. А не зная этой песни, на что надеяться рядовому дворнику?
В общем, к остановке я пришел морально разложившимся. Валерка это понял сразу. Зло как-то глянул. И напряженно спросил, чего это я опаздываю?
«Да-а-а…» – неопределенно протянул я…
Минут десять мы препирались. И Валерка плюнул и уехал все-таки один, к тому родственнику, шабашившему в удаленной точке области, провел у него все каникулы, захватил еще неделю начала третей четверти и – вернулся.
Значит, я был мудрее.
Но всякая мудрость оставила меня, когда был получен аттестат так называемой зрелости. И напрасно родные убеждали, что я глупец, еду за тридевять земель вместо того, чтобы учиться дальше. Глупец рванул, как застоявшийся жеребец, оставив далеко позади мудреца… И у меня есть подозрение, что последний так и не нагнал первого.
С Валеркой мы наскребли денег, продали заезжим полякам у магазина «Спартак» одноместную надувную лодку десантника, которую можно было скрутить до размеров дамской сумочки (лодка досталась Валерке от одноклассника, чей отец служил в ВВС), и палатку – уже не полякам, а нашим рыбакам.
И поехали.
Смоленск-Москва-Урал-Иртыш-в-купе-темнеет-дождь-светлеет-утро-день-ночь-чай-печенье-попутчики-скалы-равнины-снова-огромная-река-Новосибирск-попутчики-меняются-ближе-к-Красноярску-начинаются-горы-на-горизонте-горы-горы-Саяны-еще-ночь-на-полу-речного-вокзала-за-три-рубля-утренняя-«Ракета»-по-Ангаре-порт-«Байкал»-и-сам-он-есть: Байкал.
Полмира ужалось в одно предложение амбарной книги. Просто нам не терпелось поскорее туда попасть. Не знаю зачем. Этот амбар громаден даже для птиц, а что уж говорить о каких-нибудь мелких грызунах вроде нас с Валеркой. Но таковы скорости этой цивилизации: три с половиной дня – четыре тысячи верст – и грызун сидит среди серых и матовых, палевых валунов, под выбеленным куском дерева, на гладкой, согретой солнцем гальке, которую потряхивает ознобная волна, с колоском в лапах. И кажется, что это волна самого космоса, древнего и прозрачного. И смысл его совершенно ясен, буквально зрим, как эти камни под водой. Но ни зубами, ни лапами не вытащишь, как не швырнешь на блюдо косые скулы океана. Это можно лишь видеть.
Глава вторая
В заповеднике, куда мы приплыли штормовой, пронизывающей ночью без звезд, приплыли на шлюпке с двумя или тремя пассажирами, оказавшимися местными жителями, нас не хотели принимать. Здорово под хмельком патлатый лесничий, выслушав наш сбивчивый рассказ, спросил, есть ли у нас вызов. Вызов? Мы сами его бросали – судьбе, ветру, этой ночи, сквозь которую нас вез старый теплоход, точнее, он вез нас две ночи, и мы как цуцики дрожали на палубе, грелись у вентиляционных люков, потому что в каютах все места были заняты, да и денег у нас уже не было, последнее истратили в ресторане – на еду. Но, оказывается, тут были другие порядки. Брошенный вызов – это тряпка. Вызов должен быть получен. А раз не получен, о чем говорить? Этот лесничий в фуражке, из-под которой торчали патлы, был просто философ, хотя и не догадывался об этом. Да и кто догадывался? Мы? Посинелые задохлики, искатели приключений, у которых животы подвело? Сейчас бы я сказал ему, что вызов был получен еще в детстве, а может, в утробе матери. Иначе как объяснить наше прибытие сюда без копейки денег?
Берег, черные волны, смутная полоса песка и громоздящаяся позади лесничего заповедная ночь. И он оборачивается и бросает своему подручному с огромным фонарем и в брезентовом анораке: «Шлюпка, однако, вернется, и…» Он отправлял нас к матери. И почти тридцать лет спустя – то же самое. А что могло измениться?
Отдав приказ, он удалился. На ветру не мед стоять. Да и, наверное, его собутыльники еще поджидали. Мы молча, с досадой и печалью глядели ему вослед, потом оборачиваемся к огням теплохода, остановившегося довольно далеко от берега этой обширной бухты. Что дальше? Куда? Плечистый лесник мигает фонарем матросам, требуя шлюпку. Интересно, что нам скажут на теплоходе? Билеты были куплены только до заповедника. А дальше кто будет платить? Лесник мигает. Волны гремят. Мы видим, как приставшую к теплоходу шлюпку в свете прожектора поднимают на борт. Даже слышим звяканье цепей сквозь вой ветра. «Хрен они вернутся!» Мы ничему не верим. Ни на что не надеемся. Тупо стоим, смотрим.
И теплоход тронулся, загудел на прощание. Лесник засмеялся, повернулся к ветру спиной, сунул фонарь под мышку, нагнул голову, прикурил, глянул на нас из-под козырька лесниковской фуражки. «Ладно, пошли. Он через два дня вернется». Мы сначала не сообразили, о ком, о чем речь. Потом догадались: о теплоходе.
Мы всходили на заповедный берег, шли за нашим провожатым, уже не радуясь и не печалясь, – нам было на все наплевать, забраться бы в спальники. Впереди темнели силуэты домов, деревьев. «Мы бы в тайге перекантовались», – сказал Валерка. Лесник усмехнулся: «Пошли. Здесь заповедник».
Он привел нас к себе. Но это был, как выяснилось позже, не его личный дом, а что-то вроде общежития с тремя отдельными входами. Треть дома и занимал этот парень. Звали его Димкой. «Печь я затапливать не буду, – сказал он, зажигая керосиновую лампу. – А электростанцию у нас на ночь отключают. Так что, ребята, чай утром». Мы легли в пустой комнатке, где, кроме трех железных коек с сетками, ничего не было. Какой, к черту, чай. Здесь не гулял байкальский ветер, сарма, култук или как там его – ветров на этом море посреди горных хребтов, заросших сосновыми борами, пихтами, кедрами, как в мешке Нептуна. И полы не качались. И не гудели осточертевшие вентиляторы. Нет, мы сыты были морской жизнью. Мы – я, почитатель «Моби Дика» и… и…
Открыв глаза, я обнаружил, что лежу на железной койке в пустой комнате с грязными, оборванными обоями и потолком из желтоватых некрашеных сосновых ровных и плотно подогнанных досок. Высокий прямоугольник окна сиял небом, солнцем и зеленью кедра, росшего прямо напротив окна. Валерка в спальном мешке казался морским котиком, уловленным железной сетью судьбы. Я растянулся во весь рост в своем спальнике, радуясь, что мы их не продали, мешки, лучше голодать, чем мерзнуть. Хотя чем ты голоднее, тем труднее сохранять тепло. Голод и холод близнецы. Но сейчас я чувствовал только голод. Очень сильный. И уже прикидывал, не продать ли «Альпинист-305», мой верный транзистор, чуть, правда, оплавившийся от костра еще на откосах Днепра. Да, увы, первыми мыслями на заповедном берегу были коммерческие прикидки.
Я выбрался из спальника, натянул штаны, рубашку, надел индийские туфли, единственную мою обувь, точнее, не мою, а старшего брата: он служил в армии, мои шузы развалились, ну и пришлось позаимствовать его еще новые, не босиком же ехать или в резиновых сапогах – через полмира?
И вот: НОВАЯ ЖИЗНЬ, НОВЫЙ МИР, НОВЫЙ ВОЗДУХ.
На крыльце, щурясь от солнца, я огляделся. Забор, пустой двор. Кедр. Соседний бревенчатый дом (это был магазин). Налево – над крышами – лесистые горы. Направо – слепящая синь моря. И сильный аромат, незабываемый аромат баргузинской тайги: хвоя, смола, прель мхов, дурман болотного багульника. Завяжите мне веки, и я найду этот дальний угол амбара по одному только запаху.
Байкал был спокоен. Далеко за его синью лежали акварельные горы, западные, Байкальский хребет, где-то в его теснинах начинается Лена.
Завернув в дощатый скворечник, я возвращался к дому и увидел входящую во двор девушку. Она была в брюках, рябой кофте, волосы рассыпаны по плечам, чернейшие волосы. Смуглое овальное лицо, темные глаза с припухлыми монголоидными веками. Я пожалел, что поленился сразу умыться. Надо было сбегать на Байкал. «Доброе утро», – неуверенно проговорил я. Она слегка улыбнулась и ответила, что уже скоро полдень. Так я и знал. Слишком много солнца. Она несла авоську с чем-то, наверное, из магазина. Я посторонился, пропуская ее к крыльцу; девушка скрылась за дверью, значит, она здесь живет, понял я и пошел к Байкалу, пересек обширную поляну с мелкой травой, спустился к воде, начал умываться; вода была холодной; но я уже взбодрился и, скинув одежду на песок, вошел в воду, бросился вперед и поплыл.
Когда я вернулся, Валерка, заспанный и помятый, с всклокоченной шевелюрой, сидел на кухне и что-то вещал девушке. На плитке дребезжал старый чайник. Девушка смеялась. Валерку осенял дар красноречия в присутствии хорошеньких девушек. Он сыпал шутками, находил какие-то интересные темы. Я так не мог. Даже на теплоходе он познакомился с какими-то геологинями-студентками, они угощали его печеньем-конфетами, дали ему свои адреса, а он им – свой, мол, леснику такому-то, заповедник, как будто его уже приняли на работу. Ха-ха. Через два дня теплоход пойдет обратно. И нас отправят назад, как нашкодивших щенят, школяров, сбежавших с урока… Когда девушка на минуту отлучилась, я наклонился к Валерке и сказал по-дружески насчет его хари. Байкал рядом. «Да что я, морж!» – отмахнулся Валерка и ограничился плесканием у рукомойника. Расческу свою он где-то посеял, у меня ее вообще не было, и Валерка нагло попросил об одолжении у вернувшейся девушки, звали ее Женя. «Парик привести в порядок», – сказал Валерка. Женя улыбнулась и дала ему мелкую мужскую расческу. «О, нет, – запротестовал Валерка, – я обычно причесываюсь граблями». Женя засмеялась и дала ему свой розовый гребень. И Валерка с треском принялся расчесывать свои волосы пепельного цвета – перед поездкой он покрасился. Хотел в персиковый, но я его отговорил:, ну кто нас возьмет на работу? И он расчесывал свои патлы, напевая любимую песенку: «Приморили га-а-ды, приморили. За-а-губили молодость мою-у. За-а-латые ку-у-дри поседели. Знать, у края пропасти стою-ю». Нет, умел он быть непосредственным, легким, интересным. Я ему завидовал. Еще бы. Вызывать белозубый смех этой смуглой девушки.
Мы сели пить чай. Вместо хлеба – галеты; что-то случилось с пекарней или с пекарем, мы не поняли, и хлеба вчера не было. Зато было сливочное масло! Правда, подсоленное. Но и сахар – кусками.
Женя рассказывала, что поехала с подругами после школы в Усть-Илимск на стройку комсомольскую и там повстречала Димку, а он приехал из Грозного. В Усть-Илимске им не понравилось, они перебрались на БАМ, в Нижнеангарск, а оттуда уже – сюда. Здесь хорошее место, спокойно, есть клуб, с почтой привозят новые фильмы, в магазине – снабжение бамовское, директор постарался, навел мосты, всегда сгущенка, тушенка, хорошее вино «Кубань», осенью катер доставляет картошку, капусту, здесь-то ничего не растет, ну, если только в теплицах, но возни много; зато в тайге ягода, черемша.
Да, этот угол амбара узнаешь не только по аромату, но и по речи. Нам, только что пребывавшим совсем в другой речевой зоне, слушать эту девушку, как, впрочем, и остальных аборигенов, было чудно. Эта речь была отрывиста, тверда в основе, как испанский, только бесконечные «чё-о» ее умягчали. Пройдет немного времени, и мы сами будем чёкать и где ни попадя вставлять многозначительное «однако».
Но должен признаться, что сообщение о замужестве девушки с монголоидными глазами меня разочаровала. А Валерке все нипочем. Как и прежде, нарезает круги, веселится. Успевая трещать галетами с маслом и сахаром. Ну, я тоже ем, но пытаюсь сдерживаться. Хотя есть хочется все сильнее и сильнее.
И тут пришел ее муж, Димка, с упрямым лицом, широкоплечий, невысокий. Взглянул внимательно на Валерку. Я схватил на лету его вопрос молчаливый, а Валерка ничего не замечает, токует, выписывает пируэты. Рассказывает о наших походах, о Москве – как будто он москвич. Хорошо, если бывал в столице пару раз, участвовал в родительских набегах за колбасой-горошком-шпротами.
Димка послушал и в паузу – Валерка допивал чай – вставил вопрос: так что, вы туристы? Через два дня снова в Москву?
И тут мы вернулись на землю Подлеморья… Так называется этот край. И ведь не сработало клише? Вернуться на землю – значит, осознать суровую действительность, рухнуть из облака мечты на жесткие выступы реальности. Но «Подлеморье» тут же упраздняет жестокий смысл фразы. «Подлеморье» звучит слишком празднично, по-пушкински. Надо следить за словами. Но и они следят за тобой и впархивают, как птицы в открытую форточку.
И все-таки Валерка поперхнулся, закашлялся.
– Нет! Обратно мы не поедем.
Димка усмехнулся и объяснил, что тут заповедник и дикий туризм запрещен.
– А правда, вы чё-о? На работу сюда приехали? – спросила Женя.
– Да, лесниками, – признался я.
Димка покачал головой.
– Так вам восемнадцати нет.
– А тебе? – спросил Валерка.
– А мне есть, – ответил Димка.
– Месяц назад всем поселком отмечали, – добавила Женя.
Димка покосился на нее, в некотором смущении потер переносицу. И заговорил уже проще, по-свойски. Посоветовал отправляться сейчас же к директору, у него сегодня отличное настроение, и проситься в лесной отдел рабочими: вот-вот сенокос начнется, руки нужны.
– И, короче, лучше на всех парах, – сказал Димка, делая энергичный жест. – Пока он на месте. А то уедет куда, и власть у Аверьянова.
Мы поинтересовались, кто это. Оказалось, тот патлатый лесничий.
Мы встали.
На улице нам повстречался невысокий мужчина средних лет, с тонким загорелым лицом и большими выпуклыми карими птичьими глазами. Мы бы прошли мимо, но он нас сам остановил, спросил, у кого мы гостим? Мы ответили вразнобой. «Ни у кого», – ответил я. «У Димки», – сказал Валерка. На лице мужчины появилась улыбка.
– Ну а все-таки?
– Мы идем в контору, – дипломатично ответил я.
– По личному вопросу, – добавил Валерка.
– Не знаю, – сказал мужчина, – принимают ли сегодня по личным вопросам.
Валерка бросил взгляд на меня, мол, о, черт, и здесь бюрокарательство! Так обычно мы называли все эти крючки и задрючки госмашины.
– Но мы по вопросу трудоустройства, – сказал я растерянно.
– Трудоустройства? Ну, тогда другое дело, – ответил мужчина. – Говорите, я вас слушаю.
Мы уставились на него.
– А вы… – начал Валерка.
Мужчина кивнул. И мы объяснились.
– Ну а литовку-то в руках держать умеете? – вдруг спросил он.
– Винтовку?! – вскинулся Валерка.
Мужчина засмеялся.
– Ладно! – сказал он. – Идите в контору к Любе. Пусть оформляет. Поедете на кордон.
Это и был директор.
– Я не схватил, что он говорил про винтовку? – беспокоился Валерка.
Я пожал плечами. Мы шагали к конторе, большому бревенчатому дому на самом берегу, в окружении нескольких кедров, за которыми простиралась морская синева, сквозили невесомые мысы и далекие очертания горного массива, – полуострова Святой Нос, как мы позже узнали.
В конторе миловидная молодая женщина завела нам трудовые книжки на двух языках, русском и бурятском, вписала в них наши имена. Ажалай дэбтэр – так по-бурятски звучало название моей первой книжки.
Вечером на моторной лодке мы отплыли на Северный кордон.
Глава третья
Поселились на самом берегу, в мастерской; удобно – умываться можно в море, не таскать воду в рукомойник. В мастерской был верстак с тисками, наковальня, на полках всякий инструмент, по стенам хомуты развешаны; пол земляной; печка и широкие нары у окна, на которых запросто разместилось бы полвзвода.
На кордоне было два дома, третий строился; конюшня; хлев, баня, коптильня для рыбы. На берегу моторка и деревянная весельная черная тяжелая лодка – фирменная лодка Байкала, мы такие всюду видели.
Дома на верхней террасе занимали лесники: старший лесник Герман Васильевич с женой и сыном и два Толика, оба горожане, примерно одного возраста, лет двадцати трех, приехавшие сюда после армии; да и Герман Васильевич, коренастый продубелый мужик с крепкой головой в черных колечках волос, уже серебрящихся слегка, был горожанином, учителем физкультуры. Мы порадовались, узнав об этом: значит, и мы на верном пути. Один Толик приехал из Днепропетровска, другой – из Ижевска – их так и звали в поселке – Толик Ижевский и Толик Днепропетровский. Правда, тот, что из Днепропетровска, не прямиком из Днепропетровска прибыл сюда, а из Усть-Баргузина, большого рыбацкого поселка за Святым Носом, туда переселились его мать и брат. Днепропетровский Толик был невысокий, темноволосый, реактивный, а Ижевский высокий, светлокурчавый, синеглазый, странноватый, замедленный.
Другие обитатели кордона – лайки в вольере, корова с теленком, поросенок, кот, куры и рыбацкий пегий конь Умный, с широкой спиной и толстыми ногами.
Вдоль береговой кромки тянулись сильные узловатые красные лиственницы, выпрастывали корни, цепляясь за белый песок. И для меня не кедр, не рододендрон стали вестниками Байкала, а лиственница. Все объясняется очень просто. В Смоленске перед библиотекой, в которой я пасся, собирая сведения о сибирском море, росли две лиственницы с причудливыми кронами. И, проходя мимо, я улавливал смолистый аромат и думал – да, так и думал, что это вестники.
И теперь аллея лиственниц над морем была самым убедительным свидетельством сбывшихся мечтаний. Вот Байкал, тайга, горы, окраина мира. Живи.
И мы зажили, как могли.
Утром вставали, по песку доходили до воды, умывались, чистили зубы; если было тепло, так и окунались. Правда, в первый же ночной шторм мы пожалели, что вода близко: волны так грохотали, что полати под нами сотрясались. Лежать в кромешной тьме было как-то неприятно. Валерка не выдержал и зажег керосиновую лампу. Я потянулся к приемнику, сразу поймал китайцев, немного послушал это кошачье наречие, перевел поисковик дальше по шкале, наткнулся на музыку… какую-то тягомотную попсу; к сожалению, возможности приемника были ограничены двумя волнами: длинными и средними, – а так бы мы уже слушали «Голос Америки», рок-н-ролл, естественно; я гнал колесико по радиостанциям, провалился в какую-то симфонию, Валерка застонал, как от зубной боли. И я просто выключил приемник. И мы лежали и слушали, как в головах у нас грохочет-скрежещет Байкал. Валерка вдруг припомнил о Провале, я когда-то рассказывал. Да, факт: в новогоднюю ночь 1861 года под воду ушла обширная территория с улусами, пастбищами, людьми, естественно, и стадами, и это место с тех пор носит на Байкале наименование Провала.
Мы послушали биение моря.
– А если тут у нас в головах намечается второй провал? – спросил Валерка.
– Значит, надо идти спать в лодку, – сказал я.
– Засосет, как «Титаник».
Я вспомнил историю про Гильгамеша, точнее, про того старика бессмертного, к которому Гильгамеш добрался в поисках вечной жизни. Старик рассказал, как стена ему шепнула о готовящемся наводнении, и Гильгамеш построил корабль. Валерка сразу отреагировал:
– Ковчег? Так это церковные сказки.
– А по-моему, шумерские легенды.
Мы заспорили. Валерка ссылался на свою бабку. Никто из нас Библию и в глаза не видел. Этот аргумент был в мою пользу. Про Гильгамеша-то я читал.
– Ладно, а что там, тоже опустилась суша? – спросил Валерка.
Я этого точно не знал. Мы послушали бой волн о берег.
– Все-таки странно, – сказал Валерка, – здесь же не Средняя Азия. Никогда не думал, что в Сибири бывают землетрясения.
Но это было еще не землетрясение, и в конце концов нас сморил сон. Проснулись мы там же, на полатях, в Восточной Сибири, Северный кордон. Не провалились.
Питались мы довольно скромно: рожки с подсолнечным маслом, перцем и лавровым листом – любимое блюдо Толика Днепропетровского, он научил нас готовить; бесконечные чаи с галетами, хлебопекарни на кордоне не было, а жена Германа Васильевича, дородная светлая Ириада Максимовна, хлеб выпекала в печке только для себя. Да нам все равно было, хлеб ли, галеты. Галеты так галеты. Но позже мы разжились мукой, и Валерка пек блины. Блины у него получались тонкие, как будто вышитые нитками теста, узорчатые, мягкие. Наверное, у бабки выучился печь. Нет, оказалось, у отца.
На блины к нам приходили оба Толика. Как-то так получалось. Возникала вдруг такая надобность: найти в мастерской какую-то железку или что-то уточнить, обсудить какую-нибудь новость. Первым обычно заглядывал более быстрый Толик Днепропетровский, коротко стриженный, с узловатым носом, узким лбом. Нос-то его и вел в мастерскую, где Валерка в сизом чаду стоял со сковородкой над пылающей печкой. Потом подтягивался и Толик Ижевский, высокий, синеглазый, с широким лбом, уже покрытым морщинами: он много думал о чем-то. Более того, я однажды видел его с толстой тетрадью, исписанной мелким почерком; такие тетради назывались общими. Интересно, что за общие вопросы, темы поднимались в этой тетради? Меня это очень занимало.
Однажды блинный вечер затянулся; мы валялись на полатях и травили байки; ну, мы-то с Валеркой слушали, а рассказывали два Толика, точнее, один, Днепропетровский, а второй, погруженный в думы, курил и поддакивал. Это были местные былины о хозяевах, живущих в каждом доме, зимовьюшке, о странных смертях и пропажах.
– Вот видали обелиск у конторы? Это могила четверым студентам, двум парням и двум бабам…
– Ты же говорил, все студенты? – уточнил я.
– Ну да. Студенты. А чё-о, бабы не студенты?
– Не обращай внимания. У него литературные понятия, – объяснил Валерка. – И дальше?
– А дальше было странное. Они уже должны были возвращаться в Ленинград, практика закончилась. Решили отметить это дело, взяли лодку моторную, поплыли в устье Большой, речка тут неподалеку от кордона, наловили рыбы, разожгли костер, всё разложили, выпивку, закуску – и пропали. Бесследно. Все четверо.
– А лодка?
Лодка, рассказывал Толик Д., осталась вытащенной на берег наполовину, мотор в порядке, нигде никаких следов крови, борьбы. А людей нету. Сразу подумали: медведь. Но пошарили вокруг – нет следов. Искали в тайге, вертолетом облетали, так ходили. Нет. Утонули? Но водка не почата. И дно у берега баграми прощупывали, потом и водолаза вызывали… Тут Толик И. (Ижевский) заметил, что течением речки их могло слизнуть как языком и уволочь далеко. Но зачем, прикинь, им в воду лезть трезвыми? Вскинулся Толик Д. Заспорили. Так ни к чему и не пришли. Заварили еще чайку. Толик Д. вспомнил новую историю, про бригаду лесорубов, исчезнувшую таким же макаром. И заявил, что есть какой-то голос у Байкала, особенный.
– Ну, это ты про поющие пески? – спросил Толик И.
– Это просто звон песчинок! – отмахнулся Толик Д., размешивая сахар в алюминиевой кружке ножом. – Здесь другое что-то… Другие частоты.
Я об этом читал, что есть место на Байкале, где пески издают звуки. Оказалось, что эта бухточка не так и далеко – по местным меркам – отсюда: речка Томпуда, мыс Турали. Правда, ни тот, ни другой Толики не слышали сами, но знали от слышавших, что это похоже вроде на скрипку. Или на свист. Толик И. стоял за скрипку. Толик Д. – за свист.
Я подумал, что надо будет обязательно туда добраться и послушать.
А наш сказитель с узловатым носом – перебит, что ли, был, и поэтому голос его звучал несколько гнусаво – продолжал былины под блины с черным чаем; в доме плавал дым табачища, курили все, кроме него, недавно бросившего. Теперь он повествовал о хозяевах. Об их проделках с нерадивыми таежниками, студентами, туристами-чайниками. Хозяева были обидчивы, злопамятны, вспыльчивы, но к понимающему народу добры. Вот приходишь в зимовье, устал по самое не могу, даже жрать неохота, лишь бы завалиться на нары; и заваливаешься, забыв главное: поздороваться с хозяином и попросить у него позволения переночевать; так ночью сна и нет, изворочаешься, утром встанешь как побитый кочергой, волосы дыбом, морда пучеглазая, ходишь, спотыкаешься, все валится из рук, вода в котле только вскипит, снимаешь – опрокинул и т. д. и т. п. А причина проста: не уважил хозяина. После этого можешь и вообще заплужать, уйти считать сосны. Короче, всякая хреновина творится. Вот я раз так пришел на Литоминское зимовьё, рассказывал Толик Д., сведя брови к переносице и трагически глядя на язычок пламени в лампе. Мы тоже на лампу уставились. И мне в одно из мгновений почудилось, что рассказ плетет керосиновая лампа. И сколько еще предстояло выслушать при ее красноватых бликах здесь, на кордоне, в зимовьюшках, раскиданных по тайге и горам, в домах на центральной усадьбе…
– …сижу себе, ем рожки с подсолнечным маслом, сваренные, как люблю – чтоб стучали, и вдруг… выдыруг слышу кто-то в дверь… шкрыбется…
И в этом месте рассказа дверь – дверь нашей мастерской, а не зимовьюшки в далекой таежной ночи – дрогнула и заскрипела.
Рассказ приостановился. Язычок пламени как будто тоже замер, вытянувшись.
Наступило молчание.
Все головы были повернуты к двери, освещенной красновато, зловеще. В моей голове пронеслась мысль о голосе Байкала и вообще о зыбучих песках действительности, в которые легко провалиться или из которых так же легко может восстать что-либо подспудное, древнее. Судьба стучится в дверь и распахивает ее, как Бетховен. Человек тоже не мешкает. А вот кто так медленно-вкрадчиво тянет ржавые жилы? Кто тычется в образовавшуюся щель? Кто шумно дышит? И кто просовывает морду с черными провалами ноздрей? Длинную морду?!
Раздался душераздирающий гогот. Толик Д. вскочил, схватил сапог и запустил его в дверь.
– Гад!
Дверь тут же закрылась.
– Постой, – забормотал Толик И., вытирая слезы и еще давясь смехом, – не надо… он же уйдет в тайгу.
– Он и так ушел! Кто не закрыл конюшню?
Это был рыбацкий конь Умный. Почему рыбацкий? Его купили в рыболовецком колхозе, он там тягал лодки, сети, а здесь на нем возили еду, спальники, чайники, пилы, топоры во время полевых экспедиций и всё. Зимой его вообще не трогали, только поили-кормили. Так что после колхозной страды трудяга Умный вел жизнь сибарита. Но и это в одиночестве надоедает. Вот он и решил немного развеяться, заглянул на огонек.
Посыпались новые байки, язычок керосинки заплясал веселее, но лично я уже таращился на него из последних сил и слушал вполуха; было два или три часа ночи, и никакой хозяин не мог меня остановить: я стремительно падал, падал в провал, космически-черный и глубокий… Ну вот, язык не врет: есть провал у нас в головах, и мы там бродим, наталкиваемся на различные предметы, видим колонны и мосты, и – тень, шарахаемся и вдруг понимаем, что это наша собственная тень в неверном свете керосиновой лампы, зажатой в руке. Там можно встретиться с кем-то из настоящего, прошлого и будущего – приблизиться и посветить в лицо: это ты? а это – я?..