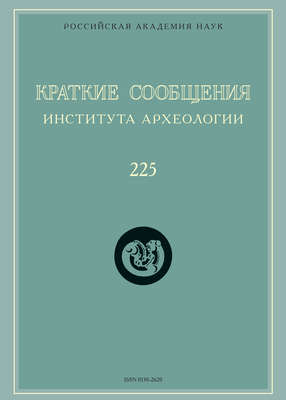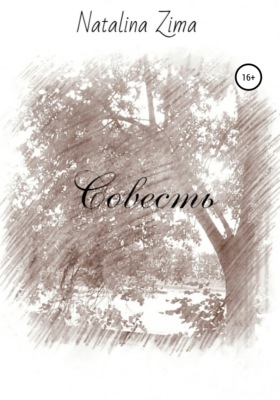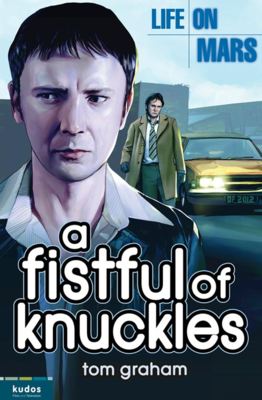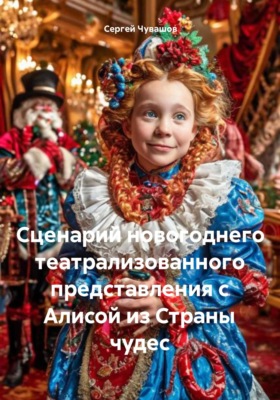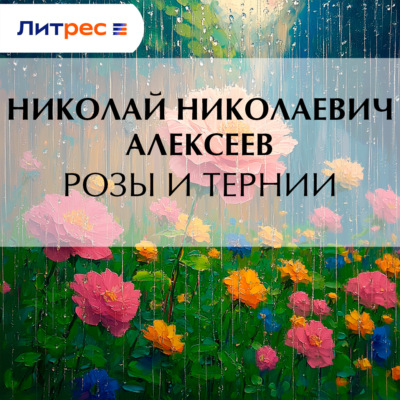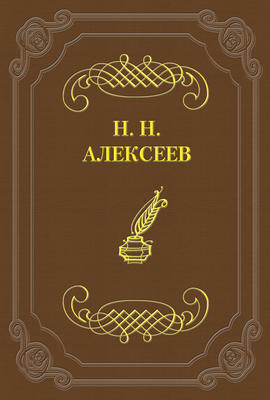Buch lesen: "Игра судьбы"
I
В знойный, ясный июльский день 1768 года, по Луговой улице (ныне Морская), что прилегала к Невскому проспекту в Санкт-Петербурге, часу в третьем дня, медленно двигалась огромная карета очень неказистого вида. Она вся вздрагивала, скрипела и звенела гайками при каждом толчке; казалось, вот-вот развалится допотопный экипаж; всюду виднелись какие-то веревочки и ремешки. Наверху ее были грудой навалены сундуки, ларцы и корзины самых разнообразных форм; позади, на особом плетеном сиденье, похожем на мешок из веревок, сидел парнишка лет пятнадцати и, разинув рот, поглядывал по сторонам.
Экипаж был запряжен тройкой мохнатых, мелких, разномастных и грязных кляч. Ими правил, чуть шевеля вожжами, здоровенный детина, одетый, несмотря на жару, в овчинный кожух и черный меховой треух.
Улица была полна движения. Чинно прогуливались молодые девушки в сопровождении медлительных папаш и мамаш, затянутые в рюмочку, в огромных шляпах, представлявших собой целые сады и вавилонские башни; переглядываясь с ними, бродили статские щеголи в цветных фраках, кафтанах, ярких камзолах, лосиных панталонах, ботфортах, шелковых чулках, в башмаках с серебряными пряжками и высокими каблуками. Сновали сердцееды-гвардейцы, алея красными отворотами мундиров; изредка мелькала скромная синяя шинель армейского пехотинца. Проносились кареты вельмож, запряженные цугом несколькими парами великолепных коней; скакали конногвардейцы и гусары, щеголяя друг перед другом и конями, и ловкостью посадки.
Из кареты выглянула голова старика, прикрытая несуразной шапкой.
– Эй, милый человек! – крикнул он глазевшему на диковинный экипаж человеку в мещанском кафтане. – Не знаешь ли, любезнейший, где здесь дом его превосходительства Андрея Григорьевича Свияжского?
– Свияжского? А вот этот самый и будет, – ответил мещанин, указывая на высившийся наискось двухэтажных дом, построенный в кричащем стиле того времени.
– Спасибо, любезный! Прошка! Слышь, правь туда! – крикнул старик, и его голова снова скрылась во тьму кареты. – Слава Богу, добрались, – промолвил он, обращаясь к сидевшему против него молодому человеку. – Ну вот, сейчас и с дяденькой свидишься, Александр Васильевич. Ты только не робей. Сперва поклон выправь как следует, а потом и письмецо подай. Лицом в грязь, чай, не ударишь: недаром тятенька французского немца три года для манер держали.
Юноша, видимо, волновался. По его лицу шли красные пятна, дрожащими пальцами он нервно расправлял складки одежды.
– Стой, Прошка! – крикнул старик, когда карета поровнялась с подъездом. – Ну, Господи благослови!
– Страшно, Михайлыч! – прошептал юноша.
– Ну чего же страшно? Не к чужим, к своим приехал. – Старик открыл дверцу, вышел сам и сказал: – Пожалуй, Александр Васильевич.
Молодой человек выпрыгнул из экипажа и на минуту остановился. Он был высокого роста, широкоплечий, со свежим, красивым лицом. Усы чуть намечались, голубые глаза смотрели застенчиво, в движениях чувствовалась юношеская неловкость. Его одежда оставляла желать многого. На голове красовалась старенькая шляпа с приподнятыми с трех сторон полями; кафтан и панталоны были из грубого сукна, на ногах были надеты белые толстые шерстяные чулки и тяжелые башмаки с медными пряжками.
– Иди же, Александр Васильевич, не бойся! – шепнул Михайлыч.
Юноша быстро вошел в двери подъезда, лениво распахнутые рослым, надменным гайдуком в пудреном парике и красном кафтане, обшитом серебряным позументом. Этот привратник с ног до головы окинул вошедшего насмешливо-презрительным взглядом и процедил:
– Вам что надо?
– Здесь живет его превосходительство Андрей Григорьевич Свияжский? – робко спросил Александр Васильевич.
– Здесь. А что?
– Племянник я его, так вот повидаться.
Выражение лица гайдука при слове «племянник» разом изменилось в почтительное.
– Прикажете доложить, ваша милость? – сладко проговорил он.
– Да, доложи. Скажи, что племянник его превосходительства, Александр Васильевич Кисельников, из-под Елизаветграда приехал.
– Слушаю! – И гайдук тотчас же крикнул дежурному казачку: – Беги скорей! Слышь, как их милость сказывали? Мигом доложи!
В ожидании казачка Александр Васильевич медленно прохаживался по вестибюлю и посматривал на свое изображение в большом, украшенном бронзой, зеркале.
«Боже мой! На кого я похож! – в смущении думал он, поскольку казался себе неуклюжим мужиком. Лицо грубое, заторелое, руки с огромными красными кистями, торчат, словно прилепленные не к месту. Тут же рядом мелькнуло в мозгу: – А Полинька говорила, что я красивый».
При воспоминании о Полиньке теплая волна обдала сердце юноши, и перед его мысленным взором пронеслись миловидное личико в волне золотистых волос, тонкая, стройная фигура.
Полинька была дочерью соседа его отца по имению.
– Как далеко она теперь отсюда, как далеко! – вздохнул юноша и вздрогнул.
– Пожалуйте, ваша милость! – послышался голос казачка. – Приказали просить.
С замирающим сердцем стал подниматься Кисельников по лестнице.
На площадке в бельэтаже его встретил ливрейный лакей, низко поклонился и, бесшумно распахнув перед ним двери, повел через ряд комнат к кабинету хозяина.
Александр Васильевич посматривал кругом и все более робел: картины, статуи, обои золоченой кожи, ковры, огромные зеркала, украшенная тонкой чеканки бронзой мебель розового и красного дерева – все невиданная им раньше роскошь. Ему казалось, что все это он видит во сне, и, следуя за лакеем, он краснел, пыхтел и потирал вспотевшие ладони.
Но вот лакей, раскрыв одну из дверей, провозгласил, отодвинувшись в сторону, чтобы дать дорогу гостю:
– Господин Александр Васильевич Кисельников.
Юноша шагнул через порог, весь похолодев, и… очутился перед «дядей».
II
«Дядин» кабинет представлял собой большую и довольно-таки унылую комнату. Угрюмые шкафы с книгами, темные занавески, кожаная обивка стульев с прямыми спинками. Ото всего веяло чем-то сухим, жестким. Чувствовалось, что среди этой обстановки не могла прозвучать остроумная, полная юмора и задора фраза, прокатиться сверкающим бисером молодой, беззаботный смех, раздасться песня. Здесь было место расчетливости, размеренности и… душевного холода.
В высоком резном кресле у письменного стола, на котором были аккуратно разложены какие-то толстые книги и пачки бумаг в синих обложках, вполоборота к вошедшему Кисельникову сидел сухой старик, бритый, в маленьком пудреном парике с туго подвитыми буклями, чистенький, гладенький. Синий бархатный кафтан сидел без морщинки, орденская звезда была лишь настолько выставлена из-под отворота, чтобы не очень бросаться в глаза, алансонские кружева на манжетах были белоснежно чисты и не измяты, косица парика лежала как раз между лопаток. На его лице морщинки улеглись аккуратной сетью, ни глубокие, ни мелкие, а самые приличные. На тонких губах играла улыбка; она никогда не покидала лица, словно старичок и родился с нею. Глубоко запавшие блекло-голубые глаза он чуть-чуть насмешливо щурил, но взгляд был открыт и добродушен.
Кроме старика, в кабинете сидел в кресле, задумчиво подперев голову, молодой офицер-гвардеец; в чертах его лица было некоторое сходство с Андреем Григорьевичем Свияжским, но что-то мягкое и грустное сквозило в них.
– Василий, – крикнул Андрей Григорьевич лакею, докладывавшему о Кисельникове, – кликни-ка ко мне казачка Сеньку! – Александра Васильевича он словно не заметил и за все время, пока лакей ходил за казачком, не повернул к нему головы, а, щелкая крышкой золотой табакерки, с наслаждением делал понюшку за понюшкой, приговаривая: – Ой, знатно! До слез прошибает.
Юноша неловко переминался у двери, не зная, что ему делать. Молодой офицер с участием смотрел на него. Наконец казачок явился.
– Я тебе велел сказать, чтобы они подождали с часок, а ты сразу позвал, – проговорил Свияжский, вперив тусклый взгляд в побледневшее лицо мальчика. – Разве так исполняют господские приказы?
– Да я… Ваше превосходительство… Да я, барин… – залепетал дрожащем голосом казачок.
– Врешь: ты – не ваше превосходительство, ты и не барин, хе-хе! Помни одно: самим Господом Богом указано быть на земле господам и рабам: первым и надлежит приказывать, вторым – точно и неуклонно исполнять господские приказы. Кто не исполняет этого, с того взыщется, а тем сильнее взыщется с господина, который потворствует нерадивости своего раба. Так-то! Поди, миленький, – добавил он, – скажи Кузьме, что я тебя прислал.
– Ваше превосходительство! Смилуйтесь!.. – завопил мальчик, кинувшись в ноги Андрею Григорьевичу. – Простите! Никогда больше не буду.
– Что ты, что ты, дурачок? Встань! – добродушно промолвил Свияжский. – Только перед Богом колена преклонять подобает. Встань, дурачок. А простить как же можно? Ведь ты проштрафился? Да? Ну, так если бы я простил тебя, то взял бы грех на душу. Ступай, ступай, миленький, к Кузьме, да скажи, чтобы хорошенько… Скажи, что барин из кабинета слушать будет. Ну, иди с Богом!
«Что это за Кузьма?» – недоумевал Кисельников, с удивлением прислушиваясь к этой беседе, а впоследствии узнал, что Кузьма исполнял у Свияжского роль, так сказать, палача: все экзекуции производил он.
Мальчик, плача, вышел.
– Что же ты стал там, любезнейший? – удостоил наконец старик заметить и Александра Васильевича. – Поди поближе, дай на тебя посмотреть, дружочек!
Кисельников, стуча каблуками тяжелых башмаков, неловко приблизился и поклонился. Свияжский, окидывая его внимательным взглядом, продолжал:
– Здравствуй, дорогой! Так из-под Елизаветграда? Так-так… Василия Васильевича сынок? Богатырь, красавчик, молодчина… А только почему тебе вздумалось племянником моим назваться, понять не могу: я такой же тебе дядя, как, хе-хе, и китайский император. Письмо, кажется, у тебя? Давай, давай, прочтем.
– Велели вашему превосходительству низко кланяться и передать письмо… Сказать, что они всегда… О вашем превосходительстве… Шлют низкий поклон… – бормотал весь красный, как вареный рак, Александр Васильевич.
Под его несвязные фразы старик не спеша достал очки, надел их, вскрыл пакет и, старательно расправив на столе листок, стал читать вполголоса:
«Милостивый государь, Ваше Превосходительство, предражайший друг, однокашник и любезнейший братец. – Тут Свияжский хмыкнул и пожал плечами. – Андрей Григорьевич! В добром ли Вы здравии, Ваше Превосходительство, обретаетесь и в полном ли благополучии, о чем я непрестанно молюсь? А я ничего себе, жив, здоров и счастлив, сколь можно быть при моем сиротском, вдовецком положении. Дочку Аннушку за судейского казначея выдал я, и живет она теперь в Москве, а сына моего, как сами Вы, Ваше Превосходительство, соизволите увидеть, вытянуло без малого в коломенскую версту. Входит мой Сашка в возраст, и нечего ему без дела шататься, потому что от безделья только всякая дурь да блажь в голову полезет…»
– Верно старик пишет! – одобрил Свияжский. – У тебя отец – парень с головой, – добавил он, обращаясь к Александру Васильевичу, а потом продолжал:
«Пора ему послужить государыне да отечеству, а как мы дворянского рода, а не подлого состояния, то приличествует ему всего более служба воинская, тем паче, что к сему званию мы его от малых лет в мыслях своих приготовляли, чего ради и был он на десятом году записан унтер-офицером в пехотный ингерманландский полк. Но многолюбяще отцовское сердце, и честь сыновью всякий отец, почитай, превыше своей собственной ценит; посему и надумал я кое-что, о сем же и Ваше Превосходительство своей предерзостной, но для отца извинительной просьбой утрудить беру великую смелость…»
В это время Андрей Григорьевич примолк и насторожился. Откуда-то издали, с другого конца дома, доносились жалобные детские вопли.
– Кузьма с Сенькой расправляется! Так, так! Жарь его, жарь его! – пробормотал старик Свияжский, и какое-то хищно-сладострастное выражение появилось на его лице.
Офицер, до сих пор молчавший и только куривший трубку за трубкой, порывисто вскочил с места и воскликнул:
– Хоть бы при мне ты, отец, воздержался! Ведь это – гадость, мерзость!
– При тебе? – ехидно посмеиваясь, сказал старик Свияжский. – Да кто ты такой, что при тебе я не могу делать, что хочу? Накажу я раба лукавого, свершаю долг свой и буду оный свершать, и никакие молокососы мне в сем помехой быть не смеют.
Сын прошелся по комнате и со вздохом сел на прежнее место. Между тем старик опять принялся за письмо:
«Будучи при последней ревизии в елизаветградской провинции, Ваше Превосходительство, сделавши мне честь остановиться в моем убогом домишке, вспоминая годы юности нашей и кадетские проказы, изволили выразиться так: „Ты, Василий, уверен будь, что, ежели я когда чем могу тебе помочь, всегда помогу, потому мы – однокашники, а я старых приятелей не забываю“. Сии милостивые слова Ваши и дают мне надежду на исполнение моей просьбишки. Больно мне очень, что такой парень, как Сашка, обученный не только мараковать по-французски, но даже и танцам, для чего три года французишку у себя в доме кормил, будет зря пропадать в армейщине. В гвардии он был бы на примете и, может быть, в люди бы вышел. В том и прошенье мое: сделайте милость однокашнику Вашего Превосходительства и по родству посодействуйте к определению моего сына Сашки в гвардейский полк, хотя бы рядовым…»
– Все в гвардию лезут! А кто же в армии будет служить? – проворчал старик, а затем продолжил чтение письма:
«А я за такое благодеяние Ваше буду Бога за Вас молить неустанно. А второе, прошу Вас, как приятеля и родственника, приглядите за Сашкой, приютите его, яко голубь птенца под крылом. Петербург – город столичный, долго ли молодому юноше запутаться; а под Вашим кровом и дозором ничему, кроме добродетелей, он не может научиться. А за сим, заранее принося благодарность ото всей глубины сердца и моля Бога, чтобы ниспослал Он Вам многие и радостные годы, имею честь быть Вашего Превосходительства однокашник, приятель, любящий брат и вернейший раб, отставной капитан и кавалер Василий Иванов сын Кисельников».
Свияжский медленно сложил письмо, бросил его в ящик письменного стола и, пожав плечами, сказал:
– Не могу не подивиться просьбе твоего отца. Он – человек почтенный, слов нет, но… Да ты сядь, устанешь, дружочек, стоять-то.
Александр Васильевич, до сих пор переминавшийся с ноги на ногу, неловко присел на край стула.
– Теперь слушай меня хорошенько, ангельчик, – продолжал старик. – Во-первых, запомни хорошенько, как я уже говорил, что я тебе такой же дядя, как и китайский император, хе-хе. Твоему отцу с чего-то вздумалось меня даже братцем называть. Диву подобно! И все это отчего? Да только от того, что троюродная сестра моей первой жены, покойница, всю кашу заварила. Да нет, ты примечай: даже не моя троюродная сестра, а моей первой жены, вышла за двоюродного дядю твоего отца. Да и дядя-то был с материнской стороны. Вот и все наше родство. Близкое – хе-хе! – а? Ну да ладно, будет. Все же мне твой отец хоть и не родственник, а действительно однокашник по шляхетскому корпусу1, вместе мы и науки зубрили, вместе и проказили. Я рад ему сделать все, что могу. А что я могу? Отец просит, чтобы я похлопотал о тебе насчет гвардии. Сколько у твоего отца крестьян?
– Душ пятьдесят, – ответил Кисельников.
Старик присвистнул и рассмеялся.
– Душ пятьдесят, хе-хе! И ты хочешь служить в гвардии? Было бы у тебя не полсотни, а две сотни, и того мало по гвардейским расходам. Так вот, что я могу сделать – это дать совет как приятель и однокашник Василия Ивановича: не лезь ты в гвардию, и думать о ней забудь, не с твоим карманом, братец! Спроси-ка ты меня, чего мне вот этот гвардеец стоит? – мотнул он головой в сторону сына. – Прорву деньжищ. Поступай-ка ты пехтурой в армию и служи матушке государыне верой-правдой. А так как тебе возвращаться в свой полк в Елизаветград далеконько, то можешь здесь в каком-нибудь пристроиться, и живой рукой в офицеры выйдешь. Потом просит твой отец, чтобы я за тобой присматривал. Ну скажи на милость, как же я сие сотворю? За тобой всюду ходить что ли? Так у меня для этого и времени нет, да и вообще… В самом деле, хе-хе, какая, подумаешь, нянька нашлась. Ведь не один, я думаю, ты приехал в Питер, есть с тобой кто-нибудь постарше?
– Дядька со мной.
– Ну и прекрасно! Эти старики – народ надежный. Он и присмотрит. А я тебе посоветую: не шляйся ты тут по всяким Иберкампфам, Шмидтам и иным кабакам. Пить да играть ты там научишься, а более ничему. Да еще и оберут, ежели на шушеру нарвешься. Да, кстати, скажи пожалуйста, где ты жить думаешь?
У юноши готово было сорваться с уст: «Батюшка надеялся, что вы у себя приютите», но он вовремя сдержался и только что-то невнятно пробормотал.
– Видишь ли, я взял бы тебя к себе жить, но, во-первых, я теперь на даче, а, во-вторых, этот дом даже и для одной моей семьи мал, так что… – Свияжский сделал печальную мину и развел руками. – Да у нас в Питере помещенье найти нетрудно, хе-хе! Жильцам рады-радешеньки. Поищи на Миллионной, там есть.
С улицы донеслись со стороны подъезда топот лошадей и шум колес.
– А! Лошадей подали, – сказал Андрей Григорьевич, встав и смотря на часы-луковицу. – Мне пора ехать. Я ведь живу теперь на даче, в Петергофе. Прощай, милейший!
Он протянул Кисельникову два пальца. Потом посмотрел на него и подумал:
«Разве показать нашим этого монстра? По крайней мере, посмеемся».
– Ты вот что: как-нибудь приезжай ко мне на дачу. Найти ее легко: там меня все знают. Сыну моего приятеля всегда рад, всегда, – проговорил старик и кивком головы дал понять, что аудиенция окончена.
Александр Васильевич поклонился и пошел к двери.
– А ты, Николай, разве не собираешься со мною? – между тем спросил старик молодого офицера.
– Нет, у меня в городе дело есть. Да я, кстати, и пойду сейчас. Прощайте, папа. Поклон маман и сестре, – проговорил сын, холодно целуя костлявую отцовскую руку.
Со стесненным сердцем спускался по лестнице Кисельников. Несмотря на всю свою наивность и неопытность, он понял, что «дяденька» не захотел и пальцем шевельнуть для него и попросту отпустил ни с чем.
– Погодите! – окликнули его сверху.
Кисельников оглянулся. По лестнице торопливо спускался юный гвардеец, которого он видел в кабинете Свияжского.
– Познакомимся, – сказал офицер. – Николай Андреевич Свияжский.
Молодые люди пожали друг другу руки.
– Вас нельзя так оставить. Вы в нашем Питере будете что в лесу, – продолжал новый знакомый, спускаясь вместе с Александром Васильевичем. – Отцу… некогда, ну так я за вас примусь. Я вас устрою, положитесь на меня. Прежде всего позаботимся о помещении.
Они вместе вышли на улицу.
– Я вас свезу к моему приятелю, – продолжал молодой Свияжский, а потом, видя, что Александр Васильевич направляется к своему допотопному экипажу, с улыбкой заметил: – Нет, только не в этой карете. Садитесь-ка лучше сюда! – Он взобрался на извозчичьи дрожки-гитару и, сказав куда ехать, крикнул: – Ну, живей!
И возчик стал неистово нахлестывать клячонку. Экипаж Кисельникова с выглядывающим в окно недоумевающим Михайлычем, громыхая и звеня гайками, поехал за ними.
III
– Вы в первый раз в столице, это сейчас видно, – сказал Николай Андреевич, трясясь с Кисельниковым на дрожках – экипаже, сказать к слову, крайне неудобном. – Вам ко многому надо приглядеться, приучиться, переделать себя. Простите, что я говорю это вам так прямо, едва познакомившись, но ведь вы не обидитесь, надеюсь?
– За что же обижаться? Вы вполне правы. Столичные порядки эти и прочее… Шагу ступить не умею.
– Я слышал ваш разговор с моим отцом, а также письмо вашего батюшки. У бедного старика, конечно, за вас сердце болит. Скажу прямо: вы мне очень понравились. Если мой отец не может ничего для вас сделать, то постараюсь я. Нельзя же в самом деле бросать на произвол судьбы человека, приехавшего из-за тысячи верст. Будьте спокойны: вы во мне найдете преданнейшего друга. – Свияжский помолчал минуту, а потом продолжал иным тоном: – Вы – провинциал и не знаете, какое значение придают в нашем столичном обществе костюму, наружности, манерам. Право, очень многие от того лишь и были замечены и пошли в ход, что умели одеваться со вкусом и обладали изящными манерами. Мой приятель, к которому мы теперь едем, камер-юнкер, Петр Семенович Лавишев, вам во многом поможет в этом отношении. Человек он очень богатый, очень добрый, хороший товарищ. Он вас, так сказать, воспитает в светском отношении. Лавишев совершенно одинок, а занимает целый дом-дворец. Он вам может отвести хоть целый этаж.
– Мне, право, совестно. Как же так – у чужого человека?
– Совестно жить у Лавишева? – воскликнул юный офицер. – Фью! Вы его не знаете: он – всем родня. Вот мы и приехали. Стой!
Возница остановился у подъезда большого роскошного дома на Вознесенском проспекте.
Вскоре новые приятели поднимались по широкой мраморной лестнице, устланной коврами и украшенной по стенам тропическими растениями.
– Что, Петр Семенович принимает? – спросил Свияжский у встретившего их лакея.
– Они недавно изволили встать, и теперь Силантий их бреет.
Заметив удивление на лице Кисельникова, Николай Андреевич с улыбкой промолвил:
– Как видите, мы живем не по-вашему: когда у вас вечер, у нас только что начинается день. Пойдемте, авось мы не помешаем Лавишеву справлять свой туалет. Доложи, – приказал он лакею. – Да пусть он не спешит, у нас время есть. Мы подождем в гостиной.
Молодые люди прошли целый ряд комнат. Всюду были позолота, ковры, дорогая бронза, но чувствовалось что-то запущенное, заброшенное во всей этой роскоши. Видно было, что хозяйский глаз редко заглядывал сюда. На золоченых стульях в прекрасном белом зале слоями лежала пыль, она же покрывала голову мраморного Аполлона превосходной работы, по углам виднелась густая паутина. Халатность, запущенность сказывалась даже во внешности прислуги. В гостиной, как в комнате более посещаемой, было почище, но великолепная мебель была расставлена беспорядочно, а картины висели вкривь и вкось.
– Присядем здесь и подождем. Вероятно, он скоро выйдет, – сказал Николай Андреевич, сев в кресло и пододвигая к себе сборник старинных немецких гравюр.
Кисельников принялся расхаживать по гостиной, рассматривая картины.
«Все выходит совсем-совсем не так, как мы с отцом предполагали, – думал он. – Вместо Свияжских я очутился вот где, да чуть ли не здесь и поселюсь. Чудно! А гвардия-то моя все же, кажется, тю-тю».
Словно в ответ на его мысли раздался голос до сих пор молча рассматривавшего гравюры юного Свияжского:
– Знаете, что хотел бы я вам посоветовать? Не старайтесь вы поступать в гвардию. Мой отец прав: для службы в ней нужны очень крупные средства. Без них вы не будете равным с товарищами. Да и кроме того, настоящая служба в армии, а в гвардии – больше забава. Кто хочет быть настоящим военным, тот должен пройти через армейскую лямку. Если вы согласитесь служить в армии, мы вас живо устроим: через несколько недель будете офицером. Я и сам перешел бы в армию, если бы отец…
В этот момент в дверях появился мужчина лет тридцати: среднего роста, стройный, с красивым, добродушным лицом. Щеки у него были слегка подрумянены, брови подведены; на нем были голубой шелковый фрак, белый камзол с украшенными бриллиантовыми «розами» золотыми мелкими пуговицами, синие бархатные панталоны в обтяжку, белые шелковые чулки и легкие башмаки синего сафьяна с высокими красными каблуками и золотыми пряжками. В левой руке он держал огромный черепаховый лорнет, правой посылал воздушные поцелуи Николаю Андреевичу.
– Долго ждал, а? Что давно не заглядывал? А мы вчера у Винклерши всю ночь в фараона2 жарили. И, представь, я выиграл! – заговорил Лавишев, облобызавшись с Николаем Андреевичем и поклонившись Кисельникову.
– Занят был. А у меня к тебе, Петр, дельце есть.
Лицо Петра Семеновича приняло скучающее выражение.
– Терпеть не могу дел!
– Да это не трудное. Пойдем немножко пошептаться.
Свияжский отвел приятеля в дальний угол и стал говорить ему про Александра Васильевича. До Кисельникова долетали восклицания Лавишева: «Конечно! Отчего же нет? С величайшим удовольствием! Что, мне жалко, что ли? Все равно комнаты стоят пустыми. Обучим, обучим».
По окончании переговоров Свияжский, лицо которого сияло удовольствием, познакомил Кисельникова с Лавишевым.
– Вот он самый и есть тот провинциал, о котором я тебе сейчас говорил, – сказал он, обращаясь к Петру Семеновичу. – Александр Васильевич Кисельников, Надо из него сделать столичного жителя.
– Сделаем. Это нетрудно. Ведь вы не из обидчивых?
– Ой, нет! – помолвил юноша.
– Тогда и дело в шляпе. Пока что распорядимся! – Лавишев дернул шнурок звонка и сказал вбежавшему лакею: – Приготовь-ка третий этаж, почисть и прочее… Вот этот господин займет его. Я вас прошу, Александр Васильевич, остановиться у меня, сделайте мне честь. Туда снесешь и их вещи! – снова сказал он лакею. – Людей их и лошадей накормить. Одним словом, распорядитесь, чтобы все было как следует. Да поживей. Ступай!
– Благодарю вас, – с поклоном проговорил Кисельников по уходе лакея.
– Позвольте, кто вас учил так кланяться?
– Мой отец три года француза для манер держал, – не без гордости сказал Александр Васильевич.
– Верно ваш француз был из цирюльников. Разве так кланяются? Надо вот как. – И Лавишев сделал изящный поклон по всем правилам искусства того времени. – А ну-ка, повторите, – предложил он юноше.
Кисельников, красный от смущения, неловко поклонился, подражая Лавишеву.
– Ничего, привыкнете. А выньте-ка платок…
Вынимать и развертывать с шиком пестрый фуляр было одним из условий светскости. В движении Александра Васильевича, разумеется, никакого шика не оказалось. Лавишев и в этом наставил его, а затем стал заставлять его повернуться, надеть и снять шляпу, сделать поклон и т. д.; одним словом, усердно муштровал юного провинциала.
– Из него будет толк, Николай, – наконец сказал он Свияжскому, с улыбкой наблюдавшему за «уроком». – А теперь я хочу ку-у-шать, ку-у-шать, – протянул он нараспев, как капризный ребенок. – Я еще не фриштыкал3. Каково, а? Едемте к Иберкампфу поесть.
– А не лучше ли к Гантоверу? – проговорил Николай Андреевич.
Лавишев комично поклонился.
– Благодарю! Я еще не хочу умирать с голоду. Что мы найдем у твоего Гантовера? Нет, к Иберкампфу, и никаких. У вас есть запасное платье? – внезапно обратился он к Кисельникову. – Впрочем, если и есть, то сшито по провинциальной моде; следовательно, не годится. Мы с вами почти одного роста. Не побрезгуйте, наденьте мое. Вам пойдет красный фрак; я его только один раз надевал. Заметьте, у меня правило: никогда не надевать дважды одного и того же костюма. Согласны? Григорий, Григорий! – крикнул Лавишев, дергая в то же время шнурок звонка. Лакей вбежал как ошалелый. – Проведи их милость в мой кабинет и помоги одеться, – приказал хозяин. – Возьми мой красный фрак, лосины, ботфорты… Одним словом, третьего дня я надевал. Маленький парик достань для них… Знаешь, что из Парижа прислан. Букли, смотри, вели завить потуже. Ну, иди! Александр Васильевич, он вас живо оденет. А мы пока, Коля, пойдем посмотреть моего нового «араба». Я тебе скажу, не лошадь, а огонь. Да вот сам увидишь.
Кисельняков пошел вслед за лакеем, а Свияжский и хозяин отправились смотреть нового «араба».
– Издалече изволили приехать, ваша милость? – спросил лакей, помогая Александру Васильевичу одеваться.
– Из-под Елизаветграда.
– Не слыхал о таком месте; должно, далече. Позвольте, ваша милость, я вам кружавчики оправлю. А, небось, хорошо теперь там-то, в ваших местах: цветы и всякое произрастание. Не то, что здесь. У нас жизнь столичная.
– А что же, хотел бы ты в деревню?
– Ну, этого не скажу. Потому там что же? Хлеб, квас да маята. Здесь мы и сыты, и прочее… Дозвольте камзольчик застегну. А паричок как раз по вас. Очень, доложу вам, фрак этот идет вашей милости и сидит без морщинки. Косица прямо ль лежит? Так, совсем все как следует.
Выйдя по окончании переодевания в гостиную, Александр Васильевич не застал в ней никого: очевидно, приятели все еще любовались «арабом». Молодой человек воспользовался этим временем, чтобы взглянуть на отведенное ему Лавишевым помещение. Поднявшись на третий этаж, он застал там хлопотавшего Михайлыча. У старика глаза были мутны, щеки сильно порозовели.
– Александр Васильевич! – воскликнул он, всплеснув руками как-то уж со слишком большим жаром. – Да тебя, право, не узнать. Совсем фон-барон. Н-да! Питер – это, я тебе скажу, штука. Однако в какой мы дом, то есть, попали? Куда, скажи, сделай милость, нам этакие палаты? Десять комнат! И везде мебель, везде… И даже эта самая музыка. Пальцем ткнешь – играет. А только пылищи! Н-ну… Порядки здесь вообще… особенные порядки. Приехали – перво-наперво по шкалику анисовой. Хорошая водка, что говорить, Прошка у коней так и завалился.
– Как у коней? Что такое?
– Ну да. Пошел им овса насыпать, упал между коников и захрапел. Я уж его и не будил – пусть спит. Сам овса засыпал. Надо правду сказать – всего вволю. А только бестолочь такая, что… ну-ну! Приехали мы, чего уж говорить, голоднехоньки. Ну нас сейчас честь-честью: «Есть хотите? Пожалте!». Анисовки это, того-сего…
– Простой водки не подавали?
– Как не подавали? Под-давали. И даже очень. Едим-едим… Все какие-то пичужки, телятина и вообще фрухты… Спрашиваю: «А когда ж, братцы, щи-то?» – А они как фыркнут. «У нас, – говорят, – щей не водится, да после бекасов (такое слово надо ж выдумать: бекасы!) щи и не к месту. Не хочешь ли зуппу4?». Попробовал – водица с крупой, однако, съел. После наливкой запили и какую-то пастилу к ней давали.
Старика заметно качнуло.
– А наливки-то, видно, Михайлыч, ты порядочно выпил? – укоризненно произнес Кисельников. – А я еще надеялся на тебя, Михайлыч!
– И можно надеяться. Глянь, постели устроил. Твоя – там, моя – здесь.
– Мягкая у тебя постель? Да, кажется, коротка тебе?
– Зачем коротка? Гляди! – И старик, забравшись на устроенное им ложе из дорожных пуховиков и тулупов, чуть не с головой ушел в мягкие подушки. – Хор-ро-шо, – с наслаждением потягиваясь, сказал он.
– Ты полежи, а я сейчас приду, – промолвил Александр Васильевич, и ушел, оставив своего верного дядьку сладко дремлющим на мягком ложе.
В гостиной Кисельникова дожидались Свияжский и Лавишев.
– Куда вы запропастились? – спросил последний. – Я думаю, что у Иберкампфа уже тьма народа. Фрак на вас – что влитой. Едем, господа! Григорий! Лошади поданы?
– Поданы, – издали откликнулся лакей.
– Трогаемся: голод – не тетка. Меня ждет фриштык, фри-иш-тык! О, блаженство!