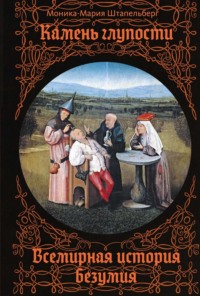Buch lesen: "Камень глупости. Всемирная история безумия"
Английское слово folly (глупость, безумие) происходит от старофранцузских folie (безумие) и fou (безумный). В XV и XVI веках считалось, что «Камень безумия», который предположительно находился в черепах больных, являлся причиной умственных расстройств и идиотии. Многочисленные картины того времени изображают «Извлечение глупости»: шарлатанов-хирургов, удаляющих такие фантастические камни из голов безумцев.
Monica-Maria Stapelberg
THE STONE OF FOLLY
Glimpses into the History of Madness
© Monica-Maria Stapelberg, 2023
© Кедрова М. В., перевод на русский язык, 2025
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство АЗБУКА», 2025
КоЛибри®
Введение
В книге «Камень глупости» исследуются убедительные и порой шокирующие факты, а также удручающие примеры лечения, предлагается экскурс в историю «безумия», зарождения алиенистов – так в прошлом называли психиатров – и психиатрии с ее появления до 1900-х годов, когда специальность все еще находилась в зачаточном состоянии. Эта временная шкала была выбрана отчасти из-за быстрого развития психиатрии в XX веке, когда постоянно внедрялись новые научные парадигмы и открывались новые перспективы понимания психических расстройств.
Состояния психического здоровья, когда-то широко известные как «безумие», имеют долгую и сложную историю. Психические заболевания, основанные на биологических, психологических и социальных факторах, вероятно, существуют столь же долго, сколь и само человечество, и всегда рассматривались обществом через призму культуры.
На протяжении всей истории безумия в его понимании происходили колебания, туда вносились корректировки, поскольку менялось представление о самой его концепции. Восприятие психического здоровья и психических заболеваний сильно отличается от того, каким оно было во времена существования ранних цивилизаций, и продолжает развиваться по мере накопления знаний и понимания психики человечества. Следовательно, термин «безумие» – это всего лишь искаженное представление о постоянно меняющихся, колеблющихся социальных ценностях. Столетиями концепция безумия отражала социальную, культурную и интеллектуальную структуру общества, а также образ мышления каждой эпохи, на чем я и делаю акцент в этой книге.
История безумия, связанная с ранней историей психиатрии, больше, чем любая другая область медицинских наук, была и остается отмеченной «появляющимися» и «исчезающими» расстройствами. Такие расстройства в прошлом часто диагностировались в результате невежества, они становились модными и популярными, со временем «затухая» или же вытесняясь новыми медицинскими идеями. Многочисленные примеры рассматриваются в следующих главах.
Трудно обсуждать исторические события в любой медицинской области – в данном случае ранние концепции психического здоровья – в терминологии, не современной своей эпохе. Терминология исторически развивалась в связи с понятиями и практиками, относящимися не только к медицинским знаниям, но и к социокультурным реалиям, нормам, верованиям и практикам. Поэтому следует отметить, что определения, коннотации и ассоциации давно ушедших терминов, таких как «безумие», «помешательство», «идиотия» и подобных выражений, отражают постоянно меняющуюся с ходом истории структуру общества и эволюцию понимания концепции психического здоровья. Такие термины, хотя и считаются конфронтационными, стигматизирующими и неуважительными в современном контексте, используются на протяжении всей этой книги в рамках рассматриваемых временных периодов.
В «Камне глупости» затрагивается только западная психиатрия, не отражена и не рассматривается обширная история психиатрических теорий, их авторов, традиции и тенденции, существовавшие на протяжении веков, – об этом можно прочитать в многочисленных книгах по истории психиатрии. «Камень глупости» предлагает «мельком взглянуть» – прочитать короткий или неполный обзор – на конкретные разработки, избранные теории и различные указания по лечению в рамках интересующей нас области.
Хотя последующие главы затрагивают зачастую мрачные, печальные и удручающие темы и содержат исторические факты, которые современному читателю может быть непросто представить с этической, социальной и даже моральной точки зрения, они тем не менее излагают самые ранние «проблемы становления» психиатрии, какой она известна нам сегодня.
Многие ранние психиатрические практики с современной точки зрения кажутся если не чудовищными и жестокими, то хотя бы возмутительными и абсурдными. Такие практики отталкивают и даже вызывают гнев на невежество наших якобы ученых предков. Однако, если позволите, я бы хотела вежливо напомнить читателю, что он рискует предаться тому, что историки называют «чрезмерной снисходительностью потомков» [1]. Мы также не должны судить прошлое, ссылаясь на настоящее, как на неизбежный прогресс в направлении «лучшей практики». Как медицинские теории прошлого не были предшественниками современных, так и ушедшие в прошлое практики не были безыскусными или «примитивными». Просто они подходили к заболеваниям и недугам с другой точки зрения. Ранние психиатрические практики уходят корнями в Античность, связаны с освященными веками традициями, отсылающими к неопровержимому авторитету Гиппократа и Галена Пергамского. Многие столетия медицина опиралась на научные теории, которые имели смысл в контексте фактических знаний и информации, доступных врачам на каждом отдельно взятом этапе ее существования. Поэтому считать их практику результатом невежества – значит превозносить наши современные знания, тем самым потенциально отрицая прогресс. Лечебные указания всегда были и будут зависимы от контекста – другими словами, от медицинских представлений и убеждений определенного исторического периода, когда конкретные процедуры казались осмысленными и использовались повсеместно.
В наше время психиатры достигли того, что обычно считается зрелой и разумной позицией как в теории, так и на практике, подкрепленной сложными технологическими инновациями, которые много веков назад врачи сочли бы чудом или низвели бы до области теологии или колдовства. В этой связи мы можем лишь с иронией размышлять о том, какими современные научно обоснованные психиатрические практики покажутся сотни лет спустя. Терапевтические методы, в настоящее время высоко ценимые, в будущем могут показаться нелепыми и, возможно, такими же ужасающими и возмутительными, как многие, существующие в прошлом, – «сумасшедшие дома», оскорбительные теории и радикальные операции, которые мы рассмотрим на следующих страницах. Именно поэтому, прагматично фиксируя различные теории и практики алиенистов в данной книге, я не забываю об осуждении, которому могут подвергнуться современные рекомендации по психиатрическому лечению в будущем.
Хотя в области психиатрии достигнуты значительные успехи, работа человеческого мозга и разума, вероятно, будет полностью понята еще не скоро. Действительно, современная психиатрия по-прежнему сталкивается с многочисленными загадками, и некоторые уходят корнями в прошлое, так легко игнорируемое или осуждаемое нами. Например, философское разделение разума и тела Декартом в XVII веке оказало глубокое влияние на прошлую и современную психиатрическую и психологическую практику. Сегодня все большее признание получает современное понимание высокоинтегрированной природы разума и тела, которая также относится к психическому здоровью и психическим заболеваниям. Таким образом, прилагаются усилия, чтобы отказаться от дуализма разума и тела и интегрировать современную психиатрию в целостную практику, которая принимает во внимание биологические и психологические аспекты расстройств психического здоровья. Тем не менее изучение генетических, эпигенетических и физиологических предпосылок психических заболеваний все еще находится в зачаточном состоянии, как и изучение влияния хронического стресса и психических заболеваний на физическое здоровье, например их связи с ишемической болезнью сердца, диабетом и другими хроническими неинфекционными заболеваниями, также едва начало развиваться.
Современная психиатрия остро осознает социальные и культурные влияния, а также контекст, связанный с психическими заболеваниями, о чем свидетельствует признание синдромов, связанных с культурой, подробно описанных в современных руководствах по психиатрической диагностике, таких как Диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам1. Социальные и культурные влияния теперь рассматриваются как неотъемлемая часть психического заболевания отдельного человека, в то время как всеобъемлющая парадигма психиатрической диагностики и лечения прочно укоренилась на небосводе науки. Это контрастирует с историческими подходами к пониманию и лечению психических заболеваний, которые возникли в определенных устоях, верованиях и практиках своего времени и, таким образом, были тесно переплетены с ними.
Последующие главы предлагают заглянуть в историю «безумия», алиенистов и ранней психиатрии…
1
Врачи, алиенисты и психиатры – разъяснение терминов
Врачи
Термин «врач», противопоставленный термину «доктор», используется в этом тексте для описания практикующих врачей. «Доктор» – это латинское слово, означающее любого учителя, включая тех, кто овладел теологией, правом, философией, гуманитарными науками и медициной. Термин «врач» происходит от английского слова XIII века physic, означающего «лекарство» или «средство» [1].
В наше время термином «врач» называют специалистов в области медицины. Однако в прошлом это слово имело иное значение. На протяжении столетий термин «врач» относился конкретно к врачам-практикам с университетским образованием – они обладали теоретическими медицинскими знаниями и имели право выписывать лекарства. Их некогда менее выдающиеся коллеги – хирурги и цирюльники – были известны как «знахари» – термин, относящийся к практикующим врачам без университетского образования, иногда неграмотным, имеющим «практический опыт», приобретшим свои навыки исключительно благодаря практике.
С древнейших времен врачи составляли элиту, высшие ступени медицинской системы – в обществе их уважали. Гален из Пергама (129–216), личный врач двух римских императоров [2], представлял собой образец типичного врача: он был человеком науки, образованным и трудолюбивым. Однако окружающие также отмечали его высокомерие. Не склонный к притворной скромности, Гален считал, что собрал воедино разрозненные медицинские знания своего времени и преувеличил их [3], не стесняясь ставил себя на несколько ступеней выше Гиппократа (460–370 до н. э.), греческого «отца медицины». Не смущаясь, Гален провозгласил: «Я, только я проложил истинный путь в медицине. Нужно признать, что уже Гиппократ наметил этот путь… он подготовил его, но я сделал его проходимым» [4].
Результативность Галена была необычайной, и этому известному врачу приписывают около 500 книг. Благодаря его чрезмерному многословию и отсутствию большого количества оппонентов он обеспечил себе место в истории медицины. Трудно поверить, но его идеи и учения просуществовали более полутора тысяч лет. Некоторые из его методов применялись и в 1800-х, причем они почти не изменились и никто не подвергал их сомнению.
Веками врачи вызывали в обществе смешанные чувства, вероятно, из-за высокого статуса и предполагаемого социального превосходства. Напыщенные врачи, больше озабоченные своими кошельками, чем пациентами, когда-то были излюбленной мишенью сатириков. Так и появилась поговорка «врач опаснее болезни» [5]. Чосер (1343–1400), «отец английской литературы», поддержал обвинения врачей в наживе на несчастьях других, провозгласив «И золото – медикамент целебный – // Хранил, должно быть, как припас лечебный»2 [6]. Точно так же, 200 лет спустя, елизаветинский сатирик Томас Деккер (1572–1632) писал: «Хороший врач приходит в облике ангела» [7] – игра слов («ангелом» в то время называли не только божественного посланника, но и английскую золотую монету).
Врачи отличались от других медиков тем, что проходили университетскую подготовку. Университеты в современном понимании этого термина появились именно в Средние века – несмотря на тот факт, что жители древних цивилизаций, такие как греки, римляне и византийцы, уже имели свои формы высшего образования. В XII веке в Италии, Франции и Англии открылись первые университеты. Все они вскоре развили медицинские школы и стали привлекать студентов со всей Европы. Итальянский Болонский университет, старейший в мире, начал готовить врачей в 1219 году, и вскоре за ним последовал Оксфорд, второй по старшинству.
Медицинская программа, изучаемая в то время, была классической – другими словами, она датировалась по крайней мере V веком до н. э., но имела средневековый формат. Вплоть до XVI века европейскими университетами предлагались для изучения строго ортодоксальные медицинские тексты Гиппократа, Галена и их исламских интерпретаторов Авиценны (ок. 980–1037) и Разеса (854–925). Чтобы стать лучшим врачом, необходимо было изучать и обсуждать классических учителей и их книги. В этих обсуждениях акцент делался на логическом диспуте, аргументации обеих сторон своей точки зрения, рассмотрении каждого аргумента и новых выводах. По сути, это был замкнутый круг, потому что все новые предложения и предположения основывались на перефразировании старых текстов Гиппократа или Галена о понятиях, основанных на гуморальном балансе (cм. главу 2). Другими словами, никакого обсуждения эмпирических наблюдений тогда не было. Дебаты просто базировались на теориях, впервые выдвинутых в V веке до н. э. Любое инакомыслие считалось ересью. Например, когда в XV веке оказалось, что монументальный учебник по анатомии XIII века Anathomia врача Мондино де Луцци (1270–1326) в некоторых деталях противоречит Галену, в различных университетах книга подверглась цензуре. Аналогично, «в 1559 году, когда Джон Гейнес из Лондонской коллегии врачей раскритиковал Галена, коллеги осудили его и заставили письменно отречься от своих слов» [8], хотя Гален уже почти полторы тысячи лет как скончался! Но даже в XVI веке подвергать сомнению авторитет Галена было сродни ереси, и ни один замотивированный сдать экзамен студент-медик, безусловно, не занял бы такую позицию.
В соответствии с традициями суть профессии врача заключалась в рассмотрении симптомов, тщательном осмотре пациентов и их различных продуктов жизнедеятельности, измерении пульса – Гален много размышлял и писал о различных явлениях, связанных с пульсом, – а затем постановке диагноза и назначении лечения в соответствии с современной теорией. Как правило, врачи следовали советам Галена и обращали особое внимание на анализ мочи, тем самым устанавливая диагноз с помощью уроскопии, не осматривая пациента лично. Веками считалось, что гуморальный дисбаланс можно определить, проведя исследования мочи пациента невооруженным глазом. Поэтому в XVI веке известный своей прямолинейностью Парацельс говорил о своих коллегах-врачах: «Они могут только смотреть на мочу, и больше ничего» [9]. В 1800-х годах врачей еще не заботили внешние травмы, они не проводили операций и не вправляли кости. Их работа в основном ограничивалась измерением пульса, анализом мочи и различных других продуктов жизнедеятельности человека. Для восстановления гуморального баланса врачи предлагали лечение, обычно включающее обильное кровопускание, очищение организма и рвоту, а также изменение диеты, лечебные ванны и лекарства – все, что уже столетиями использовалось для лечения физических и психических заболеваний.
Специалисты в различных областях медицины появились в XIX веке, который стал революционным для медицины и принес новые изобретения и достижения [10]. Все это способствовало развитию медицины и превращало ее во все более профессиональную дисциплину.
Алиенисты и психиатры
Термин «психиатрия», или Psychiatrie, впервые был использован в 1808 году немецким врачом Иоганном Христианом Рейлем (1759–1813) и буквально означает «медицинское лечение души или разума» [11].
Хотя термин «психиатрия» появился в 1808-м, практикующие врачи – те, кто специализировался на лечении психических заболеваний – до конца 1800-х годов все еще были известны как «алиенисты». Термин «алиенист», происходящий от французского aliéné, означающего «безумный», возник в 1860-х годах [12]. Те, кто страдал психическими заболеваниями, «считались отчужденными3 как от общества, так и от самих себя» [13] – другими словами, «самоотчужденными» или оторванными от своего истинного «я», а также от других. Алиенисты рассматривали безумие как внутренний вулкан, извергающийся в виде расстройств или потери самоконтроля, а также самосохранения и идентичности человека. Вот «почему именно понятие “алиенация” [отчуждение] <…> было выбрано в качестве общего термина для различных форм безумия» [14].
Психиатрия как самостоятельная медицинская специальность появилась в середине XIX века, и вместе с этим пришло осознание, что это дисциплина, требующая «понимания культуры и характера» [15]. В «Историях болезни и размышлениях» шотландский врач Джон Ферриар (1761–1816) описал востребованные среди тех, кто лечит психически больных, качества: «Философское рассмотрение причин и симптомов этой болезни [безумия] требует сложнейшей работы разума, и интерпретация идей, полученных самыми терпеливыми и внимательными, требует талантов, далеко превосходящих обычные умения врачей» [16]. Но, несмотря на такие высокие ожидания, психиатры изначально не пользовались ни уважением своих коллег-врачей, ни высоким статусом, присущим врачам на протяжении всей истории. Фактически в XIX веке «психиатрия <…> занимала последнее место в программе для студентов», а «на ее практиков смотрели свысока или с откровенным недоверием как представители медицинской профессии, так и общество в целом» [17].
По обе стороны Атлантики история психиатрии началась с исправительных учреждений для заключения лиц, которые считались безумными и опасными или даже просто доставляющими неудобства. В XIX веке, когда психиатрия как профессиональная дисциплина находилась у истоков своего развития, многое из того, что, по утверждению ее же представителей, было известно о психических заболеваниях, являлось результатом наблюдения за поведением пациентов в психиатрических учреждениях. Фактически быть психиатром в XIX веке означало работать в психиатрической больнице, поскольку в то время стационарная помощь всем психически больным и представляла собой надлежащую профессиональную подготовку. После 1945 года большинство психиатров отказались от такого предоставления помощи и занялись частной практикой.
Ключевой проблемой для английских алиенистов XIX века было то, что они по-прежнему преимущественно занимались лечением пациентов, «но мало внимания уделяли исследованиям и научной работе» [18], в отличие от врачей в таких странах, как Франция и Германия, где в то время научные исследования проводились. Кроме того, английские алиенисты работали в учреждениях, которые считались низкостатусными сумасшедшими домами, и редко выходили за их пределы. Другими словами, они были изолированы от общей медицины, ограничены отдельными учреждениями, выделенными специально для лечения психических расстройств. Было совершенно очевидно, что пока такая ситуация сохраняется, «глупый предрассудок, что на профессии лежит клеймо позора и ужаса» [19], никуда не денется. Психиатры середины XIX века понимали это и требовали реформ, таких как присвоение статуса гильдии, аргументируя это тем, что содержание сумасшедшего дома – навык и дисциплина «столь же сложные, как химия и анатомия» [20]. В медицинской программе на университетском уровне также нужны были изменения. В 1865 году пионер английской психиатрии Генри Модсли (1835–1918) призвал Лондонский университет включить психические заболевания в учебную программу для выпускного экзамена на степень бакалавра медицины. Впоследствии в 1885 году Генеральный медицинский совет добавил в учебную программу отдельный пункт, включающий психические заболевания, и постановил, что студенты должны проходить экзаменацию по этому предмету. Однако это обычно означало, что в выпускной медицинский экзамен включали всего один символический вопрос о психических заболеваниях, что отражало пренебрежение, с которым в то время относились к профессии. Специальность «психиатрия», с нуля изучавшаяся в лечебницах, не была представлена на университетском уровне до 1930-х годов.
К концу XIX века лечебницы в Англии, Америке и континентальной Европе пришли в упадок. Они были переполнены и превратились в огромные убежища для безумных, отбросов общества, нищих, бродяг, всех слабых и немощных. Медицинским работникам, к сожалению, недоплачивали, их не ценили и перегружали работой, поскольку персонала сильно не хватало. В выпуске журнала The Lancet4 от 16 июля 1897 года сообщалось: «Доля медицинских работников в лечебницах удручающе мала, и из-за постоянно растущих непростых обязанностей по администрированию на лечение пациентов остается мало времени и энергии» [21]. Поскольку из-за низкого уровня лечения число лечебниц росло, возобладало изначальное недоверие к способности психиатров лечить психические заболевания, несмотря на высокий прогресс в медицине в целом. Это не повысило их авторитет среди коллег-врачей, и психиатры продолжали считаться «второсортными, всего на ступеньку выше врачей-курортологов и гомеопатов» [22].
Несмотря на то что многие выдающиеся психиатры сделали в этой области множество открытий, особенно в континентальной Европе, к 1900 году общая психиатрия в Англии зашла в тупик – специалисты по-прежнему в основном работали в лечебницах. Существовавшая в то время частная практика, более известная как «работа с состоятельными клиентами», была привилегией «консультантов-неврологов, которые, обладая разным уровнем психиатрического опыта, занимались своим ремеслом в богато обставленных комнатах на Харли-стрит в Лондоне или на Парк-сквер в Лидсе» [23]. В то время большое влияние на психиатрию оказала быстро развивающаяся область неврологии. Концепция нейропсихиатрии, занимающейся расстройствами, имеющими как неврологические, так и психиатрические характеристики, появилась в середине XIX века. Тогда о человеческом мозге и причинах психических заболеваний было известно немного. Общее мнение заключалось в том, что психические расстройства можно отнести к соматическим нарушениям. То, что в то время было органической психиатрией, пациенты называли «расстроенными нервами», считая концепцию физического расстройства нервов гораздо более приемлемой, чем диагноз «безумие». Некоторым неврологам и психиатрам такая «маскировка» нервов позволяла извлекать прибыль из частных консультаций с пациентами среднего класса.
Швейцарский психиатр Карл Юнг (1875–1961) назвал психиатрию «падчерицей медицины». Она явно занимала невыгодное положение по сравнению с другими отраслями, где можно было применять научные методы и использовать как физические, так и химические методы исследования. В наше время специализация психиатрии – изучение сложных и чрезвычайно запутанных процессов в человеческом мозге и разуме – прочно интегрирована с остальной медициной и психиатры имеют ту же базовую подготовку и статус, что и другие врачи.