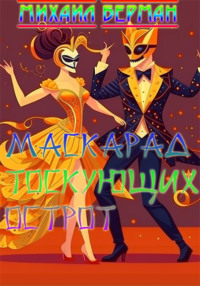Buch lesen: "Маскарад тоскующих острот"
Вообрази, что все – правда, даже если этого не случилось.
Джон Леннон и Кен Кизи

Графика автора

© Издательский дом «Ромм и сыновья» (ИП Бабина О. М.)
© Michael Berman, All Rights Reserved.

Стремление уйти от безумного мира, который в своей абсурдности давно превзошел самые смелые предположения авторов утопий и антиутопий; желание спастись от кровожадной реальности за оградой больницы, изолировать себя от мира и жить в обществе «ненормальных» с их «наивными» взглядами на любовь и честность, на ум и глупость, на истину и ложь, – в этом собственно, и состоит фабула романа… Но герои Михаила Бермана не реалистичны, а символичны. Это роман-идея или, если хотите, роман-сказка, требующая от читателя определенного уровня интеллектуальной подготовки и способности мыслить абстрактно. Автора смело можно назвать и символистом, и постмодернистом, и философом, – ведь подчас в уста героев он вкладывает глубокие и интересные мысли и наблюдения.
Издатель
1. Укусить шоколадку в больное место
Психиатрическая больница Шизо находилась недалеко от города Шизо. Никто и никогда не хотел дать больнице какое-то особое название, поэтому она называлась так же, как и близлежащий город. А может, и наоборот, как острили некоторые из больных и медперсонала.
Место было чудесным – река, лес. Тишина в этом месте была необычайной. Когда солнце подобно вечному огню, доживающему последние минуты из-за утечки газа, догорало, то многие выходили из здания больницы полюбоваться закатом, а кто ленился или не мог, устраивались поудобнее у окон и прощались с оранжевым шаром или с «водородно-гелиевым стариком-апельсином, – как подметил один больной сухопарый астроном, – ведь пять миллиардов лет – это не шутка».
Буддист Тэн уходил встречать закат в лес. Ему нравилось сквозь верхушки деревьев смотреть на небеса, обагренные закатом. Иногда ему вспоминалось стихотворение Михаила Бермана:
Небеса – река,
По которой плывут облака.
Но чаще, когда он смотрел на проплывающее над его головой облако, ему представлялось, что не он смотрит на облако, а оно на него. Или что-то в этом роде.
График Эмби отрывался от компа и следил за солнцем. «Я – араб, а солнце – хорошенькая блондинка», – так говорил он себе и смеялся в несуществующие мушкетерские усы.
Поэт Ржевский вспоминал во время заката строчки великих и невеликих про солнце, закат, и ему становилось горько от того, что самому так писать не дано. А потом сладко – от того, что все-таки немало кому дано.
Музыкант Стар пододвигал синтезатор к окну и импровизировал, следя за облаками, плывущими по небу вослед солнцу «Да разве кто догонит солнце?», – шептал он и жалел облака. Он был очень жалостливым. Ржевский даже как-то предложил ему совместно написать оперу «Жалость». «Жалкий поэт и жалостливый композитор. Должно выйти неплохо», – говорил Ржевский. Тогда Стару становилось жалко Ржевского, тем более что ему нравились некоторые его стихи. «Не преувеличивай, ты не такой и жалкий. Будь уверенней в себе, только и всего». – «Спасибо, Стар за сочувствие, участие и добрый совет».
Тэн вернулся в отделение вечером умиротворенным.
– С кем поделиться счастьем? – спросил он, входя в палату и улыбаясь друзьям доброжелательной буддистской улыбкой.
– А разве возможно поделиться счастьем? – удивился Эмби. – Ведь у каждого человека свое понимание счастья.
– Может быть, только понимание свое. Но мне иногда кажется, что ощущение счастья, особой умиротворенности у многих схоже. Люди подобны друг другу намного больше, чем они предполагают, – сказал Тэн.
– Согласен, – сказал Стар. – Возьмите музыку. Разве мало композиций, которые приводят в восторг тысячи людей? И разве это не объединяет?
– Это не только объединяет, – подхватил Тэн. – Это дает людям шанс на сопереживание, на более глубокое понимание друг друга, на духовную близость.
– Все это довольно красиво звучит, – сказал Ржевский. – Но в ваших рассуждениях столько идеализма-идиотизма. Для большинства людей кроме себя самого и чего-то, кого-то своего ничего не существует. А если и существует, то так… второстепенно.
– Тэн и сказал, что только шанс, – сказал Стар.
– Сколько таких шансов у всех и у каждого из всех? Много, – сказал Ржевский. – Но не меньше шансов, а то и больше отдалиться друг от друга. Люди не расположены к тому, чтобы жертвовать чем-то своим, в том числе и убеждениями-сбережениями.
– Возможно, ты прав, – сказал Тэн. – Но это касается не всех. Достаточно людей, которые склонны к доброте, к терпимости, которые тебе могут протянуть руку помощи в трудную и нудную минуту. Может, это кажется идеализмом-идиотизмом, но я верю, что когда-нибудь такие люди будут доминировать на нашей красавице-планете.
В палату вошел гость. Точнее гостья. Кудрявая милая женщина. Она обожала сладкое и считала себя пророком. Она утверждала, что в Библии нет ни одного стоящего пророка и что если и были в истории человечества истинные пророки, то они были неизвестны. Их слова, мысли, предположения, учения живы и поныне, но они либо украдены всякими лицемерными, жуликоватыми духовными наставниками, либо живут и живут себе в качестве народной мудрости. Ее так многие вначале и звали – Истинный Пророк, а потом, когда к ней пришла слава, как и к каждому душевнобольному с изюминкой, ее стали называть Истина.
– Приветствую вас, друзья, – сказала Истина.
– Приветствую вас и я, – сказал Ржевский.
Ржевский, пожалуй, был самым большим почитателем Истины. И когда другие уже изнемогали под тяжестью ее пророчеств, предположений, убеждений, доказательств, он все больше увлекался ими и их источником.
– Давно хотел тебя спросить, – начал Ржевский. – Когда читаешь Ветхий Завет, то складывается впечатление, что Господь Бог практически никогда не бывает доволен нами, орлами. Какой-то хронический ворчун. Может быть, это глупо и неверно, но такое впечатление у меня складывается.
– Чушь, – сказала Истина. – Ты совсем не понимаешь, что читаешь. Он строг к нам, потому что мы несовершенны и глупы. Он видит нас намного лучше, чем мы видим самих себя.
– А видит он то, что мы неисправимы?
– Он видит все. А что не видит, то слышит, а что не слышит, то чувствует. Он везде и во всем.
– Да, – сказал Ржевский. – Идея Бога подразумевает и то, что он непостижим для таких букашек-таракашек, как многие и многие из нас.
– Многие, но, слава богу, не все, – тихо и гордо сказала Истина.
– Не хотите шоколадки? – предложил Эмби.
В глазах Истины сразу возник огонек.
– Если вам не жалко.
– Ради того, чтобы видеть, как в ваших глазах вспыхивает огонек, я готов на все. А что такое шоколадка? Так… черная сладость – сладкая радость, – сказал Эмби и протянул маленькую симпатичную шоколадку.
– Спасибо.
И Истина положила шоколадку в набитый сладостями карман.
– Интересно, – сказал Ржевский. – Ты, я знаю, не любишь этого вопроса, но не выговаривает ли тебе Бог за то, что ты постоянно жуешь сладкое?
– Он не мой дантист и даже не моя мама. Он настолько выше всего этого. А если хочешь знать, то он рад за меня, потому что моя радость – и его радость.
И Истина съела конфетку. То, как она ела сладкое, нравилось всем. Когда ее язык касался сладости, у нее закатывались глаза от удовольствия.
– А что дает тебе сладкое в плане веры, пророческого дара и тому подобного? – спросил Ржевский.
– А что тебе дает удовольствие? – спросил у Ржевского Стар.
Стару было жалко и Ржевского, и Истину. Не всегда им удавалось нормально поговорить. Им надо было помогать – иногда помощь бывает не лишней.
– Удовольствие мне дает удовлетворение в конечном итоге. Удовлетворение от того, что вот, получил только что удовольствие.
– А что для тебя представляет сам момент удовольствия? – спросил Тэн.
– Мне хорошо, я живу в нем, как, может, живут в раю. Как бы тебе удается ненадолго проникнуть в рай, немного побыть в нем и обратно. Иногда мне хочется крикнуть: «Остановись, мгновенье, ты – прекрасно!»[1]. Иногда: «Остановись, мгновенье, ты напрасно!». Иногда: «Остановись, мгновенье, ты неясно!»
– А я бы на твоем месте крикнул: «Остановись, мгновенье, ты опасно!», – сказал, улыбаясь, Тэн.
– А я бы крикнула: «Остановись, мгновенье, мне так классно!», – сказала Истина.
– А потом бы укусила шоколадку в больное место, – продолжил Ржевский.
– Интересно, где у шоколадки больное место? – задумался Стар.
– Во всей больнице не сыскать более крупного специалиста по шоколаду, чем Истина. Можешь ответить нам на этот вопрос, или он слишком абсурден? Хотя для того места, где мы все, он должен быть самым заурядным.
– Точно. В этом-то и очарование сих мест, – согласился Ржевский.
– Шоколадки бываю разные, и каждая уязвима по-своему. Есть очень хрупкие шоколадки. Когда они мне попадаются, я отношусь к ним, как к маленьким детям. С ними нужно быть очень бережной и внимательной. В принципе вся такая шоколадка – это одно больное место. А есть шоколадки неуязвимые даже для отбойного молотка. Их нельзя ни грызть, ни есть, а только работать над ними всю ночь и даже не прикончить и половины.
– Неужто бывают такие шоколадки? – изумился Стар.
– Шоколадки, как люди, бывают разные, – сказала Истина и, решив, что больше в этой палате делать нечего, покинула ее.
2. Когда откроешь ты глаза
Стар гулял по лесу и напевал «Когда откроешь ты глаза…». Сегодня утром он случайно услышал эту песню по радио, и она свела его с ума. Вроде бы обычная лирическая песня, но в ней было то, что затронуло самые чувствительные струны его натуры. Иногда песня полностью отрешала Стара от мира людей и судей. Где обитала тогда его душа? Вокруг были деревья, трава, цветы, иногда встречались люди, а он шел и шел, не замечая никого и ничего. Он шел к роднику, журчание которого казалось ему самой дивной музыкой в те дни, когда восторг правил бал в душе Стара.
«Когда откроешь ты глаза…», – шептал он как мантру под музыку родника. И родник вторил ему: «Когда откроешь ты глаза…». Разум Стара… был ли у него вообще когда-то разум? Может быть, и был. Но не сегодня, не сейчас. Как жаль, что он помнил только первую строчку песни.
«Когда откроешь ты глаза». И сам продолжал: «Твои глаза прекрасны. Прекраснее их я не видел никогда. Я любовался твоим лицом, когда ты спала, но сейчас ты проснулась, ты открыла глаза, и стоило мне заглянуть в них, как я исчез, я перестал думать, я превратился в пылинку на твоей реснице, в лучик света, отраженный в твоих глазах. Кто ты? Любовь? Красота? Невыразимое Прекрасное? Чудо? Самое удивительное божество? Мне посчастливилось взглянуть в твои глаза. «Заглянуть в твои глаза – то же самое, что познать блаженство», – несколько раз крикнул он. Лес отвечал эхом будто аплодисментами. А вскоре к роднику подошел и человек. Лысый сутуловатый старик в больничной пижаме. Стар кажется видел его в своем отделении, но не был знаком с ним.
– Это вы кричали? Что-нибудь случилось?
– Да, нет. Ничего. Хотя… Вы знаете, что значит познать блаженство?
– Скажите проще.
– Если я скажу проще, то… это будет уже другой вопрос. Я бы хотел, чтобы вы ответили мне на то, что я спросил. Ответьте так, как вы можете.
– Удовольствие познал, а блаженство не пришлось. И хотя в мои годы так говорить смешно, но надеюсь, что все еще впереди. Как говорят: что не впереди, то позади. А впереди то, что не позади.
– А я познал. Это то редкое состояние, ради которого и стоит жить. Я готов вынести любое страдание, все эти серые, похожие один на другой дни, если буду знать, или нет, скорее, как и вы – надеяться, что познаю блаженство, и пусть это редко происходит со мной. Пусть редко.
– Вы знаете есть прекрасная мудрая скороговорка по этому поводу: то редко, что метко. А метко то, что редко. Ведь Бог многих из нас не любит баловать – вредно нам.
– Вы тысячу раз правы. Но вдумайтесь в фразу: «Когда откроешь ты глаза». Представьте, что они обращены к неземному неправдоподобно прекрасному существу. И спеты под удивительную музыку.
– Да, должно быть и красиво, и эффектно, и за душу берет. Но вы сами понимаете, чтобы прочувствовать подобное, нужно быть вами или примерно как вы. А я не вы, как вы не я. Так что покину вас, тем более что вам и так неплохо, как я понял.
– Да, да, конечно. Мне сейчас лучше побыть одному. Спасибо вам за беспокойство. Всегда приятна забота со стороны незнакомого человека.
– Незнакомый человек иногда временное явление, – глубокомысленно сказал старик, а потом хихикнул про себя, будто о чем-то вспомнив. – Но чаще постоянное. Я когда-то прочел в одной общественной уборной любопытное четверостишие:
Незнакомец, незнакомец,
Как живете? Как дела?
Вы мне кажетесь знакомым.
Что вы делали вчера?
И такое кто-то написал в общественной уборной! Сидишь и читаешь перл на двери среди блевотных рисунков и надписей-подписей-росписей.
– Действительно, симпатичное четверостишие. Побольше бы такого писали в общественных туалетах, да и вообще…
– Да, приятный стих – не псих. Не раздражает, а успокаивает. Все, не буду вам надоедать. Всего хорошего!
– Всего хорошего и вам!
И когда Стар опять остался один, он закрыл глаза, прошептав в тысячный раз: «Когда откроешь ты глаза» и услышал голос, звучащий изнутри:
Для того чтобы увидеть, как я открываю глаза,
Тебе пришлось закрыть свои.
Пусть я буду твоим сном, а ты моим.
Когда закроешь ты глаза —
Пусть ты будешь моим, а я твоей.
Когда закроешь ты глаза,
Я буду твоей явью,
Ты будешь моим сном.
Когда закроешь ты глаза,
Когда закроешь ты глаза.
3. Раньше смерти не умрешь
По спящему отделению «Депрессия» шел человек. Шел и шел себе. И куда он шел, никто кроме него и не знал. Да и кто думал об этом? Этим человеком был Ржевский, и направлялся он к окну. Поэт подошел к окну и огромным черным фломастером нарисовал на стекле что-то. напоминающее старуху с косой, под рисунком написал крупными буквами: «РАНЬШЕ СМЕРТИ НЕ УМРЕШЬ», а под заголовком и само стихотворение:
Смерть ждет каждого из нас,
Кем бы ни был ты.
И боятся ее не стоит.
Она придет тогда,
Когда твоя звезда
Погаснет.
Но что поделаешь,
И звезды, как ни прекрасны,
А гаснут.
Но когда живешь,
Помни:
Жизнь – удача.
И постарайся вспомнить —
Когда-то,
Когда ты был еще не рожден,
Где-то на Небесах
Кто-то заметил, что ты часто плачешь,
Что как на Небесах ни чудесно-прелестно,
Ты тоскуешь,
Ты чего-то ждешь…
И вот ты родился —
На свет появился.
И живешь.
И чего-то так же ждешь.
Но помни:
Раньше смерти не умрешь.
В отделение вошел Стар. Он возвращался из леса. В его глазах блестели слезы, а губы шептали: «Когда откроешь ты глаза». Он даже не заметил Ржевского, стоящего у окна. Зато Ржевский заметил своего приятеля.
– Привет. Ты как лунатик, – окликнул его Ржевский.
– Привет, – ответил Стар, – неужели я так выгляжу?
– Это мягко сказано. Ты и есть, и одновременно тебя нет. Ты давно так надолго не отлучался. Ты нормально себя чувствуешь?
– Если честно, то не знаю. Я очень устал. Я болен, болен песней. Или, может, строкой из песни, или… я даже не знаю, как объяснить. Когда откроешь ты глаза… Когда откроешь ты глаза… Меня это околдовало, унесло.
– Может, ты и болен. Но твоя болезнь прекрасна. Пусть же она будет неизлечимой!
– Не знаю, долго ли я выдержу. Это ты написал на окне?
– Да, небольшое стихотворение. Ты же знаешь, когда мне не спится, сочинение стихов единственное, что помогает мне убить ночь и послать бессонницу прочь. Прочти, может, тебе понравится. Заодно, может, чуть отвлечешься от песни.
– Не знаю, в состоянии ли я сейчас что-то воспринимать. Хотя попробую.
– Если тебе тяжело, то не напрягай себя.
– Да, нет. Мне не трудно. Мне вообще нравятся твои стихи.
Стар подошел к окну и, посмотрев на стихотворение, как когда-то Бог на свое творение, прочел его, как себя самого.
– Ты знаешь, вначале было тяжело читать. А потом… Иногда, когда я читаю твои стихи, со мной происходит удивительное. Ты как будто говоришь то, что и я думаю, или нет, то, что где-то живет и во мне незримо, незаметно для меня. А потом, после твоих стихов, у меня открываются глаза. «Когда откроешь ты глаза».
Ржевский был польщен.
– Спасибо. Я знаю, что скверный поэт, но если я не буду писать, я ополоумею еще больше. И мне так приятны твои слова, потому что стихи – моя единственная возможность как-то самовыразиться, как-то дать выход тому, что у меня накапливается и накапливается день за днем, месяц за месяцем, год за годом, а может быть, и век за веком, – кто знает, сколько нам отмерил Буги мэн. Кажется, такое определение-предположение Бога было дано Джони Митчелл в одной из ее замечательных композиций.
– Что делать? И твоя, и моя участь незавидны. И то общее, что есть в наших жизнях, судьбах, душах, иногда открывается мне через твои стихи.
– То, что когда-то было тайное,
Теперь мне кажется печалью.
Как сказал один неплохой старый поэт:
– Да. Мне нравится у него другое —
Когда твой сон, разгаданный друзьями,
Ты видишь вновь, и вновь, и вновь,
Ты веришь в чудо, в жизнь, в любовь
И в ангела над головами.
4. Курить можно и одним пальцем
И вот показалась она. Истина. Иногда ей, как и Ржевскому, не спалось по ночам. Как и поэт, она предпочитала страдать бессонницей, а не принимать снотворное. И без него она принимала достаточно лекарств.
Ржевский обрадовался, когда увидел Истину.
– Когда двоим не спится,
Не спится и троим.
– Да уж, – согласилась Истина. – Ненавижу такие ночи. Что делать в такие ночи? Что делать?
– А вера? А молитвы? Мне кажется, тишина способствует единению с Богом.
– Не только тебе, – сказала Истина. – Иногда в такие ночи мне полностью раскрывается картина мира. И становится жутко. Мир неисправим. Мир дефективен еще больше, чем самый тяжелый больной из отделения «Конверты».
– Да, – сказал Ржевский. – Там еще те больные. Один Мальчик-с-пальчиком чего стоит.
– А что с ним? – спросил Стар.
– Еще тот кадр. Ему кажется, что у него всего лишь один пальчик – мизинец на левой руке. И он постоянно хватает людей за руки, чтобы оторвать у них пальцы, а затем пересадить себе.
– Не знаю, – сказала Истина. – Я слышала, что он просто хочет, чтобы все были подобны ему. С одним пальцем. Ему кажется, что человеку достаточно одного пальца. А все остальные лишние. И, как и обычное лишнее, мешает жить. Да больше того – вредит. Люди курят двумя пальцами. А что такое курение? Сколько понаписано о вреде курения, а толку? А скажем, будет у людей только один палец, попробуй покурить?
– Чушь, – сказал Ржевский, – Курить можно и одним пальцем.
– Может быть, – продолжала Истина, – Дело не в этом. Я поняла его по-своему. Люди больше злые, чем добрые, и чем больше зло оснащено, тем оно опаснее.
– Истина, тебе так кажется. Ты еще и убедишь себя в том, что он мученик и тому подобное, – сказал Ржевский.
– Безумие – состояние, за которым следуют Небеса. В безумии сокрыт глубочайший смысл, разгадать который по силам лишь немногим, – сказал Стар. – Но можно и ошибиться.
– Возьмите оружие, возьмите всех этих гадких политиканов, гнусных убийц, садюг. Кто они без пальцев? А мерзостный журналюга? А ублюдочный литератор? – продолжала гнуть свое Истина.
– Писать можно и одним пальцем, – не сдавался Ржевский. – И при помощи зубов и ног.
– Да, но сложнее, значительно сложнее, – сказала Истина. – Да пойми, это может быть всего лишь промежуточный этап в борьбе со злом. Маневр. Он может быть и неудачным, и ничего не дающим. Просто попытка.
– Отделение «Конверты» вообще славится разного рода борцами, если исходить из твоей трактовки его безумия, – съязвил Ржевский.
– Скрытый смысл безумия? А даунизм? Нельзя объяснить его как своего рода трюк Дарующего Жизнь? – сказал Стар.
– В смысле? – спросила Истина
– То есть Дарующий Жизнь дает жизнь, но не дает новому человеку возможность понять, что мир, в котором он живет, нелеп, безобразен, жесток и тому подобное. Ведь Он милосерден к нам с момента нашего рождения и до нашей смерти. И каждый раз его милосердие выражено по-разному.
– Да, вряд ли он милосерден. Человек просто рождается больным, и все. Если бы Он был милосерден, то такие люди не рождались бы, – сказал Ржевский.
– Он может радоваться жизни не меньше, чем ты. Понимает он это, не понимает? Откуда мы знаем, что у него творится в голове? – сказала Истина.
– Он не как мы. Мы не как он. И все, – поддержал ее Стар. – Наш мир ему чужд, несмотря на то, что он похож на нас.
– Кто-то зовет меня дегенератом,
Кто-то странным акробатом,
А кто-то братом, —
сказал Ржевский.
– Кто-то дебилом
Кто-то гориллой,
А кто-то светилом,
– вторил ему Стар.
– Кто-то сладкоежкой,
Кто-то Белоснежкой,
А кто-то богиней,
– досказал за Истину Ржевский,
– Светлой, как иней.