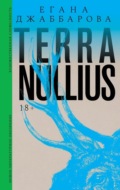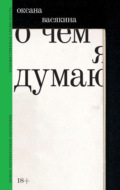Buch lesen: "Слова в песне сверчков"
УДК 821.161.11
ББК 84(2Рос=411.2)6
Б24
Редактор серии – Д. Ларионов
Предисловие О. Балла
Михаил Бару
Слова в песне сверчков / Михаил Бару. – М.: Новое литературное обозрение, 2025.
«Только напишешь „бабье лето“, а оно уже и кончается, а ты еще и ни слова не написал о нем из того, что раньше не было бы написано другими или даже тобой самим». Новая книга М. Бару резко отличается от предыдущих, в которых были собраны очерки о провинциальных городах. На этот раз писатель предпринимает иное путешествие – вглубь самого себя. Поэтичные, фрагментарные и тонкие эссе, составившие книгу, рисуют калейдоскопический мир автора, где находится место самым разным вещам и голосам. От деревенской жизни и внимательного наблюдения за природой до рефлексии литературного труда и парадоксов российской истории – Бару остается таким же внимательным очеркистом и хроникером, только теперь обращает свой взгляд на окружающую его реальность и собственную внутреннюю жизнь. Михаил Бару – поэт, прозаик, переводчик, инженер-химик, автор книг «Непечатные пряники», «Скатерть английской королевы», «Челобитные Овдокима Бурунова» и «Не имеющий известности», вышедших в издательстве «НЛО».
В оформлении обложки использовано фото автора.
ISBN 978-5-4448-2909-7
© М. Бару, 2025
© О. Балла, предисловие, 2025
© Н. Агапова, дизайн обложки, 2025
© ООО «Новое литературное обозрение», 2025
Ольга Балла
Путешествие вглубь
В отличие от уже известных читателю книг Михаила Бару, посвященных путешествиям вдаль и вширь, – эта – о путешествии вглубь (времени, пространства, неосуществившихся возможностей, самого себя). Она переполнена движением нисколько не менее предыдущих – только это другое движение. В значительной части этого текста повествователь физически почти никуда не перемещается – разве что по окрестностям своего деревенского дома (который и сам по себе – точка насыщенного движения). Тем не менее динамика – особенно в пределах кажущейся статики – здесь весьма интенсивная.
Чем дальше, тем больше эта книга – не то что парадоксальна, она и с самого начала такова, – но раскрывается, усиливается в своей парадоксальности, чуть ли даже не неистовствует в ней (о, главы пятая, шестая… а начинается это уже в третьей главе, да и в первой кое-что намечено… но не будем торопиться и раскрывать карты!).
На самом деле, одной этой книги хватило бы на несколько – очень разных (примерно десять, по количеству ее частей, – их хочется называть главами; так и сделаем). В том, что все эти возможные книги спрессованы в одну, есть своя логика: при всех их тематических различиях у них есть структурное родство – они устроены одинаково. Почти все главы собраны из самодостаточных фрагментов-эссе – кроме седьмой, «Отряда космонавтов», состоящей из полноразмерных рассказов.
Кроме того, есть несомненная логика в их последовательности.
Начавшись как смиренный нонфикшн, как поденные записи о деревенской жизни (глава первая – «Слова в песне сверчков»), в главах более поздних книга – не теряя нонфикшн-компоненты – становится собранием замыслов и вымыслов, запасом сюжетов для текстов любых мыслимых жанров – в модусе сначала альтернативной автобиографии (такие фрагменты есть уже и в «деревенской» главе – там, где говорится, например, о том, что было бы с повествователем, родись он не самим собой, а помещиком на двести лет раньше), а дальше уж и самой альтернативной истории – представленной в альтернативных биографиях разных жизнеопределяющих людей, прежде всего Петра Великого. Что, например, было бы, победи в противостоянии Петра с сестрицей Софьей Алексеевной не он, а Софья с Голицыным? – понятно, что вся история пошла бы совсем в другое русло…
«…и не Голицын, а Петр поехал бы в Пинегу. И бород никто никому не брил бы и в кургузом голландском платье не принуждали бы ходить, а наоборот Боярская Дума специальным указом запретила бы его. Тогда бы стиляги у нас появились ровно на четверть тысячелетия раньше. Днем богатые ходили бы в кафтанах, ферязях и фелонях, а бедные в шелупонях. Те, которые служили бы на государственной службе, в Приказах, даже накладные бороды носили бы, чтобы избежать денежных штрафов за отсутствие бород. И пахли бы только луком, чесноком и конским потом. И пили бы только квас и сыченый мед, а вечером, а ночью… ассамблеи, декольте молочной спелости, парики, шелковые чулки, запрещенные менуэты, гавоты, все в табачном дыму, в брызгах мальвазии, и ни одного слова по-русски. Письма и любовные цидулки только по-голландски или аглицки. И вся фронда собиралась бы в Архангельске и Пинеге».
Кстати, жизнь Петра, а с тем и судьба наша, в книге вообще изобилует альтернативами. Эта – не единственная.
Другие жизни предложены тут и Пушкину, Чехову, Гоголю (у него инобиографий тоже несколько), Толстому, Горькому, Суслову, Авдотье Истоминой, сыну Ленина и Инессы Арманд (в одном из ответвлений истории все-таки умудрившемуся родиться), самому Ленину, некоторым литературным персонажам: Анне Карениной, Хлестакову. Что и того редкостнее – нащупаны варианты альтернативной культуры (в которой возможно, например, религиозное в буквальном смысле поклонение литературе, сверчки-музыканты, игравшие на скрипочках Гайдна, Моцарта и Генделя (целая культура сверчковой музыки!), а также детская «стена плача» в одном из русских городов, в которую дети вкладывают записки с просьбами об исполнении желаний… и даже альтернативной биологии, что ли (изготовление чиновников из бревен). Все это – в свернутом виде, скорее как формулировки замыслов, заготовки для предстоящего развития, концентрат для возможного разбавления… Книга набита сюжетами, как семенами – бери да выращивай (и да, каждого сюжета хватило бы на отдельный роман). Впрочем, читаются они и так, а пожалуй, в таком виде даже сильнее действуют: читатель получает все возможности развернуть все это, туго свернутое, в собственной голове.
(Но это – те самые пятая («Скелет недоразвитого поросенка», о музеях – воображаемых, возможных и, особенно, – о невозможных) и шестая («Послание к уклонистам», где о всякого рода альтернативах вообще) главы, в которых фантастичность, как мы заметили, именно что неистовствует. А есть еще глава четвертая, кулинарная, «Литровая бутыль с широким горлом», – совсем заземленная: чистое торжество чувственности, возможностей осуществимых и осязаемых. Впрочем, воображаемых тоже.)
Кстати, можно заметить: в тех же самых главах, что полны разного рода альтернативами, резко нарастает присутствие истории, остающейся в первой, «деревенской» главе на дальней периферии внимания.
Достигнув пика фантастичности, книга вдруг делает еще один резкий разворот. Она возвращается – на новом уровне – к невымышленному (в седьмой главе, там, где большие развернувшиеся рассказы, только три неавтобиографических; кстати, в одном из них все-таки есть альтернативная история – о чем не очень внимательный читатель догадается, пожалуй, не сразу), остальное – чисто автобиографические сюжеты, не скованные хронологической последовательностью и связанные, скорее, последовательностью ассоциативной. А далее, в главах восьмой («Облака и птицы»), девятой («Фотография с пиццей внутри») и самой маленькой десятой («Множество мелких карманчиков» – разнообразие межчеловеческих ситуаций в диалогах) еще одно возвращение – к фрагментарности, дающей наибольшую свободу. Возможности свободы, даруемые нам и фрагментом, и эссеистикой вообще, Бару использует вовсю, непредсказуемо переходя от одной темы к другой: от укропа к детству, от детства к микроскопу, от микроскопа – к чтению… Свобода – одна из ведущих характеристик этой книги, определяющая многие остальные.
И вот о последовательности глав и ее логике. Очень естественным кажется увидеть книгу в целом как дерево. Первая часть, о деревенской жизни – подземные корни, вторая, о жизни городской, третья («Писатель бросает писать»), о странностях и парадоксах писательства, и четвертая, о радостях и чудесах кулинарии и гастрономии, – ствол. Выше раскидывается крона – всем этим многообразием иных возможностей глав пятой и шестой. Рассказы седьмой, почти исключительно мемуарной главы – не плоды ли на этих ветвях? Фрагменты трех заключительных глав – не летящие ли во все стороны семена?
О деревенской главе, заземляющей все остальное, дающей ему основу, о той, где передвижения в пространстве, вопреки, казалось бы, авторским обыкновениям, минимальны, хочется поговорить особо. Она – как бы книга в книге, у нее есть собственные, отдельные смыслы.
В некотором смысле происходящее здесь еще интереснее и содержательнее, чем всем известные (и, надеюсь, теперь уже неотъемлемые от нашего культурного самосознания) книги того же автора о малых, глубоко провинциальных русских городах, путешествуя по которым, описывая которые, Бару делает их видимыми для культуры в целом. – В первой главе книги он делает, по существу, нечто очень похожее – и куда более неожиданное: подробно рассматривает то, что, как правило, не слишком замечается – и не требует специального проговаривания, что оказывается на периферии внимания: повседневное существование человека, погруженное в природные ритмы, на многих уровнях согласованное с ними. Тоже своего рода провинция, как будто удаленная от всех центров – без которой, однако, никакой центр не сможет существовать. Подземные корни больших культурных смыслов. Совершенно человекосоразмерные корни.
Строго говоря, о философствовании, об извлечении, выдавливании, вытерзывании из плоти жизни каких-то отличающихся от нее, отделимых от нее смыслов (или, скажем, метафизических перспектив) у (внимательнейшего!) Бару речи как будто не идет (прекрасно понимаешь, что оно тут и не требуется). Куда скорее все, чем заполнены эти страницы, – созерцательная практика: особенное такое созерцание, деятельное, двигательное, с вовлечением всего тела от мускулов и суставов до обоняния и вкусовых рецепторов, – повествователь этой книги любит движение и живет большею частью в нем. Есть смыслы, представляемые головой, есть и те, что проживаются всем человеком в целом, – и тут как раз такие.
(Впрочем, к метафизическим перспективам, кажется, относится то же самое…)
Во всяком случае, Бару, не терзая жизни толкованиями, просто (на самом деле сложно) всматривается в нее, вслушивается, вчувствуется, улавливает ее ассоциативные подтексты. Он показывает читателю, дает ему пережить содержательность, осмысленность, самоценность будней – не подчиняемых никаким высоким задачам, не вписанных как будто даже в ход истории. Заметим: мы не найдем здесь не то что примет актуальных исторических событий – но даже ни единой даты (от которых, впрочем, свободна и книга в целом).
Подобно фрагментам последующих глав, это своего рода дневник – поденные записи, притом событий не столько чрезвычайных, сколько обыденных, типовых, серийных (тем заметнее, что каждое – индивидуально) и еще того более – событий не столько внешних, сколько внутренних. Но датируется этот дневник – исключительно погодными переменами, метеорологическими событиями… это ли не свобода от кошмара истории, от суеты и морока ее? – от той самой истории, которой книги Бару о малых городах переполнены, из вещества которой они состоят. В эту книгу автор впустил ту жизнь, которая не вместилась в его травелоги и которая на самом деле – основа всего происходящего вообще. Жизнь помимо так называемых больших событий, – жизнь, которая Большое Событие сама по себе.
Состояния здесь вообще важнее действий, а действия особенно важны тогда, когда они – состояния. Когда в них можно зависнуть:
«…И вдруг оказывается, что можно просто стоять у окна с чашкой остывшего чая в руках и не отрываясь смотреть и полчаса, и час, как два снегиря скачут по веткам рябины, как клюют глазированные льдом сморщенные красно-черные ягоды, как осыпается рыхлый снег с веток… И начинаешь про себя, про снегирей и рябину понимать такое, чего раньше… ну не то чтобы совсем уж понимать, а начинать понимать или даже только догадываться, что пришла пора, когда вид двух скачущих по веткам рябины снегирей куда интереснее, чем многое из того, на что ты смотрел не отрываясь раньше, что только теперь…»
Предпочитает автор будни определенного типа: проводимые за пределами больших городов (этих накопителей исторического времени и исторической памяти; им еще достанется от автора в следующей, «городской» главе, и не в ней одной). Город, который повествователь этой прозы время от времени поневоле навещает («надо садиться за руль и ехать в город, чтобы завтра утром еще затемно втиснуться в переполненный вагон метро и к девяти быть на работе») – он вообще место неправильного, ложного существования (возможно, автор ради пущей выразительности утрирует и нагнетает, но вряд ли радикально), которое можно разве что претерпевать, да и то вообще-то не стоило бы: «Предзимье в городе еще хуже зимы. Проснешься, когда только начинает светать, и чувствуешь себя молекулой, которую насильно заставляют участвовать в броуновском движении». Совсем другое дело – в «глухой деревне во Владимирской области», в соприкосновении с природой, с ее ежегодным повторением неповторимого: «снег начался дождем и им же закончился…», «за окном идет холодный осенний дождь…»; «ветра нет». Это вот так важно, что едва ли не каждый из фрагментов этой главы начинается с такой метеорологической заметки – отталкивается от нее – и, как и было сказано, – вглубь, вглубь, в разную ширину этой глубины… но оттолкнуться надо непременно. «Смотришь на уже чуть подвяленные, кое-где покрытые ледяной глазурью ягоды рябины, на почерневшие от первых заморозков резные листики, дрожащие на ветру, и думаешь о том, что зима будет холодной, что вот это… ну, то, что было и не прошло… лучше бы его и не было, но… без него было бы еще хуже, что все равно ничего не вернуть, а если и вернуть, то что с ним делать, что ничего уже не попишешь, а если и попишешь, то не отправишь, а если отправишь, то потеряют на почте или вернут нераспечатанным, о том, что голова болит даже когда ветер не дует, что ветер внутри этой самой головы ледяной и колючий, а раньше был теплый и кружил голову, а теперь голова кружится и без него так, что только держись, чтобы не упасть и не сломать себе что-нибудь, о том, что все это уже давно описал Есенин… веселого и беззаботного не думаешь никогда. Про то, что все образуется, что наладится, склеится, срастется так, что и швов не останется, разбогатеется, простится, забудется, повеселеет… нет, про это почему-то не думается. Бог знает почему. Другое дело рябиновка. Смотришь на нее, смотришь… да и выпьешь».
От рябины до рябиновки – как бы один шаг, но какой размашистый, многособирающий. У Бару тут все шаги такие.
И притом природа здесь – все-таки не главная героиня (хотя о ней много тончайших наблюдений: о том, например, как различаются между собой весенняя, летняя, осенняя – «особенно та, которая бывает перед первым снегом» – и зимняя тишина, – поверите ли, радикально. То же касается пленок, образующихся в разное время года «на поверхности снов»). Куда скорее она – постоянная собеседница; свидетельница всего; стимул внутренних – именно внутренних! – движений; фон, наблюдаемый так пристально, что превращающийся, пожалуй, иной раз и в фигуру – но тем не менее фон. А главный – человек (вот этот, единственный человек как пример всего человеческого сразу) и то, что с ним делается. Вплоть до полетов во сне (которые, как и качественное сновидствование вообще, конечно, только в деревне и возможны): «В городе сны короткие и юркие, точно мыши. За ночь их может промелькнуть не меньше десятка». То ли дело в деревне: тут «сон всего один, и он на всю ночь – медленный и тягучий, как патока, текущий плавно и широко, как река, по которой ты плывешь на лодке, опускаешь весла в молочно-белый туман или в неповоротливые облака, и у тебя с крючка бесконечно срывается, срывается, срывается окунь килограмма на три весом или щука килограммов на пять, и тут появляется мышь, которая, оглушительно шурша, начинает прогрызать огромную дыру в реке, в лодке, в щуке и даже перегрызает твою удочку пополам, и ты бросаешь в мышь тапкой, но тапка попадает в часы, на которых половина шестого утра, и тонет вместе с ними в реке».
То есть что ни возьми в этой его деревне, куда, пожалуй, не всякий по доброй воле и поедет, чего ненароком ни задень – все оказывается громадной, разнородной охапкой сырого свежего бытия. Едва удержишь. Бару удерживает.
Ну, наверно, все это потому, что только деревня с окрестными полями и лесами позволяет автору быть человеком во всей полноте самого себя. О, он нисколько ее не идеализирует. Он вообще ничего не идеализирует, он довольно скептичен по основному умонастроению. Но как он в нее всматривается и сколько разного втягивает в себя каждый акт такого всматривания! (Вообще-то, в пределе, едва ли не всю жизнь…)
«Зимний лес – гулкое, как выстрелы, карканье ворон, снег с еловой ветки, упавший за шиворот, следы, в которых не видно дна, пар от мокрых рукавиц и параллельные, то и дело пересекающиеся кривые лыжных следов; весенний лес – запах черной, еще мерзлой, земли, текущий во все стороны, захлебывающийся талой водой ручей, тонкая белая полоска синей от холода кожи между свитером и джинсами, а на ней крупные пупырышки, которые только губами и можно растопить; летний лес – горячие капли золотистой смолы на медной коре, волосы, пахнущие шашлычным дымом, белый, в ромашках, сарафан, испачканный красным сухим вином, и щекочущая сосновая иголка, которую никак не достать, если не расстегнуть две тысячи мелких, как божьи коровки, пуговиц, стремительно расползающихся под пальцами по спине и груди; осенний лес – длинный и тонкий солнечный луч с нанизанными на него березовыми и осиновыми листьями, одна-единственная, самая маленькая высохшая палочка в телефоне, невыносимо долгие, бесконечно далекие гудки и больше ничего».
И это все от одного только вида (и запахов, и звуков…) окружающего деревню леса.
История, на самом деле, присутствует и здесь. И даже интенсивно, более того – едва ли не постоянно. Но – как воображение или воспоминание: большое, безличное, всеобщее, как часть ассоциаций, способных окутать совершенно любой предмет, но так же точно способных от предмета и отвалиться без ущерба для этого последнего:
«Ночью ударил мороз. Зима пришла, растеряв по дороге снег. В поле все точно такое же, как и осенью, – рыжие и черные кусты, поломанные и погнутые ветром стебли, два или три белых облака величиной с салфетку каждое, намертво приклеенных к ледяному голубому небу, и все. Точно все, что есть вокруг, отступало, отступало как французы по старой Смоленской дороге, но кто-то сказал всему, что есть вокруг „поле волнуется три“, и оно замерло. Небо и воздух вдруг стали такими прозрачными, что дорога, которая идет через все поле к горизонту, превратилась в бесконечную, и на другом ее конце, если как следует сощурить глаза, можно увидеть Африку, слонов и жирафов, бредущих в вязком знойном мареве, и даже крошечного цвета эбенового дерева воина с копьем, осторожно крадущегося за добычей по окаменевшим от мороза комьям грязи и по высохшим черным и рыжим кустам пижмы и чертополоха».
Как легко заметить уже хотя бы по одному только этому фрагменту, автор если уж и читает природу, то в значительной (в решающей!) степени через культуру с цивилизацией (в одно только описание ноябрьского утра вломились, как видим, по меньшей мере две исторические эпохи и две цивилизации. Если дочитать этот фрагмент до конца – добредем и до третьей эпохи). Но природа ему гораздо интереснее. Собственно, она только одна по-настоящему и интересна, а культура, цивилизация, вросшие в память до почти-неотличимости от нее, почти растворившиеся в ней цитаты из разных литературных текстов разной степени классичности («При слове „будущее“ откуда ни возьмись выбегают черные мыши…»; «Дни поздней осени бранят обыкновенно утром…», «Бразды пушистые взрывая, бежать по заснеженному полю куда глаза глядят…», «Вроде все как всегда, как и в прошлом, и даже в позапрошлом году, – то же небо опять голубое…», «Трудно быть Богом – надо все предусмотреть…») – просто поднесенные к природе, привычные глазу начитанного человека лупы. Чтобы лучше было видно.
Самое же лучшее, что можно сделать с культурой-цивилизацией, а заодно и с социумом, – вовсе от них отвернуться:
«Если не оборачиваться на шум машин, едущих по шоссе, на свист электричек, на пьяные возгласы мужиков на автобусной остановке, на истошные крики телевизора, на маленькую зарплату, на незаконченный ремонт, на отсутствие у жены норковой шубы, на присутствие ее у жены начальника, а только идти по заснеженному полю на лыжах, смотреть на темнеющий впереди лес, на снежные бурунчики, вырывающиеся из-под острых кромок лыж, слушать свист ветра, сухое постукивание лыжных палок, пробивающих наст, вовремя объезжать торчащие из-под снега сухие стебли прошлогодних репейников, то через минут пятнадцать, в крайнем случае двадцать пять, жизнь начинает налаживаться. Главное – не снижать темпа».
(Интересно, что создания культуры с цивилизацией Бару нет-нет да и опишет в природных терминах – как, надо думать, наиболее адекватных: «посмотришь <…> на церковь, которая растет на дальнем краю этого поля уже полтораста лет, на колокольню этой церкви, которая давно засохла и вот-вот отвалится…».)
А еще история – в смысле прошлого, то есть с вытащенным из нее жалом актуальности – разворачивается тут в воображении, особенно в милом сердцу автора воображении гастрономическом. Вот повествователь представляет себя барином двухсотлетней давности, принимающим у крестьян разные интересные подношения (та самая альтернативность внутри нонфикшна): «Варенья разные, вроде земляничного, черничного, вишневого, крыжовенного, из черной и красной смородины, райских яблок, кизилового, абрикосового, клубничного – сейчас на женскую половину. Кроме вишневого, конечно. Мутный мужицкий самогон, тот, который крестьяне гонят для себя, который еще перегонять и перегонять с березовыми углями, марганцовкой, изюмом, укропным семенем и молоком, который потом еще настаивать и настаивать на рябине, землянике, хрене, красном перце, ржаных сухарях, лимонных корках и клюкве, в больших стеклянных бутылях, оплетенных ивняком, бутылках поменьше и в совсем маленьких бутылочках, с горлышками, залитыми сургучом, – само собой, на мужскую».
(Иногда и актуальная промелькнет, – особенно если приходится контактировать с цивилизацией и куда-нибудь ехать: «и будешь смотреть на пробегающие мимо задние стенки гаражей, исписанные яркими, разноцветными надписями вроде „Леха, мы с тобой“ или уже выцветшими „Мы его не выбирали“», автор все видит и все понимает, но – взгляни – и мимо… Поезд же тем и ценен, что в нем можно «думать, что хорошо бы поезд не останавливался еще месяца два или три, или даже года полтора, чтобы можно было приехать… да никуда не приезжать, а просто бесконечно катить „мимо ристалищ, капищ, мира и горя мимо“ и нигде не сходить – даже на каком-нибудь крошечном, усыпанном теплой солнечной пылью полустанке в глухой провинции у моря. Никогда». И вообще «в такие смутные времена, как наши, хорошо быть теоретиком – математиком или физиком».
О, какое страстное согласие это вызывает.)
В целом здешние события (лучшие из здешних событий; их тут много) легко размещаются не на однонаправленной линии времени, но на его замкнутых, повторяющихся кольцах. Зима – весна – лето – снова зима (что может быть надежнее). Вызревание времен года друг в друге. Их рождение, созревание, увядание – и снова. (В природе автору вообще очень мила вневременность – даже когда в ней как будто нет ничего радостного: «За окном серый, мышиный день без всякого, хоть бы и самого маленького, числа». На самом деле радостное еще как есть: поздняя осень, по признанию автора, вообще лучшее время в деревне. Особенно когда все «дачники разъедутся по своим городским квартирам и на всю улицу будет светиться десяток окошек».)
Эта кольчатость вкупе с составленностью текста книги из многих фрагментов (освобождая происходящее от принуждений, неминуемо связанных с сюжетом, интригой, конфликтами…) делает возможными разные – и равноправные – читательские стратегии: книгу можно читать подряд (а потом – опять сначала, круговорот же), а можно – в любом порядке с любого места: ни один из фрагментов при таком чтении не потеряет ничего, поскольку каждый из них, глубоко друг с другом связанных (чем? – многим: от лежащей в их основе практики повседневного существования до общего, высокопарно говоря, миросозерцания) – самодостаточен.
(Вообще-то ближайшие родственники этих фрагментов – стихи.)
Да, эти тексты, по видимости нередко простодушные, на деле же по сложноустроенности гораздо чаще соперничающие с родственницей-поэзией (на самом деле – сотрудничающие с нею, потому что они в значительной мере она), – конечно, о поэтичности всего происходящего (а также – о разнообразии чувственных радостей, которые почему-то принято считать «простыми», в то время как они весьма сложны; у Бару это в значительной степени радости гастрономические, он пишет о них много, подробно, с удовольствием и знанием дела: «Мускулистый и крепкий, кружащий и куражащий голову дух самогона, настоянного на зверобое и чабреце. Уютный, обольстительный запах румяных пирогов с капустой, теплоту и гладкость которому придают полные, округлые руки и ямочки на щеках. Хрустящий аромат соленых огурцов с нотками укропа, чеснока и листьев хрена»). Но еще – об осмысленности, смыслоносности всего сущего, о переполненности его значениями. Даже того, что ввергает в уныние, злит, раздражает, обескураживает, подавляет, тут и такого преизрядно. А с жесткостью суждений у автора тоже все хорошо – но эта жесткость вместе с наполняемыми ею суждениями, похоже, никогда не самоцель (зловеселое ерничанье, которого тут тоже немало, – пожалуй, – иногда и самоцель: ради удовольствия от процесса игры с жизнью, горьковатого смеха над ней). О социуме и его обитателях тут сказано немало беспощадного, но все-таки кажется, что социальная критика – совсем не главное его занятие (скорее, она – часть удивления печальным нелепостям человеческого бытия вообще). Поэтому, скажем, речь о запущенном разрушении сельской церкви и украденном кирпиче – чего, казалось бы, социальнее – и начинается разговором о густом тумане с белыми дырами, и в него же (в разговор, в туман) уходит.
Обратим внимание и на то, как сложен и разнообразен автор в этой книге на уровне интонаций: от нежной взволнованной лирики до маскирующей ее, защитной иронии, включая самоиронию (они, на самом деле, с великим трудом, если вообще, отделяются тут друг от друга – да и зачем отделять?). Может показаться, что последняя преобладает; пафос сбивается регулярно и успешно. Но это, прежде всего, потому, что сильна первая. А кроме того – вторично по отношению к основному действию книги: пристальному вниманию к самой ткани жизни, ко множеству ее нитей и узелков.