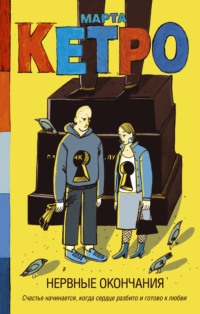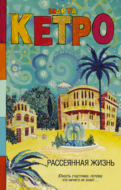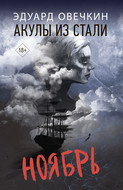Buch lesen: "Нервные окончания"
© М. Кетро, 2021
© ООО «Издательство АСТ», 2021
Перечитай
Беда, беда у госпожи: её красоту слизали кошки.
Поздно искать виновного и наказывать некого: к домашним она была строга, но милосердна, а кошки, божьи души, что с них взять. Кто это сделал – полосатая Александрин, чёрная Мицуко, белолапая Фелисити, рыжий Васья или все вместе вылакали ради круговой поруки? А кто оставил блюдечко с красотой на ночь у зеркала? Бестолковая Таша недоглядела или безупречная Наталия вдруг совершила роковую ошибку? Могла бы вызнать, но теперь неважно. Важно лишь то, что её красоты, которая десятилетиями не меркла, лишь переливаясь от времени перламутром, не стало. Проснулась утром, а будто свет погасили, и ни одна баночка не помогает.
Что по этому поводу думала госпожа объяснять не надо, а близкие всякое говорили.
Супруг госпожи отшатнулся, и хотел было осенить себя жестом, отгоняющим злых духов. Но быстро опомнился, присмотрелся и привык. Жизни-то вместе сколько прошло – годы! Тем более, половина имущества на жену записана. Надо принимать родного человека как есть.
Мать госпожи пожала плечами: ничего не поделаешь, зато наша красота продолжается в юных дочерях. «У меня мальчики, – сердито ответила госпожа. – И они уже лысеют».
Дети госпожи обрадовались: ну наконец-то. «Хочешь, мы тебе дачу купим? Будешь там выращивать укроп – он живучий, и за Кристиночкой с Вадиком на каникулах присмотришь». Госпожа было взяла внука на руки, а он заревел. «Он у нас такой, – сказал сын, – любит девушек молоденьких, от тётенек плачет. Но привыкнет, ничего».
Подруги госпожи велели не думать ерунды – с возрастом только краше и значительнее становишься, теперь настоящая зрелая женщина, с большой внутренней силой и уверенностью в себе. «Это не уверенность, а второй подбородок», – ответила госпожа. Как быть, если лицо её не из тех, что высекают из мрамора – на них время только углубляет линии, не размывая черт. Её красота была лёгкая, как песенка, и трепетная, будто крыло бабочки. Отзвучала, улетела. Сдул ветер серебряную пыльцу, и лицо стёрлось, не разглядишь – не запомнишь.
Мудрецы давали советы, но все ужасные. Один сказал, если кошки съели, красота теперь в их испражнениях, надо мазать на лицо, пока тёплые, многим женщинам помогало. Другой возразил – это ерунда, только мощная магия спасёт. Отслаивают женщине кожу на лице до самого носа, натягивают и снова пришивают с молитвою, получается маска молодой девушки. Никто разницы не заметит, только изредка, в полнолуние и при ясном небе настоящий облик может отразиться в горном озере – а зачем тебе, госпожа, в горы переться?
Затосковала госпожа от таких слов и отказалась.
Любовники госпожи повели себя по-разному.
Старший захохотал: а нечего было надо мной смеяться, дурачком называть. Ну да ладно, куда деваться, я к тебе привык, буду с некрасивой спать, но только смотри, веди себя теперь соответственно. Не возносись, не прекословь, радуйся моей доброте и скажи уже, что я умный, а?
Госпожа ответила, что обязана врать только маме и мужу, а любовников для другого греха заводят. И сбежала.
Младший ничего не говорил, но вдруг уехал в Таиланд на полгода, потому что нужно разобраться в себе.
А средний был всё так же уважителен и нежен, но появились возле него девушки с лицами фарфоровыми и сияющими, будто стало ему не хватать света, и в дом внесли уличные лампы.
Госпожа тогда удивилась и подумала: вот странно, во многих книгах пишут, что пары распадаются так – мужчина изменяет, а женщина уходит. И вроде бы получается, что сама ушла и самолюбие спасла, но по сути-то он её бросил. Я же всегда была неверная, но никуда не уходила. Говорила: «Я не изменяю – я изменяюсь», прежней твоей женщины больше нет, а мне зачем уходить? Живи теперь со мной, новой, если хочешь. И все хотели. И теперь я опять изменилась, но закончилось всё, смотри-ка, по-книжному. Должно быть, там больше правды, чем казалось.
Выйдя в свет, госпожа обнаружила, что мужчины неожиданно поумнели. Раньше она появлялась, и глаза у них делались глупыми, а речи сбивчивыми, они оставляли свои дела и начинали танцевать перед ней, как олени. А сейчас только бросили на неё взгляд и продолжили умные разговоры, и отвлечь их не было никакой возможности.
А когда госпожа спустилась в метро (карета её временно превратилась в тыкву и стояла в сервисе), какой-то мужчина чуть не убил её дверью. Госпожа шла за ним, ничуть не сомневаясь, что он придержит для неё створку, и потому едва не пропустила удар в лицо, еле успела перехватить. Раньше такого не случалось, а теперь она будто стала невидимой, люди замечали её, только когда натыкались, и тогда говорили: «Куда лезешь, глаза дома забыла?» А глаза, вот они, почти такие же, может, белки немного потемнели, радужка – золотая и зелёная, потускнела, а верхние веки слегка обвисли. Тяжело стало взмахивать ресницами, посылая лукавые взгляды, да и незачем.
Госпожа вернулась домой, не раздеваясь пала на ложе, грубо отослав аккуратную Наталию, и тонким розовым пальчиком, подобным лепестку вишни, оживила айфон. Фейсбук всегда отвлекал её от тяжёлых мыслей, за исключением тех случаев, когда подсовывал контекстную рекламу: «Больше сорока лет? Задумайтесь о пенсии!», «Пластические операции» и «Спорт для пожилых». Но сегодня лента была милосердна к госпоже и предложила только элитный жилой комплекс, трусы-утяжку и тренинг для дам «счастливого возраста» – это ещё можно вынести. «Конечно, в старости счастья всё больше с каждым днём: проснулся и ничего не болит – счастье. Болит, но проснулся в сухой постели? Безусловно, счастье. Просто проснулся? И то молодец! Каждый день новая победа».
Госпожа ещё немного поскроллила и вздрогнула – Фейсбук самовольно запустил ролик, который опубликовал какой-то благородный господин. («Старые пердуны», – пробормотала дерзкая Таша, заглянувшая, чтобы предложить стаканчик белого вина – пусть и среди дня, но женщине в печали это уместно.) Госпожа мысленно с нею согласилась по обоим пунктам. И вина ей хотелось, и песня была древней, как испражнения ископаемых мохнатых слонов, что бегали на могучих ногах по доисторической Земле. Невыносимое механическое диско и липучий мотив, который госпожа мимодумно подхватила соловьиным голосом: «Перечитай! «Малую землю» и «Возрождение» перечитай!» – и тут же прикусила язычок. Молодой даме никак невозможно знать городской фольклор восьмидесятых, откуда бы?
Песенка нехитрая: сначала вступает мужчина с вибрирующим козлетоном, а потом женщина – её наилучший вклад в дуэт состоит в сияющем взгляде, который она устремляет на своего толстоватого партнёра. Как блестят её глаза (и зубы, но это неважно), как она излучает восхищение – тридцать пять лет назад это было самым главным во всей песне.
Женщины, увидев её, сразу печалились, потому что им не на кого было так смотреть – не на этого же. И мужчины мрачнели, понимая, что многое отдали бы за такой взгляд, но от этой разве дождёшься. А Наташка, даром что сопля, но раз и навсегда поняла: только так и нужно. Чтобы от тебя с ума сходили, гляди, будто всё твоё счастье в этом человеке. И глядеть имеет смысл лишь на того, в ком всё твоё счастье.
Она даже помнила, как это случилось впервые. Та школьная дискотека, на которую их, мелких, наконец-то допустили вместе со старшеклассниками. Наташка все мозги вывихнула, придумывая, что бы надеть. Стащила бы у сестры зелёную юбку-солнце, но Катька над своими вещами чахнет, как демон, тряпичница несчастная. Перебирает вечером одежду в шкафу, только увидит пятнышко, сразу вой: «Ташкааа, зараза, руки оторву, опять таскала!» Наташка, конечно, отпирается для приличия, но по правде говоря, было дело – и брала, и пятно посадила. Сама Катька, как робот, никогда ничего не помнёт, не порвёт, не испачкает. Наташка, может, тоже бы так хотела: заплетать патлы в тугую косу, вещи все по плечикам-стопочкам держать, начищать сапоги каждый вечер, содержать ногти в идеальном порядке и зваться Наталией для значительности. Но вещи её не любили, а она их не понимала.
Значит, Катька вечером дома, с юбкой не сбежишь. В штанах идти глупо, повседневно. Хотя у Наташки есть настоящие джинсы «рифле», но мама говорит – это рабочая одежда, пусть и современная. В красном костюме тётьВалином? Папина сестра шила не хуже Зайцева, и мама однажды принесла к ней на платье кусок тонкой кровавой шерсти. Но приложили к лицу, посовещались и решили, что её природный алый румянец, легко вспыхивающий под тонкой белой кожей, с этим цветом не очень. А ей нельзя «не очень», она же красотка, в отличие от Наташки, которая папина дочка и очень, конечно, славная, но не ах. «А давай Ташке пошьём, – предложила тётьВаля, – ей и на костюм хватит». И пошили. Рукава «летучая мышь», вырез узкий и глубокий, но приличный, а юбка годе – на бёдрах в облипку, а книзу расходится тюльпаном. Красиво – не передать. Вот только Наташке совсем не шло, она от этого красного какая-то зелёная становилась. Зато взрослая, мама так и сказала: «Да ты девушка совсем, Наталия, повзрослела не пойми когда!»
И Наташка решилась: раз дискотека со старшеклассниками, костюм в самый раз, и узкие белые лодочки фабрики «Парижская коммуна», которая единственная шила туфли маленького размера на высоких каблуках. Зачесала волосы на одну сторону и губы накусала, чтобы поярче, а щёки напудрила маминым «Лебяжьим пухом». Тут же, конечно, обсыпала всю грудь и кое-как отчистила кофту – ну не давалась ей аккуратность, это надо было другим человеком родиться.
Начинали в шесть, Наташка вышла за полчаса и медленно, нога за ногу, потащилась к школе, но добралась всего минут за десять и долго переминалась в холле, потом на втором этаже, возле актового зала, который не открывали до последнего, а позже у стены, ожидая, когда вырубят свет и врубят стробоскопы. Но и тогда ей было стыдно танцевать, тем более, она поняла, что всё-таки ошиблась с одеждой. Девчонки все пришли в коротеньких варёных юбках, одна она в миди как попадья, лучше бы правда джинсы надела. Наташка мрачно следила за рыженькой Ленкой – модной, с причёской «под мальчика», открывающей затылок. «Щёки со спины видно, а туда же. И лифчик вон просвечивает», – сердито думала Наташка, наблюдая, как та извивается под Тото Кутуньо, выламываясь перед Вадькой – самым красивым мальчиком в параллели. Он был похож на Маяковского – очень юного, нежного пухлогубого Маяковского, но уже с чеканным профилем и наглыми льдистыми глазами. Наташка по нему сохла, и все это знали. Невозможно скрыть, когда ловишь его взгляд, и всё, как вспышка голубого лазера по мозгам – куда шла, зачем, не вспомнить, дар речи пропал, только голову опустить и спрятать лицо под длинной чёлкой.
А он её как не видел. Дурак.
Вечер медленно подходил к концу, мальчишки уже выбегали покурить, кто-то даже портвейн у старшеклассников видел, и тут диск-жокей объявил белый танец. И Наташку, которая три часа мялась от смущения, будто подняло и понесло в центр зала, потому что сейчас или никогда. Она подошла к Вадьке и спросила небрежно: «Пойдём?» Если бы он отказал, был бы позор на всю школу, но он кивнул и пошёл с ней. И тут зазвучала эта чёртова «перечитай», и Наташку вдруг унесло, она почувствовала такую свободу, о которой только в книжках пишут – и начала танцевать ужасно красиво и модно, вытягивая вперёд руки по очереди, и делая кистями такие особенные изящные движения, чтобы пальцы раскрывались, как лепестки. Вадька топтался перед ней сдержанно, как положено парню, и тогда она как бы случайно уронила одну руку ему на плечо, подняла глаза и посмотрела так, как эта Ромина на своего Альбано: как будто он её единственное счастье, как будто её сердце превращается в сияние и изливается из глаз, чтобы Вадьке было светло, и сама она превращается в одну великую любовь. И все вокруг это увидели, Вадька всё понял, страшно покраснел, сказал «Дура, блин!», сбросил с плеча её руку и ушёл.
Она продержалась до самого конца дискотеки, гордо вышла из зала, гордо пошла домой и гордо сняла костюм цвета крови, гордо легла в постель, посмотрела в потолок и только тогда расплакалась. Жизнь была кончена, слёзы затекали ей в уши, а в голове звучала эта беспощадная песня.
Точно как сейчас.
Госпожа с силой прижала ладонь к глазам, выругалась, на секунду превратившись в охальницу-Ташу, и шумно высморкалась во что подвернулось – в угол пододеяльника. Жизнь и правда куда-то делась так быстро, будто длилась всего три минуты, от первых аккордов до последнего гаснущего «феличитаааа» и неуклюжего реверанса крупной длиннорукой певички. И она сама теперь снова некрасивая, зарёванная, не нужная никому. Кто бы ей сказал тогда, дуре, что всё впереди, и счастье её расцветает именно в эти мгновения – когда всё потеряла и на всё способна, всё забыла и всё поняла, и сердце разбито и готово к любви. Для некоторых так выглядит свобода, но для неё на всю жизнь это и было счастьем.
Тогда. А теперь-то, конечно. Куда теперь счастье, когда кошки слизали красоту.
Ведьма
(Инициация)
ГЛАВА ИЗ КНИГИ
Мы живём во времена, когда ведьмой быть модно, это слово – комплимент, и женщины то и дело хвастают своими особыми способностями. Каждая вторая – то зелья варит, то зубы заговаривает, а уж колдовская кровь найдётся в роду у каждой первой. Ольга казалась себе на фоне подруг серой мышью без капли магии, поэтому всерьёз решила исследовать собственное прошлое на предмет хоть чего-то неординарного.
Вот мама – да, особенная. Она любила всё необыкновенное, но более всего ей нравилось самой производить впечатление женщины загадочной и непростой. Выходило так, что в детстве деревенская ведьма буквально гонялась за ней, чтобы «передать дар», а её собственный прадед был цыганом, и от него остались не только словечки на языке ром и размытый дагерротип, но и умение гадать, «глаз», и прочие непонятные, но прельстительные вещи. В самой Ольге не проявилось ни капли кочевой крови, и в цветастых платьях с оборками, которые мама неизменно шила для новогодних вечеринок, она чувствовала себя принаряженной шваброй. Не умела плясать, петь и трясти плечами, поэтому маскарад не имел никакого смысла. Русые тонкие волосы никак не желали превращаться в тяжелые тёмные кудри, и она с облегчением постриглась под мальчика, как только вытребовала право распоряжаться своей прической – в классе шестом. Освобождение от ненавистных сосулек совпало с первой влюблённостью и окончательным разочарованием в фамильной необычности. Мальчик ею не интересовался, и опечаленная Оля, в конце концов, проговорилась маме. Софья покивала, минут на десять удалилась в спальню, и вернулась с обрывком тетрадного листка в линейку:
– Бери, это наш тайный семейный заговор. На полную луну встань у окна, нашепчи в стакан воды, а потом выпей. И смотри там – в конце трижды сказать: «Аминь-зараза» и плюнуть через левое плечо. Делай три месяца, потом сам прибежит-присохнет, не отгонишь.
В ожидании полнолуния Ольга принялась мечтать об этом самом «не отгонишь», но за пару дней до срока ей попался толстый зачитанный роман. Название помнилось до сих пор – «Лидина гарь», – заложенный конфетным фантиком как раз на том месте, где было напечатано их родовое цыганское колдовство. Она не столько обиделась, сколько огорчилась – значит, не присохнет… От отчаянья, впрочем, заговор про камень белый-светлый и море-окиян над водой всё-таки начитала, но не помогло, стотысячное тиражирование убило, видно, всю магию.
Но было с нею ещё что-то… Ольга обратилась к самым ранним детским годам, когда перед глазами чаще мелькают ноги, чем лица, и крупными планами – золотистая деревенская дорога, пыль и камешки. Внезапно на неё обрушился жар июльского дня. Ей почти ровно пять лет, позавчера исполнилось, она бредёт по бесконечной сельской улице, смотрит под ноги, стараясь ставить босые исцарапанные ступни на чистый песок, избегая зелёных бутылочных осколков, овечьих катышков, острого щебня. Неожиданно утыкается в чей-то большой тёплый живот, который обвязан застиранным фартуком, пахнущим козой.
– Чья ты? Стешина? – Сухие руки трогают Олино лицо, приподнимают подбородок, светлые глаза заглядывают в её, карие.
– Моя мама – Сонечка, а бабушка – Степанида, – немного стесняясь чудного бабкиного имени, отвечает она. – А сама я Ольга.
– Меня зови Настасьей. Пойдём, Ольга, молока дам.
Через мгновение сухой жар сменяется прохладой тёмных сеней, Оля пьёт из пол-литровой банки жирное звериное молоко, а потом ей позволяют погладить белую камолую Марту по узкому лбу между шишечек, которые у неё вместо рогов.
Потом Ольга бежит к голубой бабушкиной калитке, которая, оказывается, совсем рядом, через улицу, перескакивает высокую приступку, в очередной раз чуть ссаживая кожу под коленом, и несётся к маме хвастать.
Чёрно-рыжий вислоухий Пират гремит цепью, молча кидаясь навстречу, но узнаёт, и отходит в будку, заступая лапой в алюминиевую миску с водой. Дверь в дом тяжела и тоже выкрашена в бледно-голубой, и за лето Оля успевает запомнить карту отслоившихся островков краски, которые рассматривает каждый раз, пока тянет на себя толстую железную ручку. На терраске никого, она быстро проходит тёмный страшноватый коридор, заставленный мёртвыми ненужными вещами, открывает ещё одну тугую дверь, минует кухню с холодной печью и оказывается, наконец, в комнате, где мама и бабушка пьют по седьмой чашке из остывающего самовара.
– Я пила звериное молоко! – назвать его козьим не поворачивается язык, слишком оно пахло жизнью. – А у Марты рогов нету! Баба Настасья сказала, что даст подоить!
Это были главные новости, но бабушка прицепилась к неважному:
– Ты зачем, гайдучка, к Наське лезла?
– А что, – немедленно вступилась мама, которую бабушка за склонность к спорам звала поперёшницей, – нельзя?
– Говорят, ведьма она, и под немцами была. Подозрительная. Картошку не садит, цветами не торгует, курей нет, молоко только для себя, – на пензию, говорит, живёт. Вот откуда у ей такая пензия?
– Ну тя, мам, глупости болтать. – В родной деревне Сонечка стремительно опрощалась, на время теряя городской лоск. – Пусть девка ходит, молоко пьёт. Ты ж коз повывела, теперь дитё по чужим бабкам бегает.
Зорьку и Звёздочку Стеша зарезала осенью, потому что сама же Сонечка из года в год жаловалась на вонищу от козлят, которых на зиму брали в дом. Но сейчас собачиться не стала, только поджала губы и посмотрела на дочь понятным взглядом: «Дура ты, дура, не при детях сказать…»
Из всего разговора Оля поняла, что к бабе Настасье ходить не запретили, и назавтра уже благоговейно обмывала розовое козье вымя, обтирала белой тряпочкой, надавливала кулачками сверху вниз и старалась, чтобы тугие струи попадали точно в жестяное ведёрко. Только один раз руки дрогнули от напряжения, густое молоко хлестнуло по коленке, и Оля быстро нагнулась, слизала каплю, а потом тревожно взглянула на старуху – не отругает ли за убыток? Но та смотрела куда-то поверх её головы и ничего не заметила.
Они продружили до начала августа, а потом у мамы начался отпуск, и Олю отвезли на юг, к морю. Хотя как – продружили? Разве можно наладить отношения с камнем? Только прятаться в его тени от жары, а вечером, наоборот, греться о тёплый бок, пока он медленно остывает, отдавая накопленное. В Настасье было спокойствие, которого Оля не замечала ни в суетливой матери, ни в раздражительной бабушке. Она ни на что не сердилась, редко отвечала на вопросы и никогда не пускала девочку в дом дальше сеней. Но необидно не пускала, не из вредности или в качестве наказания, а просто нельзя было туда, вот и всё. Они чаще встречались во дворике под виноградом, который невесть как прижился в средней полосе, не вызревал, конечно, но давал тень над столом и двумя лавками. Садились друг против друга, недолго разговаривали и расходились. Эти встречи обеспечивали Ольге необходимую порцию взрослого и значительного, которая была нужна её маленькой жизни, как подпорка – лозе, чтобы подниматься, расти вверх, а не стелиться у ног больших людей.
Однажды она осмелилась спросить, вспомнив бабушкины слова, как это, «под немцами»? Против обыкновения Настасья ответила, рассказала, как жила во время войны на Украине, как при отступлении немцы всех стреляли, а она спряталась в сортире, пролезла в дыру – худенькая была девка, – и сидела там в говне по шею. Оля слушала, и даже не дрогнула от ужасного слова, потому что разговор важный, а Настасья тем временем вспоминала, как автоматные очереди прошивали хлипкие стенки, и если бы она побрезговала и не залезла в говно, убили бы. И до ночи там просидела, а потом пришли наши и спасли, только очень ругались, что воняет. Обливали её из шланга, а она молчала, потому от страха пропала речь. Потом только вернулась.
Оля решилась и спросила о том, что занимало её уже много дней – откуда на запястье у Настасьи следы выцветшей наколки, ведь такие бывают только у бандитов. Оля не разобрала, что написано, не умела читать, да и тонкие синие линии почти терялись в морщинах, но они там были. Но минута удачи закончилась, старуха больше не хотела говорить.
Перед Олиным отъездом Настасья впервые явилась сама – приблизилась к калитке и подождала. Бабушка неожиданно быстро её заметила, вышла, с минуту они разговаривали, потом разошлись. Оля в это время укладывала с мамой сумки, но внезапно встревожилась, выбежала во двор и успела увидеть только прямую широкую спину Настасьи. А бабушка показала ей гостинец: в школьную клетчатую бумагу завёрнута странная штука – наплетенная на палочку вишня. Черенки как-то хитро связаны, так что ягоды лежат плотными тёмными рядами.
– Наська наказала тебе передать. Возьмёшь? – спросила бабушка.
Странный вопрос, Олю никогда не спрашивали, хочет ли она принять подарок, давали и всё. А тут и бабушка, и мама, выглянувшая следом, молча ждали её ответа.
– Возьму, – солидно ответила Оля и взяла вишню.
Одна ягода оторвалась, запрыгала по твёрдой натоптанной земле, но девочка поймала её, обтёрла и быстро засунула в рот. В ужасе посмотрела на маму – сейчас закричит: «Куда, грязное!», но та промолчала. Оля и сама была с головой, но именно эту вишню казалось важным съесть всю, до последней кисло-сладкой ягодки. Села на крыльцо, подстелила на колени тетрадный листок и не встала, пока не доела. Завернула косточки и черенки, пошла в огород и закопала, а палочку оставила на память. Это её первый взрослый подарок, надо беречь.
Пока возилась, её не дёргали, и не ругали потом за несмываемые пятна сока на руках и на платье, отправили в город как есть, перемазанную и с урчащим животом.
Потом были бесконечные недели на море, яркие, искрящиеся, полные новых ощущений и вкусов, но все они слились в переливающееся сияющее чудо и забылись, а вот вишню, скачущую по двору, она помнила.
К сентябрю вернулась загорелой и почти белоголовой, в садике предстоял выпускной год, но на последний летний выходной мама отвезла её в деревню, поздороваться с бабушкой и тут же обратно, благо на автобусе полчаса езды.
После традиционных ахов про то, как выросла, после того, как заставили задрать платье, оттянуть резинку трусов и показать, какая там белая, а тут чёрная, бабушка сказала:
– Наська-то померла, – осуждающим тоном, будто сообщала об очередной подозрительной выходке.
Сонечка прикрыла рот ладонью: она старалась не говорить о смерти при ребёнке, не нужно детям про это.
– Похоронили намедни. Марту Катюха забрала, они с Наськой вроде как знались, дом родня продаст. А тебе, – наклонилась к Оле и сказала чуть насмешливо, – она завет оставила. Можешь к ней в цветник пойти и нарвать роз.
Олю поразила не столько новость, сколько нежданное слово из бабушкиных уст: у них говорили «в огород» или «на грядки», а цветники были только в сказках Андерсена.
И её, в самом деле, отвели в пустой сад, где желтела коротенькая трава и росли плотные колючие кусты, усыпанные мелкими чайными розами, хотя почему они так назывались Оля не понимала – на самом деле они были молочные, лишь слегка подкрашенные заваркой. Выдали крышку от коробки рафинада, она, царапая руки, нарвала в неё цветов, одних только головок, и ушла. Увезла с собой в город и долго потом хранила, вместе с вишневой палочкой.
Только через полтора года, весной, вернувшись из школы, не нашла своих вещей: мама сказала, что в лепестках завелись мошки, поэтому она их выкинула. Но к тому моменту это уже не имело особого значения.