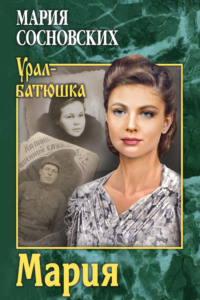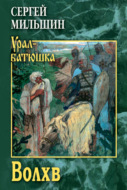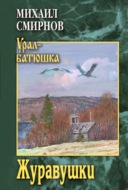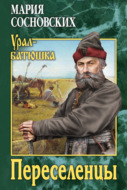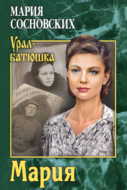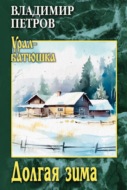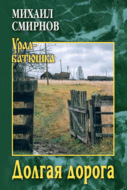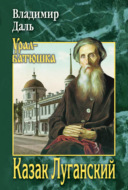Buch lesen: "Мария"
© Сосновских М.П., наследники, 2024
© ООО «Издательство «Вече», 2024
* * *
Сильнее непреодолимых обстоятельств
Мария Сосновских – уникальное явление в российской литературе. Её трёхтомник – «Переселенцы», «Чертята» («Время полыни»), «Мария» – своеобразная энциклопедия повседневной жизни, традиций, обычаев, истории, религиозных воззрений и трудовых навыков русского народа. На примере крестьянского рода Елпановых писательница нарисовала собственную картину истории России. Действие трилогии начинается в 1724 году, а заканчивается 9 мая 1945 года – в день окончания Великой Отечественной войны.
Судьба не баловала Марию Сосновских, как и большинство русских людей, зарабатывающих на жизнь трудом. Она вместе со своей семьёй с самого детства была «в труде», как рыба в воде. Иногда вода становилась настолько непригодной для жизни, что, казалось, единственный выход – выброситься на берег, но воля к жизни всякий раз оказывалась сильнее непреодолимых обстоятельств, выпавших на долю семьи Марии. Здесь и обустройство семьи с нуля в непроходимой тайге после того, как на прежнем месте «от сибирской язвы вымер почти весь скот и погорели от засухи все посевы». И коллективизация: «…в 1930 году у нас всё отобрали – скот, хлеб и всё остальное». И война: «В это лихое время поступила на эвакуированный в Ирбит мотоциклетный завод; на нём и проработала всю жизнь заточником».
Проза Марии Сосновских лишь на первый взгляд проста и бесхитростна. В основе этой простоты – мудрость и природный здравый смысл народа. «Вынесет всё, что Господь ни пошлёт», – не без горечи писал Николай Некрасов, видя в бесконечном терпении необоримую силу русского народа. Но Мария Сосновских отнюдь не певец народного терпения и покорности (любой) власти. Она сама – частица той силы, которая превыше терпения, как, впрочем, и управляющей народом в разные исторические периоды власти. Трилогия писательницы – художественное подтверждение мыслей современного философа Игоря Смирнова. Этот учёный утверждал: «Внимательное изучение фактов и обстоятельств российской истории за последние 200 лет с неумолимостью заставляет сделать парадоксальный вывод. В подавляющем большинстве развилок истории и её ключевых ситуаций из нескольких возможных вариантов в реальности всегда приключается наиболее неблагоприятный для страны и её народа. Складывается впечатление, что на протяжении двух столетий кто-то постоянно вмешивался в естественный ход событий. В итоге выбор неизменно происходил не между хорошим и плохим, а между плохим и худшим. Причём финальным выбором почти всегда оказывался худший вариант».
Но, продолжим мысль философа, каждый раз страна и народ каким-то образом выживали, а иногда даже становились сильнее.
Мария Сосновских видит корни этого стоицизма в ответственности за землю, за свою семью, наконец, за жизнь и труд, которые во все времена питали необоримую силу русского народа. Эта сила стояла камнем посреди земли, а над ней кружился, завывал ветер власти. Иногда, как в конце девятнадцатого – начале двадцатого века, относительно милосердный, но чаще, как в послереволюционные и тридцатые годы, – злой и беспощадный. Редко у кого из современников тех событий можно встретить столь точное и лаконичное описание технологии, перепахавшей традиционный крестьянский уклад в период сталинского «великого перелома»: «Прежде дружелюбный деревенский народ после 1930 года разделился на два лагеря. По любой пустячной ссоре разгоралась страшная вражда, сосед доносил на соседа. По любому доносу без суда и следствия людей забирали, увозили без права переписки, отправляли на Колыму».
Мария Сосновских начала писать, выйдя на пенсию. Но материалом для объёмного литературного труда послужили рассказы, воспоминания родственников, знакомых и незнакомых людей о «старой жизни», которые она долгие годы старательно записывала в общие тетради. «За десять лет, – вспоминала писательница, – их накопилось сорок».
Она шагнула в литературу не из журналистики, не после обучения в Литературном институте, как большинство современных авторов, а из самой что ни на есть глубины народной жизни. Мария Сосновских услышала сквозь время и донесла до нас голос простого русского человека, представителя того самого «глубинного народа», о котором сейчас так любят рассуждать философы и политологи.
В чём-то она повторила творческий путь Владимира Даля.
Имя родившегося в ноябре 1801 года писателя, этнографа, собирателя фольклора, автора записок о последних часах жизни Александра Пушкина в нашем представлении навеки соединилось с русским языком. Умирая в квартире на Мойке, поэт оставил Далю свой любимый перстень с изумрудом и простреленный пулей сюртук. Два эпохальных труда Владимира Даля – «Толковый словарь живого великорусского языка» и «Пословицы русского народа» – стали спутником, как писал академик Виноградов, «не только литератора, филолога, но и всякого образованного человека, интересующегося русским языком». Даль прожил насыщенную жизнь – плавал по морям, участвовал в войне с Турцией, усмирении Польши, походе в Хивинское ханство, сопровождал Пушкина в экспедиции по Уралу, где тот собирал материалы о пугачёвском бунте, был глазным хирургом, гомеопатом, чиновником особых поручений при губернаторе в Оренбурге.
Мария Сосновских – человек другого поколения, другого социального статуса. Её жизнь внешне была не столь богата участием в исторических событиях и судьбах великих современников. Но в сохранении для потомков и учёных-филологов особенностей живого русского языка она продолжила работу Владимира Даля. «Это ещё совершенно новое у нас дело, – благословил Даля на подвижнический труд по собиранию русского фольклора в своё время Пушкин. – Вам можно позавидовать – у вас есть цель. Годами копить сокровища и вдруг открыть сундук перед изумлёнными современниками и потомками». Мария Сосновских в своих прилагаемых к каждому тому глоссариях собрала достойное пополнение для запылённого и изрядно замусоренного в последние десятилетия «сундука» с сокровищами русского языка. Неважно, что многие слова навсегда вышли из употребления и вряд ли когда-нибудь вернутся. Она сохранила память о них, извлекла из толщи времени ещё один инструмент, позволяющий увидеть и понять душу тогдашних русских людей, прикоснуться к внутреннему миру ушедших поколений.
Владимир Даль умер, успев получить признание современников. Из распахнутого им (200 тысяч слов и 30 тысяч пословиц) «сундука» черпали идеи и образы славянофилы – Киреевский, Аксаковы, Хомяков. Ценили Даля и западники – Тургенев, Герцен, Чаадаев. «После Гоголя это до сих пор решительно первый талант в русской литературе», – писал о нём в 1845 году Белинский. Кстати, в теоретике и собирателе русского языка не было ни капли русской крови. Отец Даля был датчанином, мать – француженкой. Сам он, в совершенстве владевший несколькими языками, этим вопросом не заморачивался: «Кто на каком языке думает, тот к тому народу и принадлежит. Я думаю на русском».
Глоссарии Марии Сосновской, не сомневаюсь, тоже будут интересны всем, кому близок и дорог русский язык. В этом нет сомнений.
Несколько лет назад в журнале «Роман-газета» был опубликован сборник коротких рассказов и новелл Владимира Даля «Суд Божий». По своей тематике приближённости к самым потаённым думам «глубинного народа» он мог быть создан только русским человеком. В конце жизни Даль перешёл из родительской (лютеранской) веры в православную. «Россия погибнет только тогда, – утверждал он, – когда иссякнет в ней Православие…»
Или русский язык, хочется добавить сегодня. В двадцатые годы знаменитый учёный Чижевский писал, что «русский язык объят пожаром». Сегодня пожаром объята вся культурная жизнь страны. Рухнувшим в интернет постсоветским поколениям нет дела до сбережённых подвижниками русского языка сокровищ.
Манера письма Марии Сосновских удивительно созвучна манере Даля. Трёхтомник состоит из новелл, ярко высвечивающих то или иное событие, тот или иной эпизод в жизни героев. Это делает повествование живым и лёгким для чтения. По мере продвижения в глубь текста перед глазами читателя постепенно разворачивается и наполняется содержанием историческое полотно жизни народа с его светлыми и тёмными сторонами. Мария Сосновских не идеализирует своих героев, главное для неё – писать правду, пусть даже она (а такое часто случается) характеризует героев повествования не с лучшей стороны.
Писательница владеет «магией» слова, многие эпизоды трилогии напоминают фрагменты исторических фильмов, настолько они образны и психологически достоверны. Взять, например, такие новеллы, как «Страшная находка на берегу» или «Пугачёвское восстание». В описании потрясшей Россию во второй половине восемнадцатого века крестьянской войны Мария Сосновских придерживается пушкинской традиции, высвечивая неоднозначное отношение простых людей к «мужицкому царю» Пугачёву и его идеям о правде, справедливости. Народ, по большому счёту, не решился в то время разрушить до основания государственный порядок, хотя и был изрядно раздражён и измучен издержками крепостного права.
Терпения хватило ещё на полтора века. Но и новая послереволюционная жизнь не принесла крестьянам счастья. «Харлово встретило Новый год разграбленными магазинами – не было соли, керосина, спичек и мыла. С отсутствием необходимых товаров крестьяне кое-как справлялись – сами варили мыло, спички заменили трутом и огнивом. В домах снова зажгли лучины…»
Показательна сцена наказания кнутом Петра Елпанова, угодившего в «правёж» по подозрению в сочувствии бунтовщикам (нескольких из них, насильно мобилизованных Пугачёвым, он пытался выдать за наёмных рабочих на своём хуторе). Но даже это жуткое наказание, после которого он едва не умер, не сломило волю Петра, не отвратило его от повседневного труда ради благосостояния своей семьи, своего рода. Точно так же выживали герои трилогии в годы коллективизации, когда «активисты, пройдя по домам, забрали у крестьян весь скот и птицу». Собственно, и сегодня «оптимизированная», освобождённая от больниц и школ российская глубинка существует всё в том же режиме выживания. В этом смысле труд Марии Сосновских можно считать хрестоматией по взаимоотношениям народа и власти.
Трилогия Марии Сосновских относится к категории литературных «чудес», которых никто не ждал и которые, в принципе, не могли состояться. Примерно так же, как знаменитые рисованные воспоминания Евфросинии Керсновской, где она описала свою жизнь в ГУЛАГе. Альбомы бывшей бессарабской помещицы произвели большое впечатление на читателей в начале девяностых годов.
Прожившая большую и трудную жизнь, Мария Сосновских воплотила свой опыт, талант, страсть исследователя и любовь к предкам в удивительный памятник времени, который, уверен, будет по достоинству оценен современниками и представителями будущих поколений. Если не сегодня, то завтра. В этом можно не сомневаться.
Юрий Козлов, писатель, главный редактор журнала «Роман-газета»
Часть I. Детство на хуторе Калиновка
Вместо пролога
Ильин1 день. В селе Харлово – разгар праздничных увеселений: конные бега и скачки, борьба, качели-карусели… Молодые парни стараются перещеголять один другого на турниках, на кольцах, прыгают через «козла», перетягивают канат. Мужики играют в городки, шаровки, а то и детство вспоминают – с азартом режутся в бабки. Дряхлые старики с завалинок следят за игрой, переговариваются:
– Эх, не так, ну не так бьёт-то! Вот я, бывало, в бабки – ого, как играл: завсегда, как выйду – мой кон был! Теперь уж ничё не поделаешь, ушли годы, да и удали не стало…
Девки не отстают от гармониста. Тот уж устал таскать целый день гармонь по жаре, но от девок никакого отбою нет. Гармонист садится в холодок, в тени чьего-нибудь сарая на бревно, вытирает пот рукавом косоворотки и начинает играть. Девки водят хороводы, поют проголосные2 песни или частушки.
Замужние бабы сидят за оградами своими компаниями, бесконечно грызут семечки, пересказывают новости и сплетни. При бабах – детвора: и пелёночные ещё ребятишки, и ползающие, и уже ходячие.
Старухи, подоткнув под гасник3 подолы праздничных юбок, выходят на улицу.
Ильин день – для всех праздник. Но Панфил Сосновский праздничного безделья долго вытерпеть не может. Вечером после крестин младшей дочери, названной Марией, он, посадив старших в телегу, поехал смотреть хлеба. Вернулись по потёмкам, привезли грибов да ягод, груздей и смородины.
– У Ржавца, на угоре, пшеницу нашу вчерашней грозой – ну как бревном укатало! Завтра немедля надо жать начинать, а то всё зерно утечёт, – сказал Панфил жене, – ты тоже с нами поедешь, или мы одни с робятами жать будем?
– Знамо, поеду – страда ведь. Ильин день прошёл, чё ждать-то ещё? Так и всё лето можно дома просидеть! Ваську оставим с малышней, а Любашка да Костя пусть жать помогают.
Назавтра Парасковья встала раным-рано и напекла хлеба. Подоив корову, поставила в печь горшок молока. Разбудила сына:
– Смотри тут за робятами да маленькую к рукам не приважай, а то изнежится – сам же потом с ней замаешься. В печи молоко варится. Как сверху пенка будет, вытащи из печи горшок, а остынет – накормишь ребят.
Она подала сыну заскорузлый коровий рожок для новорождённой сестрёнки. Ваське уже десять лет, и он слушает мать вполуха: и сам, небось, знает, как с младшими нянчиться. Но одно дело с полуторагодовалым братишкой, а ведь ещё и крошечная Манька…
Да, кроме того, сколько работы мать оставила по дому: дров наносить, накопать и намыть картошки, следить, чтоб в огород не забрались курицы. А вечером, как скотина вернётся, нарвать капустного и свекольного листа, накормить овец. Да если какая овца по дороге заплутает – всё село обежать придётся, чтоб её, заразу, найти.
«То ли дело – поехать с отцом и со старшими в поле. Даже жать, не разгибая спины, целый день – и то намного веселее. А тут столько дела, да ещё эта родилась», – задумался о своей тяжёлой доле Васька. Но грусть была недолгой – в окне показалась смешная веснушчатая рожица Титка Ростивонова – соседского парнишки, ровесника и задушевного Васиного дружка:
– Пойдём играть за лыву!4 У меня новый панок5 есть! – хвастается Титко. – Хочешь, покажу? Со свинчаткой! Ох, и здорово бьёт! Где твои бабки6, давай попробуем?
Васька тотчас выскочил во двор и только-только собрался убежать с другом, как Николка, босой, в одной короткой рубашке, вывалился из дверей.
– Наказанье ты моё! – в сердцах воскликнул Васька, схватил брата и потащил в избу.
Манька, слава богу, спит. Васька, стремясь накормить брата, подбежал к печи, взял ухват7, умело подцепил горшок с молоком. Руки дрожат от напряжения, а под8 печи, как назло, неровный, выщербленный. Васька из последних сил приподнимает горшок и на вытянутых руках осторожно подтягивает к себе. Неожиданно горшок срывается с ухвата, и… молоко, такое вкусное, с коричневыми пахучими пенками, разливается по всему печному поду, заливая загнётку9. Под трескучий аккомпанемент затухающих углей по избе разнеслась невыносимая вонь горелого молока…
Николка, увидев бесславную гибель любимого лакомства, истошно заревел и разбудил мгновенно завопившую Маньку.
Васька, всплеснув по-взрослому руками, кинулся к кринке с сырым молоком, налил в кружку для братишки и в рожок – Маньке.
– Как хорошо, когда Любашка дома. Она успевает всё сделать вовремя, не то что я, – думает Вася, поглядывая на притихших детей…
– Васька! Побежали за лыву! – вдруг раздался за окном голос Титко.
– Некогда мне! – раздражённо ответил Вася.
– Да я ведь тебе потом помогу, вот увидишь!
Но надежда на друга плоха. Вася это уж не раз испытал. Титко может играть до вечера, а потом убежит домой или натворит что-нибудь. Позавчера, например, молоток оставил в пригоне, а попало от отца ему, Васе. Титко в семье младший, и ему немного легче. По крайней мере, ни с кем не надо нянчиться, а остальная работа – чепуха.
…Хлеб на поле от сильного дождя с ветром полёг, жать его неловко. Жнут вчетвером, работа идёт медленно. Парасковья ещё слаба после родов, кружится голова, да ведь страда – каждый день, даже час, до́роги – ну как дожди начнутся! А ведь скоро поспеют ячмень, овёс, горох. Тут хоть на десять частей разорвись, везде не поспеешь.
В семье Панфила от недосмотра и плохого ухода младшие дети заболели поносом. Новорождённая Маша еле пищала, а Николка безучастно лежал на лавке.
Парасковья и тут не осталась ни дня, ни часа с больными детьми. Надо было от темна до темна работать в поле, иначе всей семье голодная смерть. Она хорошо помнила страшный 1921 год, когда от недоедания темнело в глазах, а от лебеды и прочих трав отнимались и опухали ноги.
«На всё воля Божья, – говорила она, – старшие точно так же росли. У Любы до трёх лет понос не прекращался. Однако жива-здорова – вон какая вымахала! А если не к житью, значит, столько веку. Маленька могилка – маленька кручинка».
Когда Коле стало совсем плохо, мать, посмотрев на сына, распорядилась так: «Люба, останешься с ребятишками. Как с домашней работой управишься, сходишь к Калипатре, пусть придёт, полечит ребятишек от поноса. А ты, Василко, поедешь сёдни в поле».
Любе было больно смотреть на страдания малышей, и она, не послушав наставления матери, сразу же побежала за знахаркой.
Бабушка Клеопатра, увидев больных, осуждающе покачала головой и прослезилась:
– Сердешные, никакого-то пригляду за вами нет, будто сиротиночки. Самовар-то ставили? Вода отварная есть? Неси-ко, Люба, попоим их.
Колю напоить так и не смогли – у него не было сил проглотить воду, и она выливалась обратно.
– Отходит братик-то у тебя, Любаша…
Люба с плачем подскочила к Николке, руки у неё затряслись.
– Взгляни, голубушка, последний-то разочек. Да не плачь, не нужно, чтобы слёзы твои на него упали. Не тревожь ангельскую душу…
Мальчик дышал уже совсем редко. Наконец вздохнул в последний раз, по всему тельцу прошла судорога. Он вытянулся и замер.
– Вот и всё, – тихо, со смиреньем, произнесла бабушка Клеопатра и закрыла мальчику глаза и ротик.
Через некоторое время, прочитав молитву, обмыла новопреставленного. Одела чистую белую рубашку. Подготовила место на лавке, положила туда трупик ребёнка и закрыла холстинкой.
Люба держала на руках еле пищавшую малышку. Бабушка, вымыв под рукомойником лицо и руки, сказала: «Ну-ка разверни, посмотрю я… Господи! Да она родилась – больше была. До чего исхудала! А пуп-то наревлен – разошёлся, грыжа у неё, лечить надо, да и долго. Не робёнок, а скелет, кожа да кости… Ты беги-ка, Люба, самовар поставь, травки заварим, будешь подавать по ложке три раза в день. Чаще отварной водой пои, жар у неё в нутре-то, молоко пока кипячёное и разводное давай».
Похлопотав ещё немного, бабушка Клеопатра попрощалась и ушла…
Когда с полей убрали последний урожай, Панфил решил уехать из Харлово на хутор у речки Сайгун.
Прежде чем решиться стать хуторянином, Панфил пошёл за советом к брату Перегрину.
Семья брата ужинала – Перегрин, как и подобает главе семьи, сидел на почётном месте, под божницей, по правую сторону от него расположился шестнадцатилетний сын Яков. Дальше, на поперечной «бабьей лавке», сидела тёща Руфина и одиннадцатилетняя Кланька. Кира сидела напротив, на табуретке, разливала чай.
– Здорово живёшь, куманёк! – поприветствовала она Панфила. – Проходи, раздевайся, садись с нами чай пить.
Перегрин подвинулся на лавке, Панфил сел рядом. Когда обыденные разговоры были исчерпаны, гость объявил:
– Я ведь пришёл звать вас с собой на хутор. Поедем, построимся рядом, в соседях жить будем.
– А из наших едет кто-нибудь? – спросил Перегрин.
– Из родни-то Максим Прокопьевич только. Но харловских много: дедко Емельян Чернов с сыновьями, Тима Лаврухин, Михайло Евграфович, Стихиных семьи три… Остальные – галишевские.
– Вот видишь, всё большесемейные мужики собрались – у которых по три-четыре сына, взрослых работника. А нам-то какая нужда на хутор перебираться? Усадьба у нас добрая, дом – пятистенник, места, слава богу, хватает… Кланька вот взамуж уйдёт, а Яков нас, поди, из дому не выгонит, – шутливо подмигнул Перегрин дочери и сыну. – Вишь, раненая рука у меня и к непогоде, и к погоде болит – куда мне сызнова строиться… Нет уж, сам ты как хочешь, Панфил, я с тебя воли не снимаю. Тебе-то чё, ты ещё здоровый. А у меня за спиной две войны да революция – третья. На обжитом месте оставаться буду, пока на Ванину гору не отвезут…
– У тебя рука, у меня – голова болит… И я, знаешь, от пули и от осколка не уберёгся, тоже хлебнул военного-то лиха. Но придётся ехать, сама наша жизнь-нужда заставляет!
– Я уж всяко прикидывал, – закончил разговор Перегрин, – продать своё пожительство10– большого ума не надо… вон сколько теперь вятских к нам едет. Да ведь они, вятские, недаром – «люди хватские», не нам чета: и денежные, и мастеровые – кто пимокат, кто портной… Зыряне11 вот тоже… Каждый не одно ремесло знает!
Панфил принял окончательное решение – перебираться на хутор. Уборка хлебов из-за зарядившей непогоды шла плохо. Жнецам приходилось работать и в моросящий бусенец12, и даже в проливной дождь. Полёглый хлеб прорастал на разбухшей от влаги земле, ноги вязли в грязи. Когда с уборкой, наконец, управились, Панфил с ребятами поехали рубить лес и строить на месте будущего хутора новое жильё.
Красный лес новосёлам был отведён неподалёку, в Пахомовском бору. Для начала срубили небольшую конюшню, внутри сколотили нары, поставили железную печку. Стали жить и помаленьку строиться дальше.
В мае 1925 года семья Панфила уехала из Харлово, продав пожительство приезжему – вятскому пимокату Павлу Ивановичу Гоголеву.
Когда читатель станет знакомиться с главами повествования о годах моего детства и юности, пусть помнит: своими воспоминаниями с ним делятся сразу два человека. Один – это пятилетняя сельская и хуторская девчушка-несмышлёныш из далекого, не всегда радостного, но милого прошлого. Другой – чуть ли не через век возникший из этого прошлого, много повидавший и многое переживший на девятом десятке лет жизни человек.
«Картинки» детства и юности, запечатлённые в моей памяти с почти фотографической точностью, конечно, дополнены многолетним их осмыслением и моими раздумьями в течение всего жизненного пути.
Автор