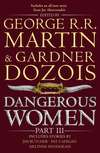Buch lesen: «Последний корифей»
Посвящается памяти Узеира – нежного как мандарин ребенка, гостившего в этом мире всего одиннадцать месяцев и пятнадцать дней
Часть I. Ночь
Глава первая
Завтра предстояло идти на митинг.
Так решил он ровно неделю назад, в прошлую субботу, и с тех пор принятое решение так сильно смущало и тревожило его, что лишило сна. Всю неделю он маялся беспокойством: часами лежал неподвижно на диване, закуривая одну сигарету за другой, пытаясь чем-то занять себя, дремал в кресле, тягостно ожидая, когда пройдет время, и теперь, немного очнувшись от этих мыслей, бросил взгляд на застывшие стрелки старинных часов на стене, и с крайним нетерпением ждал наступления утра…
Он пойдет в первом ряду шествия.
Да, ни на кого не обращая внимания, ни с кем не обмолвившись словом, он пойдет впереди и будет стоять как можно ближе к полицейским; будет стоять с высоко поднятой головой до конца. До самого конца.
Его не только не устрашит полицейская дубинка, он вовсе забудет о страхе, даже не дрогнет.
Будут гнать – не побежит; будут бить – не обратит внимания. Не издавая ни звука, будет стоять как вкопанный на месте, и даже не попытается увернуться от ударов. Пусть ему рассекут голову, пусть разобьют нос, повалят наземь и примутся пинать, налетят как вороны и грифы на падаль и потащат израненный полутруп по асфальту, а затем бросят в салон какого-то автобуса и повезут в полицейский участок, или запрут в грязной, тесной, темной камере – неважно.
Если честно, он не имел четкого представления о дальнейшей судьбе задержанного на митинге, но, исходя из услышанного и прочитанного из газет, предположил, что его может ожидать полицейский участок, камера или больница. Как говорится, это будет видно по ситуации, то есть, по тяжести полученных травм, и по тому, насколько оппозиционное мышление представляет угрозу для органов государственной власти.
Что касается оппозиционно-мыслящих, то он, безусловно, один из них; просто его противостояние напоминало крепкий орешек, и никто – ни по ту сторону баррикад, ни по эту! – ни капли не сомневался в его упорстве, точнее, надеющиеся, устав от долгого ожидания, обиделись, а обиженные как всегда зря надеялись. Он так и не прикипел ни к одной из часто меняющейся власти, честно говоря, все они ему были противны; но и оппозиционером он не был, и до сих пор никогда не участвовал в митингах какой-либо из сторон.
Он не ходил ни на митинги, ни на демонстрации – не участвовал ни в одном мероприятии после того, как выступив с резкой речью на собрании в круглом конференц-зале Академии, где присутствовали как представители власти, так и оппозиции, гневно спустился с трибуны, и, хлопнув обтянутой кожей дверь, покинул переполненный зал. С тех пор официальные и неофициальные приглашения с разных адресов копились на нижней полке старого письменного стола – он не принял ни одно из них.
Он видел нынешнее правительство в их бытность в оппозиции, а также нынешнюю оппозицию у власти, и эти рокировки позволили многое узнать об игре: то есть, он понимал скрытые намерения тех, кто усердно рвался к власти, и тех, кто всеми силами цеплялся за власть. И понимал хорошо.
Квасные патриоты, с уст которых не сходило слово «Азербайджан», кричали «джан-джан» с высоких трибун, пели национальный гимн под трехцветным флагом. Но за этим рвением стояла не душевная боль; и эта борьба не была борьбой за Азербайджан – и райский Карабах, раскинувшийся на вершине зеленых холмов, и туманный Табриз, простирающийся к югу от Араза, скорее всего, были лишь поводом, лишь ширмой.
По сути, борьба властей с оппозицией – соответственно, и борьба оппозиции с властью! – была ничем иным, как борьбой за птицу в небе.
Разные конфессии, сборища, партии, правые и левые группы, которые не к месту и не ко времени собирали единомышленников и провозглашали справедливость, собирали сторонников и мнили себя большими католиками, чем Папа Римский, – не имеет значения: будь то тайные масоны или явные сионисты; неофашисты или архикоммунисты! – якобы все они искали путь к спасению. Он же давно пришел к выводу, что есть только один способ для спасения: мир должен принадлежать каждому, и каждый должен любить весь мир как единую родину.
Разделением цельного божьего мира на большие и малые страны, а также Его незримого существования на различные религии и секты, фактически, была заложена почва для кровопролитных войн; к тому же намеренно – для сохранения господства угнетателей над угнетенными!
Всяческие войны, сражения, преднамеренные очаги конфликтов – все это игры, известные на протяжении тысячелетий. У этой древней борьбы есть только одно название: война за хлеб насущный.
Подбили летящую в небе птицу – быстрый на ногу угнетенный схватил добычу, а сильный на руку угнетатель отнял ее.
В общем, все эти политические жесты – эти оранжевые революции, эти бархатные перевороты! – рассчитаны на птицу в небе, и, по сути, являются не чем иным, как цивилизованной формой борьбы за хлеб насущный.
Уничтожение мечети и возведение на ее месте церкви, снос церкви и сооружение на ее месте мечети, создание врага из светлокожего для темнокожего, из темнокожего для светлокожего, разделение земли на большие и малые страны, на разные штаты и провинции, манипулирование любовью к родине – все это преследует одну и ту же цель.
И неважно, как это интерпретируется, как трактуется – неважно, в какой песок засовываешь голову, в какой куст прячешь хвост! – именно такова проблема: борьба ведется за птицу, летящую в небе, вот и все дела.
Глава вторая
«Фашисты подожгли деревню. Все сгорело. Осталась лишь ненависть…»
…Напористый и скрипучий голос Корифея – этого фашистского негодяя! – который утверждал, что владеет секретом гениальности больше, чем кто-либо в мире, и знает перипетии пути к Нобелевской премии даже лучше самого Фолкнера, отдался эхом в его ушах и сбил с толку; он тут же встал и закурил…
Все уловки новейшей истории были перед его глазами: долгий путь Горбачева к Нобелевской премии прошел через распад СССР, а самый короткий путь к свержению системы – через резню в Баку. В итоге рухнула коммунистическая тюрьма, занимающая ровно одну шестую часть мира от Кельбаджара до Камчатки, а нейтральные обитатели были выпущены из социалистического плена в капиталистическую свободу.
Именно так и сказал Лец: допустим, ты прошиб лбом бетонную стену камеры – прекрасно, но что будешь делать в соседней камере?!
Как говорится: спаслись из огня да попали в полымя!
Особенно грузины и азербайджанцы, чьи великий Руставели и великий Низами всегда шли рука об руку; чьи древний Рустави и древняя Гянджа души друг в друге не чаяли.
В Тбилиси произошла апрельская драма, в Баку – январская трагедия.
Эдуард Шеварднадзе, коммунист номер один среди грузин, и Гейдар Алиев, коммунист номер один среди азербайджанцев – это пара кавказских орлов! – покорившие за семидесятилетнюю историю Империи Зла высочайшую вершину золотозвездного кремлевского Олимпа после Берии и Нариманова, не стерпев вопиющей несправедливости, покинули интернациональный Олимп, ничуть об этом не сожалея.
К счастью, эти политические жесты не остались без ответа – надежный грузинский народ подхватил батоно Эдуарда, а благодарный азербайджанский народ Гейдар-бека прямо в небе, не давая сойти наземь, подняли их как флаг над головой и водрузили на высшую точку национального Олимпа.
Пятнистый Горбачев, резвящийся на зеленых склонах райского Карабаха, мог обдурить Везирова или запутать Муталлибова; во всяком случае, после свержения с престола оба неудачника бежали в Москву. Однако Гейдар Алиев, давно вернулся с неблагодарного Кремля, куда только что обратились эти горемыки, и получи Горбачев не одну, а хоть пять Нобелевских премий, он все равно никогда не смог бы его провести; напротив, Гейдар Алиев мог бы усадить этого фальшивого нобелевского лауреата, этого доморощенного защитника мира перед собой, как школьника в красном галстуке, и обучить азбуке перестройки.
«У него семь миллионов овец!»
Камень, брошенный вслед, не больно ранит; этот камешек вслед ему был брошен из столицы Пионерлагеря рукой полиглота Жириновского.
В отличие от Ельцина, который спьяну излагал американские воспоминания только отборным русским матом, этот шалопай-полиглот, собравший вокруг себя постсоветских мнимых либерал-демократов и якобы ратующий за справедливость, хлебая русскую водку, материл англичан на английском, немцев на немецком, тюрков на тюркском. Порой, когда он, подобно Ельцину, смешивал вино с ракы, не скупился на проклятия в адрес евреев, а то и армян, поносил их последними словами на всех семи языках, которыми вроде четко владел.
Во всяком случае, в смешанном меню Горбачева, который предпочитал армянский коньяк турецкому ракы, грузинскому вину и даже русской водке, конечно же, свиная запеканка ценилась выше жареной баранины. По этой причине, дабы расширить глобальное свиноводство в регионе, в Устав ООН был включен специальный пункт, и от экологически чистого пастбища национальных ягнят, расположенного достаточно далеко от нефтяных скважин, был отделен участок и передан интернациональным свиньям.
Представители авторитетных международных организаций, региональных центров и миротворческих миссий во главе с небелорусскими сопредседателями Минской группы, которая была прикреплена к региону в качестве жандармерии, время от времени посещали пастбища, чтобы ягнята и свиньи мирно паслись бок о бок. Несмотря на эпизодические блеяния и хрюканье, ситуация на склонах, где разыгрывалось перемирие, была стабильной и неизменной – как звучало в устах Горбачева: «абсолютно и точно»!
Совершенно невозможны были изменения в механизме, где даже самый крошечный винтик вращался под контролем, и, с субъективной точки зрения Жириновского, единственное, что изменилось за минувший срок – это количество ягнят, а если мерить объективным аршином ОБСЕ – площадь пастбища. А вкратце: поголовье семи миллионов ягнят достигло девяти миллионов, а площадь пастбищ, некогда составлявшая 86,6 тысячи квадратных километров, сократилась примерно на 20 процентов.
Глава третья
…Он внезапно вспомнил знакомое лицо девочки, имени которой не мог вспомнить целую вечность. На этот раз в красном мареве, как красное дерево: как красную калину Шукшина, как красный тополь Чингиза Айтматова. Но почему она вдруг вспомнилась ему? – этого он не знал…
Он ненавидел торжество торга – давно испытывал отвращение к этой ярмарке, которую торгаши превратили в большой блошиный рынок, к этому миру спекулянтов, пропитанному сплошной фальшью.
Вспомнив знакомое лицо девочки, имени которой не мог вспомнить целую вечность, он подумал, что в веренице красных гробов самый маленький – ее гроб (как говорил поэт Вагиф Джабраилзаде: самая красивая звезда на небе была ее звездой!) и самое маленькое место на дорогой земле, стоимость которой зашкаливала в соответствии с текущими тарифами на рынке недвижимости, занимает гробик этой девчушки.
22 января 1990 года.
Он хорошо запомнил огромную процессию на похоронах январских шехидов-мучеников: в веренице красных гробов стоял гроб девочки, усыпанной красными гвоздиками, а Горбачев тогда еще не был удостоен Нобелевской премии.
Да, именно так: последний Генеральный секретарь Компартии СС Михаил Сергеевич Горбачев еще не был лауреатом Международной премии мира, но Гейдар Алиев, которого он поместил под домашний арест, накануне этих многолюдных похорон сделал жест, стоящий сотни нобелевских премий: вынул из левого кармана партбилет цвета крови шехида-мученика и швырнул в лицо Кремлю.
И где?! – в самом центре Москвы!
И как?! – без раздумий и без малейшего страха!
Демонстративно и на глазах у всего мира!
Как говорил Юсиф Самедоглу: ах ты, мир окаянный, плевать на твой престол!
Плевать на твой престол, ибо все твое существование – от звездной вершины Кремлевской башни до солнечного купола Белого дома! – на протяжении тысячелетий было основано на лжи, обмане и мошенничестве, и не стоит и слезинки смотрящего и плачущего из глубины веков ребенка, которого неустанно хоронят, но он непобедим как солнечный луч!
Плевать да плевать, ибо мизерный диплом Международной Нобелевской премии мира, чья слава непомерно раздута на весах международной политики, весит столько же, сколько капля крови шехида-мученика!
22 января 1990 года.
Нет, он никогда не забудет эту памятную дату.
Как и удивленные черные глаза той хрупкой, как цветок девчушки, ее немой, вопрошающий взгляд.
Эти черные глаза, уставившиеся на него с перетянутого черной лентой портрета, глядящие со странным удивлением посреди красных гвоздик, были живыми, а лицо прозрачно как слеза! Более того, и эти угольно-черные глаза, и этот невинный лик были ему знакомы – ей-богу, где-то он уже их видел.
Он знал ее наверняка, но не мог вспомнить; не мог припомнить ее имя, которое вертелось на языке.
…Теперь, будто во сне, он увидел вдалеке – в красном мареве, подобно красному дереву! – как девчушка подмигнула ему и сразу превратилась в красный мираж; потом появилась снова, помахала издали рукой и снова слилась с красным миражом, снова растаяла и исчезла; потом появилась заново, опять подмигнула и опять куда-то пропала…
– Тополек мой в красной косыночке! Калина моя красная!
Самой красивой из звезд на небе была ее звезда; кто же та девочка, рана которой краснее платья?! – он не мог вспомнить.
Он хорошо помнил девятилетнюю девочку-утопленницу в одном из произведений Акрама Айлисли. Это не был вымышленный образ: Акрам Айлисли написал о печальном событии, произошедшем в его деревне.
…Жарким августовским днем группа девчат разделась и вошла в воду, они радостно плескались в небольшом пруду и тут внезапно появились деревенские мальчишки. Девочки, заприметивщие их еще издали, быстро надели платья и разбежались кто куда, а девятилетняя девчушка замешкалась; ей не удалось выбраться из воды, схватить красное платье и быстренько убежать. Стыдясь своей наготы, она нырнула в глубину и больше не вынырнула; утонула.
Она утонула, но сберегла честь.
Чего стыдится незрелой девятилетней девочке?! Разве сложно было быстро выскочить и натянуть красное платье?!
Но нет, она так не думала. Она устыдилась мальчуганов-соседей. Ведь если ястребиные глаза хотя бы одного из шалунов, с которыми она училась в школе, увидели ее угловатое, незрелое тельце, как она могла бы продолжать жить в этой деревне? учиться в этом классе?
Стоило ли вообще жить после этого?
Нет, не стоило – так считала девятилетняя девочка, что не стоило!
И бедняжка осталась в воде; ее крохотное тельце свело судорогой и, в конце концов, она утонула.
Вспомнил он и трехлетнюю крошку Семаю, историю которой Анар описал в романе «Номер в отеле» так, как он услышал из уст свидетеля:
«Армяне дали срок – четыре дня, чтобы все покинули Ходжалы… Обманули нас. Через пару часов началась стрельба. Мы, женщины, решили пойти на минное поле, сами подорвемся, а танкам нашим дорогу откроем. Не пустили… Кемал велел мне с соседкой уйти из села, а мы, мол, останемся и будем биться до конца. Я воспротивилась. Кроху свою, Семаю, вверила соседке, а сама осталась… Сначала они убили Адиля, потом и Кемала. Потом дошел слух, что и соседку в лесу подстрелили, но ребёнок уцелел. Кинулась в лес, двое суток металась, искала… наконец, нашла… нашла трупик ее… Не от пули… Замерзла кровиночка моя. Ползла-ползла в снегу, окоченела – и все… Ручонки сплошь в колючках. Я их, колючки-то, по одной, по одной повытаскивала, могилку вырыла, похоронила деточку мою…»
«Эх моя проклятая Страна, пророк которой был купцом!..»
Когда строка юного поэта-бунтаря Эльдорадо пронзила его мозг, он подумал, что, и черноглазая девчонка, рана которой была краснее платья, и девятилетняя школьница, похороненная на отдаленном деревенском кладбище, и трехлетняя крошка, закопанная в Ходжалинском лесу (ее ножки в красных ботинках замерзли от ползания по снегу) в этом огромном торгашеском мире уместились всего-навсего на трех дюймах сырой земли, каждый квадратный сантиметр которой измеряется маклерскими линейками…
Какого цвета было платье утонувшей девчушки, похороненной на отдаленном сельском кладбище в Ордубаде – кажется, Акрам Айлисли не написал об этом ни слова; ботинки трехлетней крошки, закопанной в Ходжалинском лесу, вероятно, вовсе не были красными – во всяком случае, Анар об этом не упомянул.
Но ему почему-то всегда казалось, что и то платье, и те ботинки должны быть красными, непременно красными!
Точь-в-точь как красная гвоздика!
Как рана Ларисы, похороненной в самом сердце Баку 22 января 1990 года (наконец-то вспомнилось имя обладательницы крохотного гробика в веренице красных гробов!) – ярко-красная!
Точь-в-точь как выглаженный пионерский галстук двенадцатилетнего ставропольского школьника Миши Горбачева – темно-красный!
Как и партбилет, который Гейдар Алиев с ненавистью отшвырнул посреди Москвы – кроваво-красный!
Глава четвертая
…Он также вспомнил, что аналогичная история о красном цвете ему встречалась еще в книге Генриха Бёлля. Его матери очень нравилась повесть «Хлеб ранних лет», написанная с истинно немецкой честностью; она не знала немецкого языка и читала произведение на русском. После того, как подрос, он пару раз перечитал любимую повесть своей матери; точнее, он перечитал ее трижды: дважды на русском и один раз на азербайджанском, в переводе Акрама Айлисли…
«Хлеб ранних лет» – да, хороший перевод. Русский вариант тоже был хорош; на обоих языках он прочел на одном дыхании, выпил залпом произведение, от искренности которого на глаза наворачивались слезы.
Глубоко вздохнув, он подумал, что все, все, все в те годы было лучше – и книги, и писатели, и переводчики.
Тогда все было иначе, все было хорошо, к тому же очень хорошо – было чистым и прозрачным, как вода!
Теперь и город, и улица, и книга и даже вода стали седьмой водой на киселе, весь вкус пропал. Вот была бы возможность напоить этой водой тех, кто ее во все подливает; заставить режиссеров смотреть до полного изнеможения их бездарные передачи; принудить писателей, издающих по дюжине книг в год, в наказание читать свою же писанину от корки до корки.
Нет, нынешнее время нельзя сравнивать с минувшим; эти годы, которые он приговорен был прожить, и терпел как пожизненное наказание, были совсем непохожи на минувшие.
Те годы, которые простирались на том конце жизни как зеленый остров посреди моря разлуки, были иными, совершенно иными!
И воздух тех лет был другим, и запахи, и вкусы; даже мороженое было совсем другим.
Но почему, почему, почему?! – ответа на это у него не было, точнее, он знал только то, что тогда все было гораздо лучше, вот и все дела!
Если честно, каждый месяц, каждый день тех лет был наполнен матерью, и он тосковал по ней, которая жила в его воспоминаниях и подобно матери Назыма Хикмета, говорила по-французски.
Да, каждая заря начиналась с матерью, каждый закат угасал с матерью, и ей-богу, все те дни, проведенные с матерью, были хорошими – все, все!
– Дни прошедшие верните мне…
Господи, как пламенно и страстно звал те минувшие дни Акиф Исламзаде, чей божественный голос тоже остался в прошлом!
– Дни прошедшие верните мне, я отдам грядущие без сожаления…
Отдал бы, конечно, отдал бы! А что бедному еще оставалось?!
Божественный голос, который был смыслом его жизни, вместе с достойной Нобелевской премии исполнением песни «Сары гялин»,1остался в днях минувших, на зеленом острове посреди моря разлуки, а сам он на сером берегу жизни, которую сносил как наказание! И теперь был осужден жить между двумя мирами – прямо как тот бедняга в известном фильме «Привидение»! – в виде тела без души и души без тела…
Что греха таить, кажется, и сам он находился не в лучшем состоянии, разница только в том, что в отличие от любимого певца, его «почему» было связано не с голосом, а с матерью!
На далеком зеленом острове давно минувших лет остался не голос, а мать, и именно ее он искал в прошедших днях; именно ее он пламенно и страстно звал – мать, по которой он страшно тосковал, а в эту ночь сильнее, чем когда-либо!
Увы, те дни, та пора жизни, когда рядом была мать, когда все было иначе, и воздух, и запахи, и вкусы, и даже мороженое уже не вернуть.
– Тополек мой в красной косыночке! Калина моя красная! Увидеть бы на миг твой прекрасный лик… Увидеть бы на миг… твой прекрасный лик… Увидеть бы на миг… увидеть бы на миг… Как быть мне, мама?! Как быть мне, Сары гялин?! Как быть мне, как?! Как?!
Минувших дней не воротить, хотя печальный голос Акифа Исламзаде шептал «Да рукой подать», их разделяла непреодолимая гора разлуки; а Джо Дассен, которого он слушал снова и снова, оживил в памяти только тоску по прекрасной матери, а не ее саму.
Хотя Назым Хикмет утверждал, что в двадцатом веке боль смерти длится не больше года, его боль длилась сто лет: его тоска пронеслась, как ветер через двадцатый век, и затопила как сель век двадцать первый, и эту горькую чашу, которую он пил снова и снова, как и до-минорный концерт № 1 Себастьяна Баха, все никак не удавалось испить до дна.
Как будто этого было мало, так еще со вчерашнего дня он долго ломал голову, сколько времени шел дождь в романе «Сто лет одиночества».
– Как я был счастлив когда-то, Боже!..
От этой строки, навевающей аромат тех лет, у него вставал ком в горле, а вторую строку – «Как жаль, что не ведал о том!» – он всегда душил в двух слезинках, утешая себя, что, во всяком случае, ему довелось испытать это счастье – жить в мире, где есть объятия матери; просто те счастливые дни продолжались недолго.
Да, в том мире, как писал поэт-любимец Али Керим, полном счастья, была его мать – незабвенная мать, роднее всех родных! – чей родной запах чудился всюду, а родной шепот всегда звучал в ушах:
– Единственный мой! Единственный мой! Единственный мой!