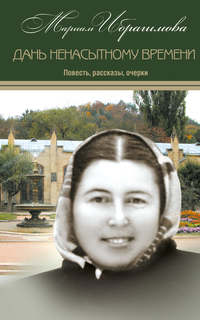Buch lesen: "Дань ненасытному времени (повесть, рассказы, очерки)"
© М.И. Ибрагимова, наследники, 2017
© ТД «Белый город», 2017
Дань ненасытному времени
Александр Мосинцев, член Союза писателей России
С Мариам Ибрагимовой я познакомился в начале семидесятых, когда от писательской организации из краевого центра приезжал в Кисловодск к одному из авторов альманаха «Ставрополье». Он-то и привёл меня на квартиру Мариам Ибрагимовой, с которой жил по соседству.
От её дома осталось ощущение уюта и уверенности, какой-то самодостаточности. Покоряли хозяйское радушие и неподдельная заинтересованность новым человеком. Я знал, что работает она врачом на курорте, пробует себя в стихах и прозе, читал какие-то вещи её, связанные с Дагестаном. В общем, отнёсся тогда к ней примерно так, как описывает Пушкин в «Путешествии в Арзрум» свою встречу с персидским придворным поэтом Фазиль-ханом. Как известно, Александр Сергеевич «с неуёмной затейливостью начал восточное приветствие, а Фазиль ответил с умной учтивостью порядочного человека». Поэтому наш классик «со стыдом был принуждён оставить важно-шутливый тон», получив «урок русской насмешливости».
Встреча не получила продолжения, потому что в то время редколлегия альманаха старалась строго придерживаться ставропольской тематики. Колорит и проблематика северо-кавказских республик, кроме Карачаево-Черкесии, входившей в состав края, заинтересованности у писателей не вызывали.
Контакты с Мариам Ибрагимовой продолжались только в период перестройки, в «Кавказском крае» – еженедельнике, ориентированном на историю, культуру, литературу и религию Северо-Кавказского региона. Это было время переосмысления идеологии, выработки новых подходов в решении межнациональных проблем, которые, как известно, не завершились безболезненно.
Историю Кавказа, обычаи горцев Мариам знала хорошо и по своей родословной, и по первоисточникам: не один десяток лет отдала работе, посвящённой третьему имаму Дагестана и Чечни, с привлечением документов из-за рубежа.
К тому времени рукопись её, пролежавшая не один год в редакционном портфеле, вышла отдельной книгой «Имам Шамиль» в столичном издательстве «Советский писатель», сразу поставив автора в ряд самых серьёзных исследователей истории России.
Сознавала ли Мариам своё новое положение? Вне всякого сомнения. Но в разговорах никогда и словом не обмолвилась, не подчёркивала своё превосходство и глубинную историческую осведомлённость. Другое дело – полемика на страницах газеты. Сразу же после выхода в свет какой-либо статьи, близкой её интересам, посвящённой то ли поражению турецкого полководца Батал-паши под Черкесском, то ли другим историческим реалиям, с юношеской непосредственностью звонила в редакцию, предлагая своё видение образа и эпохи. Оказывалось, что статья на эту тему у неё уже давно написана, да только не была востребована в «прошлой жизни».
Как врач, зная о своей неизлечимой болезни, она спешила высказаться на страницах газеты. После её смерти выяснилось, что осталась не одна сотня рассказов, очерков, просто зарисовок, которые и сегодня интересны для читателя.
Книга прозы «Дань ненасытному времени», подготовленная к не состоявшемуся при жизни юбилею – 80-летию Мариам Ибрагимовой, вышла благодаря усилиям её сына Рустама Юрьевича, которому она передала свою энергию и принципиальность.
Удивляет вот что. Хозяйка дома, мать, врач, общественный деятель (а без этого в «прошлой жизни» нельзя было стать заведующей отделением элитного санатория), как она находила время писать стихи, романы, повести, рассказы, газетные статьи и жить по принципу «ни дня без строчки»?! В сущности, каждая встреча с новым человеком, размышления о судьбах ушедших, о пережитом времени, каких-то городских неполадках постоянно высекали искру в её душе. Но, само собой, предпочтение она отдавала непритязательной жизни горцев, хранящих вековые устои.
В очень лиричном рассказе «Охотник из поднебесья» сотрудники одного из московских научно-исследовательских институтов, находясь в отпуске, на горном перевале встречаются с охотником Мурадом, красивым и крепким парнем, олицетворяющим жителя поднебесного аула Тляроты. Он не суетен, немногословен, не пьёт, не курит, поднимает на ноги после смерти отца трёх братьев и двух сестёр. Плотничает в ауле, а в свободное время охотится. Есть что-то первородное, непосредственное в его натуре, которую с восхищением описывает Мариам.
Образ Мурада – камертон книги. Потом его черты угадываются в старом Хамзате, выведенном в рассказе «Обида». Старик работает сторожем в конторе «Заготзерно». Однажды чабаны, перегонявшие отары с зимних пастбищ в горы, подарили ему щенка, которого он назвал Аргутом. Собака выросла, стала прекрасно исполнять свои сторожевые обязанности, но тут-то и начинается конфликт благородного пса с людьми, испорченными цивилизацией. Олицетворяют их директор «Заготзерна», соседский подросток Расул – бездельник и хулиган, участковый, ветеринар и другие жители. В конце концов Хамзату пришлось расстаться с Аргутом: отдал он кобеля проходившим мимо чабанам. И навсегда. Обиженная собака потом, встретясь с хозяином, с укором проходит мимо него.
В другом случае в роли этой собаки оказывается крымский татарин из рассказа «Хамракул-ака». Парень является личным шофёром Героя Соцтруда Турсункулова, председателя прославленного в Узбекистане колхоза. Однако узбекам-колхозникам шофёр не нравится. Не та биография, – выслан в республику с родителями в годы войны. Дескать, неблагонадёжный, враг народа. Дело дошло до ЦК компартии Узбекистана, который готов запретить въезд татарину в Ташкент. Председатель не сдаётся: «Тогда и я не буду ездить в столицу, но шофёра не сменю». Да и чего менять-то: парень не пьёт, не курит, заботится о престарелых родителях, хорошо работает. Чего ещё надо!
Вот эта трагедия народов, репрессированных по указу Сталина, один из фонов книги Мариам Ибрагимовой «Дань ненасытному времени».
Этой теме посвящён и центральный очерк, давший название всей книге – «Дань ненасытному времени». В нём прослеживается судьба видного политического деятеля карачаевского народа Умара Алиева, уничтоженного в ГУЛАГе.
Конечно, с высоты нынешнего времени Мариам Ибрагимову можно упрекнуть в романтизации образов кавказских революционеров и самого Ленина, которые будто бы не виноваты в последующей трагедии российских народов и самого государства. Но надо учесть и то, что утопические идеи коммунизма на Кавказе взошли не от хорошей жизни горского населения, Мариам прекрасно понимала: революция и Гражданская война принесли не только правовой беспредел, но и равноправие горцам, землю, образование.
Другое дело, что эти идеи потом выродились в диктатуру партии, живущей для себя с помощью мощнейшего репрессивного аппарата. Однако, как бы сегодня ни хотелось кому-то отмахнуться от социалистических принципов, не получится. Они пустили корни в наше сознание и рано или поздно всё равно дадут о себе знать на новом историческом витке. Все мы данники своего ненасытного времени.
Не менее важной темой в книге Мариам Ибрагимовой стала и Великая Отечественная война, которая катком прошла по всему старшему поколению. В очерке «Память» автор рассказывает о самых тяжёлых первых годах войны, когда пал Ростов и немецкая громада устремилась к нефтеносному Баку и перевалам Главного Кавказского хребта, открывавшим дорогу к странам Ближнего и Среднего Востока. Горела грозненская нефть, по дорогам через Буйнакск тянулись бесконечные вереницы беженцев, эшелоны с ранеными. Небо застилали орущие стаи ворон, а в переполненном завшивевшем госпитале свирепствовал сыпняк. От него умерла близкая подруга, обречённая заболевшим майором. Возвращаются домой искалеченные бывшие курсанты военно-пехотного училища, в котором работала Мариам, каждый день почтальон приносит похоронки. Голод и холод. Но мужает душа, пишутся стихи, и верится в победу, которую и дождалась она в Буйнакске.
Через эту призму войны рассматривает Мариам Ибрагимовна в дальнейшем судьбы своих героев – в очерках о Галине Лилиткиной, Анне Корниловой, Анатолии Чужинове, многих других. С особой симпатией пишет она о жизнелюбивом Антоне Кереселидзе, шеф-поваре санатория, молодой подруге-моднице Маше, тоску-ющем о своих стариках-покойниках Гаруне Гаджиеве и мастере-цветоводе из Тбилиси Тинатине Хорадзе-Тодуа. С гневом – о бестактном Расуле, превратившем поминки в элементарную пьянку, живущих двойной моралью «дикарях» – профессоре Иване Котове и его молодой жене Алле.
«Все мы гости в этом мире. Сегодня ты живёшь, а завтра тебя нет. Зачем нам ссориться?» – говорит Мариам Ибрагимова устами своего героя Хамракула Турсункулова, как бы завещая нам землю, на которой нам жить, волноваться и перестраиваться, но не забывать свою непростую историю.
Превратности судьбы или Исповедь длиною в жизнь
Репрессии крушили людей, не разбирая национальностей, убеждений, религий.
Их жертвами становились целые сословия у нас в стране. Среди них казачество и священники, простые крестьяне, профессора и офицеры, в том числе царской армии, пришедшие на службу советской России, учителя и рабочие. Логика была одна – посеять страх, пробудить в человеке самые низменные инстинкты, натравить людей друг на друга, заставить слепо и бездумно повиноваться.
…Мы не должны забыть все ужасы сталинизма, связанные с концлагерями и уничтожением миллионов своих соотечественников.
…Перед этими могилами, перед людьми, которые приходят сюда почтить память своих близких, было бы лицемерно сказать: «Давайте всё забудем».
Владимир Путин
В тот вечер заседание бюро Дагестанского обкома партии затянулось до полуночи. Не скажу что одолевала усталость. С некоторого времени правительственный аппарат во главе с НКВД республики привык к ночным бдениям. И не только в Дагестане, а по всей стране.
Не спал великий вождь. Не гасли лампы во всех кабинетах Кремля, министерствах и ведомствах столицы. «Страна строила социализм в условиях обострившейся классовой борьбы».
Была осень 1937 года. Начались аресты руководящих работников в столицах республик – искали «врагов народа». Некоторых забирали прямо с заседаний бюро, выводя из состава. И потому на этих заседаниях чувствовалось крайнее напряжение.
Члены бюро обречённо ждали последнего вопроса повестки дня – «О разном» – кого из них по указанию НКВД обвинят в антипартийной деятельности и прямо с заседания в сопровождении в особо отличавшейся, блестящей форме работников НКВД – синего цвета, с краповым околышем на фуражке – увезут на «воронке» в неизвестность.
Печально, что среди тех, чьи судьбы решались за кулисами НКВД и приводились в исполнение без суда и следствия, были люди, прошедшие от начала до конца нелёгкий путь борьбы за установление Советской Власти, самоотверженные борцы с местной контрреволюцией, интервенцией.
В голове не укладывалось, что эти идейные революционеры-большевики, пройдя тяжёлый путь испытаний, утверждая народовластие, занимая руководящие посты и, следовательно, являясь признанной элитой с властными полномочиями, вдруг стали на путь «протурецкой ориентации» и предательства.
Но если сам великий вождь, воспетый и вознесённых до небес, изваянный и расписанный всеми цветами радуги, гениальный продолжатель учения Маркса, Энгельса, Ленина говорит о том, что враг хитёр, коварен, что он может скрывать своё истинное лицо за благодушной маской, какие могут быть сомнения?
Я – Магомед-Гирей Магомедов – молодой человек, полный сил, энтузиазма, бывший работник обкома комсомола, после окончания исторического факультета педагогического института был взят на работу в обком партии инструктором отдела агитации и пропаганды, затем быстро сделал скачок – от заместителя до заведующего отделом. Получив квартиру, женился, а когда появился второй ребёнок, с трудом уговорил мать и привёз её к себе из аула.
До той злополучной ночи в октябре 1937 года я был счастлив и доволен судьбой, как человек устроенный и обеспеченный во всех отношениях. Но в какой-то момент, нежданно-негаданно, волею превратности судьбы всё перевернулось в моей жизни.
В пункте «О разном» на бюро обкома вопрос обо мне не стоял. Во время перерыва, где-то около часа ночи, вместе со всеми я вышел во двор покурить. Заседание проходило в просторном зале старого двухэтажного обкомовского особняка, широкий двор которого с внутренней стороны был отгорожен стенами других домов, образующих четырёхугольник.
Отделившись от группы товарищей с дымящей папиросой, я медленно стал прогуливаться вдоль здания в сторону подворотни. Здесь и увидел крытую машину – «чёрный воронок» и с тревогой подумал: чёрт побери, кого очередного ждёт?
И тут один из двоих мужчин, стоявших рядом с «чёрной марусей»1, сделав несколько шагов в мою сторону, тихо сказал:
– Товарищ, дай прикурить.
Ничего не подозревая, я пошёл ему навстречу и вытянул вперёд руку с горящей папиросой:
– Пожалуйста.
– Подойди ближе, – скорее не сказал, а приказал второй.
Когда я поравнялся с «чёрным воронком», мне скрутили руки и втолкнули внутрь. Не успев опомниться и что-либо сообразить, услышал чудовищный скрежет распахнутых ворот. «Воронок», сорвавшись с места, вырулил на улицу. Двоих чекистов я едва различал в темноте, третий смотрел на меня из кабины.
Сердце, казалось, разорвёт грудную клетку, стук его отдавался в ушах, мурашки прокатывались по холодной спине, язык сковало. Я не мог не только говорить, но и понять, что со мной случилось. Когда, наконец, осознал своё положение, с трудом выдавил:
– Что всё это значит? Вы ошиблись, товарищи…
– Там не ошибаются, разберутся, – грубо ответил чекист.
Через 5–6 минут «воронок» въехал во двор. Я догадался, что меня доставили во внутреннюю тюрьму НВКД, где находились камеры предварительного заключения. Рядом – здание наркомата. Тут же расположены и многоэтажные дома семей работников наркомата, санчасть, столовая и буфет.
До меня ясно доносился шум морского прибоя. Этот район города я знал хорошо, не раз бывал у своего товарища из дорожного техникума, которого перевели на оперативную работу в органы.
Два конвоира повели меня на второй этаж по длинному коридору, мимо множества дверей камер. Шёл второй час ночи. Тусклый свет электрической лампочки под высоким потолком камеры едва освещал два ряда тесно лежащих на полу человеческих тел – головами к стене. Между ними оставался узкий проход. В правом углу, у параши, держали свободное место для новеньких. Тут я и присел. Несколько заключённых приподняли головы, с безразличием посмотрели на меня и снова предались беспокойному сну, а может, ушли в тяжёлые думы.
Мысли мои роились, как муравьи в потревоженном муравейнике. Перебрал в памяти всё, что мог сказать лишнее, пытался отыскать неосторожный шаг и, не найдя ничего крамольного в своих действиях, успокаивал себя: это ошибка, разберутся, отпустят.
Тревожили думы о матери и жене. Они ждут меня, даже в полночь. А теперь что подумают, куда кинутся, как перенесут страшную весть…
И мысли не допустят, что я в числе врагов народа. Биография моя безупречна, как и сама жизнь. Всё это досадная случайность!
Отец – бедняк, безземельный уздень – с отрочества занимался народным промыслом. И меня приспособил к своему ремеслу. Я стал вспоминать кубанские станицы, по улицам которых бродил, заглядывая во дворы казаков, выкрикивая: «Лудим, паяем, чиним!» Как носил в мастерскую отца заказы от станичников.
Когда установилась советская власть, мы вернулись домой. Отец открыл мастерскую в Темир-Хан-Шуре, меня отдал в русскую школу.
В годы коллективизации меня как комсомольца мобилизовали агитировать горцев вступать в колхозы. Вместе с членами партии – русскими и местными – мы разъезжали по аулам, объясняя народу преимущества коллективных хозяйств, наталкиваясь на сопротивление крестьян, не желавших объединять свои земли, скот, сельхозинвентарь. Вспыхивали волнения, доходило до убийства активистов.
Всей душой я был предан советской власти. Считал, что горцам она открыла путь к учёбе, дала возможность своим трудом обеспечить безбедную жизнь. Разве до этого мог я или мои братья мечтать о городской квартире, о высшем образовании, о высоком служебном положении? Нет, тут недоразумение, ошибка. Скорее бы вызвали для объяснения!
Но в ту ночь никто никуда не вызвал. Под утро я погрузился в дремоту. А через час, когда забрезжил рассвет, проснулся от шума в камере. Арестантов выводили во двор на прогулку. Поднялся и я.
Угрюмо опустив головы, заложив руки за спину, шаркая каблуками по каменистому дворику, окружённому серой стеной, мы молча шагали друг за другом.
В камере переговаривались в полголоса, и то изредка, словно давно знали друг друга, и говорить было не о чем. Нескольких арестантов знал по работе, они возглавляли министерства, руководили городским хозяйством. Только кивком сокамерники выказали своё молчаливое приветствие, в разговор не вступали. Это вызвало во мне неприятное чувство – подумал, что приняли меня за подсадную утку. Слышал, что такое практикуется: дабы вызвать арестованного на откровенность или чтобы выпытать какие-то сведения, сочувственно влезали в душу.
Так прошёл день. В полночь вызвали меня не для объяснения, которого ожидал, а на допрос. Следователь сразу начал с уточнения паспортных данных. Потом приступил к сбору других биографических сведений. А я не мог сосредоточиться на главном.
С первой же минуты, как только переступил порог кабинета следователя и глянул на сидящего за столом человека в форме, стал напрягать память, когда и где я его видел. Ещё в начале допроса хотел заметить этому со строгим лицом и высокомерно поднятой головой человеку, что, согласно положению, он должен был представиться подследственному, назвав свою фамилию, имя и отчество. Но мне не хотелось начинать с замечаний официальному лицу, в чьих руках в данную минуту находится моя судьба, ибо всё ещё надеялся, что в моём деле разберутся, принесут извинения и отпустят.
Пока следователь неторопливо, каллиграфическим почерком подробно записывал мои показания, я перебрал в памяти всех знакомых, товарищей, начиная со школьной скамьи. В том, что я его не просто раньше видел, а где-то встречался, сомнений не было. Лицо его запомнилось: правильные черты, резко очерченные полные губы, большие бархатистые глаза в миндалевидном разрезе чуть припухших век.
Я, видимо, отвечал невпопад, повторялся и потому следователь несколько раз заметил:
– Вы уже об этом говорили.
В кабинет вошёл другой молодой человек в форме НКВД и, обратившись к следователю, сказал:
– Рюрик Иванович, срочно к начальнику.
Когда следователь резко повернулся в сторону вошедшего, мой взгляд выхватил родинку на его виске.
«Клоп» – чуть не вырвалось у меня. Да, это была его красновато-бурая родинка с четырьмя хвостиками, похожими на ножки, и ясно очерченной головкой. «Клоп» – снова повторял я про себя. И имя сходится – Рюрик, только вот отчество другое. Не звали его отца Иваном. Пока мои мысли с быстротой молнии проносились в голове, и я взволнованно всматривался в лицо следователя, он нажал кнопку под крышкой стола. Вошёл конвоир, кивнул в мою сторону: «Уведите!»
Очутившись снова в углу камеры, с нарастающим волнением я предался воспоминаниям. В то смутное тревожное время переворота в России до кубанской станицы, где мы с отцом занимались своим ремеслом, доходили непонятные для меня слухи о войне, революции, о белых и красных…
Потом в станице стали появляться на конях вооружённые мятежники, правда, долго не задерживались. Хотя среди казачат я первым встречал и провожал отряды входящих и проходящих – ровным счётом ничего не понимая, любовался оружием лихих всадников, поступью ретивых коней и вообще оживлением и шумом происходящего в тихой станице.
Было у меня среди казачков несколько дружков, живших по соседству. Среди них особо выделялся одеждой и каким-то превосходством сын генерала Гирича. Фамилия запомнилась, да и сам генерал – высокий, плечистый, сверкающий позолотом эполет, с орденами и медалями. Когда по воскресеньям генерал с женой, старшим сыном, дочерью и младшим – Рюриком – торжественно шествовал под звон колоколов в станичную церковь, пёстрая толпа казаков и казачек расступалась перед ним.
Слышал однажды речь генерала, когда атаман объявил сход мирян на церковной площади. Стоя на церковных ступеньках, генерал громко говорил собравшимся станичникам. Не всё запомнил и не всё понял я тогда – мальчишка восьми лет. Но кое-что запало в душу.
– Братья казаки, не верьте красным разбойникам. Это антихрист в их лице поднял простолюдин против царя и Бога. Это жиды хотят погубить Русь-матушку и утвердить в ней свою веру и законы. Не слушайте большевиков и жидовских комиссаров – мягко стелют, да жёстко будет спать. Православный русский народ отстаивал своё Отечество в борьбе с нехристями. Так защитим же и мы свои станицы и города, Кубань и Дон от красной нечисти! Жиды и комиссары обрекут вас на кабалу, нищету и унижение!
Благодаря блестящей памяти, я запомнил многое, но смысл сказанного был непонятен.
– Защитим с Божьей помощью! – выкрикивали старые казаки.
А спустя несколько дней, со свистом и криками ворвался в станицу конный отряд. Ничего тогда я не разобрал. Вооружённые всадники, одетые в полувоенную форму и в гражданскую, о чём-то говорили казакам, собравшимся на площади. Обратил внимание на всадников в кожаных тужурках с портупеями, в фуражках со звёздами, в галифе и хромовых сапогах. Эти вроде были главные, громко отдавали команды бойцам и переговаривались с казаками. Возле них вертелись крепкие бесшабашные парни в тельняшках и бескозырках.
К церковной площади спешили станичники, образуя огромный круг. Казаки держались особливо, в сторонке.
Самый большой в станице, добротный дом генерала Гирича высился на холме, недалеко от церкви. К нему и направилась часть всадников. Один из них, послав коня вперёд, стал о чём-то громко говорить стоящему у открытого окна при всех регалиях генералу Гиричу. Другие окна были наглухо закрыты ставнями. Переговоры закончились взаимными угрозами.
Тогда несколько всадников ринулись во двор генеральского дома, но их остановили выстрелы. Двоих сразили пули. К ним бросились на помощь, но остановились – стреляли из щелей ставен. Красноармейцы так и не смогли подобрать раненых. Тогда с площади тёмным паводком к генеральскому дому хлынула конница. Стреляя по окнам, стали подступать к особняку со всех сторон.
Станичники не вмешивалась – затаив дыхание наблюдали за штурмом особняка. Вскоре осаждённые стали стрелять с чердака, осыпая огнём ручного пулемёта нападавших. Красные, обойдя дом с охапками соломы, стали подбираться с тыла. Нескольким смельчакам удалось подползти к плетню, перемахнуть через него, подложить солому к чёрному ходу и поджечь. Огонь вспыхнул и в конюшне, заполыхали сеновал и дровяник. Пламенем была охвачена часть дома с пристройками.
И вдруг откуда-то из глубины пламени выскочил мальчишка лет восьми и бросился к толпе женщин. Нападавшие кинулись за ним вдогонку. Но толпа казачек на миг расступилась, спрятав ребёнка, и тут же сомкнулась, став живой стеной перед преследователями.
– Геть! – крикнула одна из них, сурово сдвинув брови и выпятив грудь.
– Вин же малый, хлопчик, хиба ж ты не бачишь, басурман! – замахала кулаками другая.
Казачки проявили решительность. С ними не стали связываться.
Тем малым был Рюрик. Как ему удалось вырваться из огненного кольца, и куда он делся с тех пор, ведал один только Бог.
Генеральский дом вместе с его обитателями был сожжён. Отряд красных покинул станицу.
Мир тесен, несмотря на его просторы. Надо же – через столько лет и где встретились!
Рюрик меня, конечно, не узнал. Может, и помнил того чумазого горца в косматой папахе, с которым играл в альчики, в лапту, в прятки.
Надо же, сын белогвардейского генерала, ярого монархиста, отдавшего жизнь за царя и Отечество, работает не где-нибудь, а в самых что ни на есть высших органах государственной безопасности!
Рюрик, только не Иванович. Запамятовал я имя и отчество его отца, к которому не раз обращался «Ваше превосходительство»…
А вот фамилию Гирич помню хорошо.
Когда трагичная картина прошлого всплыла из тайников памяти, я решил открыться, напомнить следователю о его далёком печальном детстве и нашей недолгой дружбе, но передумал: это было бы большим риском, а может и роковой ошибкой.
Если бы Рюрик не скрывал своего прошлого, не был бы сегодня «государевым оком», стражем власти.
Не только говорить, даже намекнуть о том, что знаю его, было нельзя.
Не остановится ни перед чем, сотрёт с лица земли.
Но как, после всего, что случалось с его семьёй, он стал преданным советскому строю чекистом?
Неужели простил своим кровникам?
Я бы не простил.
Жил бы притаившись, не высовывался, но служить врагам верой и правдой – нет!
А может быть он, Рюрик Гирич, не служит верой и правдой коммунистическому режиму.
Быть может он и подобные ему пробрались в органы и высшие эшелоны власти и расправляются с теми, кто отнял у них права, привилегии, имущество вместе с жизнью самых дорогих и самых близких им людей.
Что делать?
Кому довериться?
А вдруг тот, кому раскрою тайну, окажется таким же, как он?
Нет, надо молчать.
Может быть, и все эти лежащие на полу в лохмотьях люди, когда-то занимавшие большие посты, образованные и интеллигентные – такие же враги народа.
И как поймёт меня следователь, отпрыск царского генерала?
Выхода нет, остаётся вверить себя судьбе.
В наступившую новую ночь допрос, касающийся моей биографии, с прежней тщательностью был продолжен.
Когда я смолк, подробно обрисовав недоумение моего странного задержания, заключив, что считаю это ошибкой, следователь подчёркнуто высокомерно заявил, что по ошибке или случайно могут задержать сотрудники милиции, а не чекисты, и добавил:
– Между прочим, гражданин Магомедов, вы обошли молчанием своё пребывание в Турции.
– Позвольте, это было в далёком детстве, мне и семи не было, когда отец повёз меня в Стамбул. И пробыли мы там не более полугода.
– А что делал ваш отец в Стамбуле те шесть месяцев?
– Что мог делать покойный отец, кустарь-одиночка, лудильщик в чужом краю?
– Вы не философствуйте, отвечайте прямо на вопрос.
– Лудил медные казаны туркам.
– Только ли?
– А что ещё мог делать безграмотный, плохо владевший тюркским языком горец?
– Задаю вопросы я, а не вы, – грубо оборвал меня Рюрик Иванович. – Нам известно, что ваш отец был дагестанцем протурецкой ориентации.
– Выдумка, отец был далёк от всякой политики.
– Вы себя тоже считаете далёким от политики?
– Как сказать, я партийный работник, значит, имею какое-то отношение к политике нашего государства.
– Вот именно, какое-то.
– Что вы хотите этим сказать, гражданин следователь?
– А то, что вы, как партийный работник, политически неблагонадёжны, стали на путь измены и предательства.
– Я – на путь измены, предательства?
– Да, да вы, Гирей Магомедов, заведующий отделом агитации и пропаганды обкома!
Я почувствовал тяжесть, какое-то стеснение в голове, в глазах потемнело от гнева, хотелось крикнуть: «Ты, белогвардейский прихвостень!». Но я до крови закусил губу. К счастью, в этот момент вошёл конвоир, вызванный следователем, и увёл меня.
Каждый допрос убивал во мне надежду на освобождение. Меня пытались уверить, что арест мой не случаен – хотя бы потому, что органам давно известно обо мне даже то, что мной забыто.
И думалось мне, ну, допустим, если даже мой безграмотный отец – кустарь-ремесленник, человек взрослый – не разбираясь в политике, мог испытывать какие-то чувства к единоверным туркам, то что могло быть общего у меня, семилетнего мальчишки, с политикой Турции?
Что кроется под этим бессмысленным обвинением?
И всё же, подавляя гнетущие мысли, воспоминания унесли меня в далёкое детство – когда отец, видимо, не желая отправляться один на заработки в далёкий, чужой край, решил взять меня с собой – чтоб не слишком тягостно переносить одиночество и тоску по близким и любимым.
Помню, уговорив мать, он сказал мне со всей серьёзностью:
– Ты же уже мужчина, должен знать пути, страны и народ, где будешь добывать средства для существования и благополучия тех, кто остался у непогасшего очага твоих предков.
В тот год Россия находилась в состоянии войны с Германией, видимо, поэтому некоторые безземельные горцы, занимающиеся отходничеством, решили ехать на заработки в Стамбул.
Помню, в моём детском воображении Стамбул представлялся огромным городом с плоскими крышами, очень похожими на крыши наших саклей. Но как только мы спустились с гор, первый же городок потряс меня стройным величием домов с крышами, похожими на большие железные шатры. А Стамбул своими величественными мечетями, с позолотой минаретов, устремлённых в самое небо, с прекрасными дворцами, омываемый бескрайним морем, на волнах которого качались «водяные дома», показался мне страной сказочным чудес.
Особенно поразил меня стамбульский крытый рынок – «Бююк Чарша», с высокими сводчатыми потолками, с распахнутыми в четыре стороны воротами, куда свободно въезжали не только всадники в пёстрых одеждах, но и караваны огромных верблюдов, гружёных товарами. И чего только не было в его тесных рядах, начиная с ярких ковров, златотканой парчи, серебряных изделий и кончая горами заморских фруктов и сладостей. И возле всего этого богатства толпились чернокожие купцы в ярких одеждах – они казались мне людьми с другой планеты.
Рядом с крытым рынком теснились богатые кофейни и чайханы с расписными потолками, резными украшениями стен и лёгкими колоннами внутри. Между ними были устроены топчаны, покрытые мягкими коврами, на которых восседали и возлежали гости, потягивая дым из длинных кальянов и прихлёбывая ароматные кофе и чай.
Со всей этой роскошью и богатством уживалась в мире и согласии беднота – в закопчённых подвалах, в лачугах ремесленников – шорники, медники, жестянщики, сапожники, портные, плотники…
В одном из таких подвалов, разделённом на жилую часть и мастерскую, поселились мы с отцом.
Приездом в Стамбул отец был недоволен, заработка едва хватало на пропитание и уплату хозяину за жильё. Несмотря на то, что в старой столице Турции бурлила жизнь со всеми её радостями и печалями, какое-то тревожное напряжение чувствовалось всюду – особенно там, где собирались толпы турок. По улицам маршировали турецкие воины в фесках, ими командовали люди в другой, отличающейся от турецкой, форме. Мальчишки назвали их «руми»; теперь-то я знаю: то были немцы, занимавшие командные посты во всех высших турецких ведомствах.