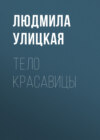Buch lesen: «Писательская дочь»
Был дом, какого не было ни у кого. Там были стеллажи с выдвижными стеклами, золотые корешки, альбомы, бумажные собрания, многие с отмененной буквой «ять», – среди них, как впоследствии выяснилось, Мережковский и Карамзин, гравюры на стенах, картины, потертые ковры, мебель красного дерева, тяжелые столовые приборы на круглом столе с частоколом ножек, способных разбегаться и превращать стол в огромный овальный, и люстра с синей стеклянной грушей в окружении хрустальных слез и запах мастики, пирога и крымских трав, стоящих в глиняных горшочках на полках под потолком, и две девочки, столь же диковинные, как и весь дом, и няня Дуся, приземистая, с бородавкой, в фартуке с протершимся брюхом, и мать девочек – писательница, лауреат Сталинской премии, с мышиными глазами, желчная, умная и страстная. Назовем ее Элеонора. Главный роман ее, посвященный молодой партизанке, погибшей от рук фашистов, был включен в школьную программу, по нему писали сочинения и изложения.
Мелкий крючок был модулем, по которому была построена Элеонора: он просматривался в загнутых вверх чуть ниже ушей жидких патлочках, в розовом носике, в манере подгибать последнюю фалангу пальцев, в рисунке ушной раковины. Крючок присутствовал во всем ее строении. Возможно, не только тела… В ней не было ни тени миловидности, женственности в привычном понимании слова, но была острота и притягательность, объяснить которые пытались многие мужчины, на ее крючок клюнувшие. Впрочем, они пытались расшифровать тайну ее притягательности уже «postfactum», когда бурный роман заканчивался. Заканчивался не в ее пользу – всегда. Если не считать трех ее внебрачных детей, про которых трудно было сказать, что же они собой представляют: победу страсти над мещанскими понятиями униженной советской жизни, знак женского поражения или героический подвиг, а, может, хитрый расчет, никогда не оправдавшийся… Первый ребенок Элеоноры умер во младенчестве, еще до войны. Известно, что был мальчик. Девочки, Саша и Маша, каждая с романтической предысторией, со скандальной прелюдией, рождены были от разных мужчин. Старшая, отца не помнившая, родилась в первый год войны. Младшая запомнила, как однажды высокий седой человек принес большой мяч, играл с ней, а потом мяч закатился под кровать, и он полез его доставать, и две длинные ноги пришедшего протянулись через всю комнату – от стены до стены, как ей показалось.
Когда он ушел, нянька безжалостно сказала трехлетней: Маша, запомни, это был твой отец. И Маша запомнила. Нянька, как выяснилось с годами, оказалась права в своей простонародной жестокости. Это был единственный приход седого мужчины в дом. Не ляпни тогда нянька по бабьей болтливости, может, и вовсе не запомнила бы девочка жесткого лица своего знаменитого отца. Он был палаческой породы, которой развелось от советской власти множество, коммунист и алкоголик, похоже, что с остатком совести, и покончил с собой через некоторый критический срок после смерти Сталина. Интересная небольшая задачка, которую уже никто не разрешит: потому был пьяница, что были в нем остатки совести, или, наоборот, пьянство и связанные с ним страдания не давали окончательно разрушиться эфемерному предмету, называемому совестью. Говорили, что попался на улице кто-то из тех, кого он посадил, уличил негромко, при случайной встрече, и какая-то вернувшаяся из ссылки вдова чуть ли не плюнула в лицо… И он пришел домой, выпил последнюю в своей жизни бутылку водки и застрелился в кабинете государственной дачи, которую выдали ему за верную службу.
И тогда гордая Элеонора надела черный костюм, сшитый в лучшем московском ателье, закрытом, конечно, и повела маленькую дочь постоять ко гробу, возле которого стояли законные дети и законная жена. Дерзость необыкновенная со стороны бывшей любовницы, хоть и лауреатки Сталинской премии. Как ни верти, она была человеком больших дарований и крупных жестов. Машу тоже вырядили в черное, и из всех детей самоубийцы она единственная была похожа на него как две капли воды – восточным разрезом глаз и их льдистым оттенком, острым подбородком и острыми ушами, которые она еще не научилась укрывать волосами.
Между первой встречей, с мячом, и последней, с гробом, была еще одна встреча, промежуточная. Три девочки – Саша, Маша и их незначительная подружка Воробьева шли по тропинке на задах писательского дачного городка, а навстречу им шел высокий человек. Солнечный свет бликовал на его голове, и сестры вяло спорили: седой он или лысый? Поравнявшись, замолчали.
– Седой! – заключила подружка. Сестры шли молча, не глядя друг на друга, как будто вовсе забыли о причине спора. Наконец, Маша, кривя рот не то в улыбке, не то в горестной гримасе, тихо сказала:
– По-моему, это был мой отец.
– Мне тоже показалось… – отозвалась сестра.
Неписательская девочка-подружка, из мира публики, Машина одноклассница Женя Воробьева, ужаснулась – как? Отец родной прошел мимо своей дочери, не узнав?
Девочки дружили с первого класса, и Воробьева всегда чувствовала, что Маша чем-то особенная, отличается от всех других, и особенность эта была возвышающая. Дело было отчасти в их особом доме, и в знаменитой маме, в шофере Николае Николаевиче, который возил семью на писательскую дачу. Но не только, далеко не только в этом. Было еще нечто неуловимое, склоняющее незамысловатую девочку к обожанию Маши. И оно оказалось вот чем – ужасным и таинственным, в голове не умещающимся обстоятельством: у нее была биография, в то время как у других никаких биографий не было. Мало ли у кого в классе не было отцов – но прочие отцы просто погибли на фронте или пропали без вести. Здесь – другой, особый случай… Машин. И семейная триада, основа мира – папа, мама и я – оказалась повержена этим особым случаем…
Но как захватывающе – страшно и прекрасно – иметь отцом таинственного незнакомца, тем не менее известного всей стране по портретам, с сияющей на солнце головой, высокого и острого, от ушей до коленей, а не полноватого, среднего с натяжкой роста папу, рассказывающего анекдоты про то, как приходит муж с работы, и дольше всех хохочущего над собственными рассказами…
В молчании вернулись на дачу. Расселись у стола на веранде. Играть ни во что не хотелось. Воробьева высыпала из мешочка пронумерованные бочонки лото и начала их перебирать.
– Положи на место, что ты все трогаешь, Воробей? – прошипела Маша.
Девочка замерла в удивлении, зажав в пальцах два бочонка с 11 и 37.
– Ты, Воробей, все лапаешь и лапаешь своими руками! Положи на место и ничего здесь не трогай! Зачем только тебя пригласили! – Маша покраснела, рот криво дернулся.
Бочонки выпали из рук подружки. Она сгорбилась, закрыла лицо руками.
– Ты что, Маш, взбесилась? Чего такое она лапает? – удивилась Саша. Девочка эта была ей совершенно неинтересна, и защищала она не чужую подружку, а справедливость.
Маша сжала кулачки и замахала яростно и беспорядочно.
– Пусть убирается! Пусть уходит, откуда пришла! Почему она все время за мной таскается! Всегда таскается!
Маша сбросила со стола лото, бочонки с веселым стуком раскатились по веранде, картонные карточки шлепнулись и распались красивым веером. Маша, визжа, вскочила и начала топтать ногами картонки. Воробьева смотрела на ее искаженную красоту, хотела уйти, но не могла встать – была как в обмороке.
Распахнулась дверь – в дверях стояла маленькая, заряженная огромным гневом Элеонора:
– Что здесь происходит? Что за вопли? Что вы кричите? Я прошу только одного! Тишины! Что вы здесь устраиваете! Я работаю! Неужели вы не можете понять? Я работаю! Сумасшедший дом!
Они стояли друг против друга, дочь и мать, и вопили, и махали кулачками, не слыша друг друга и меняясь в цвете: белокожая дочь наливалась клубничным, смуглая мать – вишневым…
Саша стояла между ними белая и неподвижная, как стена. Вопли довольно музыкально, в терцию, поднимались все выше и выше, и когда подниматься уж было некуда, Саша схватила большой белый кувшин с несвежим букетом полевых цветов и швырнула его между ними. Он глухо раскололся, запахло протухшей водой, и все замолчали.
Воробьева, пятясь, тихо ушла с веранды.
Потом девочки разъехались по лагерям. Первый раз в жизни. Маша и Саша в Артек, а Воробьева – в обыкновенный пионерский лагерь подмосковного завода, где простым инженером работал ее отец. Мама у Воробьевой тоже была простая: врач в поликлинике…
Все пионерские лагеря были на первый взгляд одинаковы: линейки, подъем и спуск флага, белый верх, черный низ, штапельный треугольник красного галстука, пионерские костры и бодрая песня «Взвейтесь кострами, синие ночи, мы пионеры – дети рабочих…»
Но дети рабочих и простых инженеров, в отличие от пионеров артековских, отборных и качественных, пользовались коммунистическими благами попроще и подешевле. Вместо моря им предлагалась маленькая речка Серебрянка, бывшая Поганка, хлеба по два куска к обеду и сахара – по два куска к завтраку, а не кто сколько захочет, как в Артеке. Спали поотрядно, по двадцать человек в палате. Зато погода в то лето в Подмосковье была прекрасная, свежие саморастущие сосны на территории заводского лагеря были ничуть не хуже бочковых пальм, понатыканных на аллеях Артека, и Женя Воробьева первые два дня лагерной жизни чувствовала себя отлично. Единственное, что омрачало ее девичью жизнь, была деревянная уборная, в которой на длинной доске было вырезано восемь круглых дыр, но никаких перегородок между ними не было. И она все никак не могла остаться одна, а ей для исполнения естественной нужды требовалось почему-то благородное одиночество. На третий день она даже сбежала во время мертвого часа с территории лагеря в близлежащий лесок, чтобы там, на природе, подчиниться неизбежному закону природы. Но ее побег был немедленно обнаружен, по лагерю подняли сигнал тревоги, и она была изъята из-под кустика с большим позором. Больше она таких попыток не делала, но и рассталась с мечтой освободить свой застенчивый кишечник, который все отказывался работать при стечении народа, хотя и женского.
Der kostenlose Auszug ist beendet.