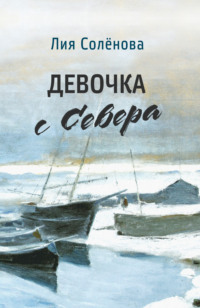Buch lesen: "Девочка с Севера"
© Солёнова Л.Г., 2025
© Оформление. Издательство «У Никитских ворот», 2025
* * *
Часть 1
Мои корни
Я вышла из метро в подземный переход. Из киоска, торгующего дисками и кассетами, громко неслась песня. Вдруг меня пригвоздили к месту слова: «Девочка с Севера, девочка Лия…». Да это же обо мне! Только девочкой я приехала в Москву очень-очень давно – в 1959 году. «Девочка ниоткуда…» – пел мужской ансамбль. Ну почему же ниоткуда? С Севера! В душе я всегда гордилась тем, что я – северянка, и никогда не жалела о том, что моё детство прошло на Севере, в городе Полярном, а не где-то в другом месте – скажем, в Москве. Мне кажется, оно было интереснее и богаче событиями, чем детство моих детей-москвичей. Может быть, моя жизнь – жизнь обыкновенной девчонки малоинтересна, но интересно время, на которое пришлось моё детство. Оно ушло и стало историей. Ушли и люди того времени: дедушки, бабушки, родители, соседи. Их, как и приметы того времени, ещё хранит моя память, и мне жаль, что они уйдут вместе со мной, а мои внуки и правнуки уже ничего не будут знать о них. Захотелось рассказать о городе моего детства, который с того времени сильно изменился, о людях, живших в нём. Они, так или иначе, прошли через мою жизнь, оставив в ней свой след.
Начну с родителей, с того, как они оказались на Севере, ведь их судьба определила и мою судьбу.
Мой дед со стороны матери, Калинин Михаил Аполлинарьевич, родился в 1887 году в Вологодской губернии, в деревне Боброво, которая стоит на берегу речки с громким названием Великая. Происходил из семьи середняков, был хорошим плотником и лихо играл на гармошке. Мог играть, стоя на плывущем по реке бревне. По-видимому, был неглупым человеком и достаточно образованным для деревни того времени. В советское время он окончил полугодичные курсы в сельскохозяйственной академии в Ленинграде и работал начальником лесосплава.
Его мать (мою прабабушку) звали Татьяной Петровной. По рассказам, была добрейшей души человеком. Хлопотливая, она всячески старалась помочь по хозяйству своим уже взрослым детям. Её муж, мой прадед Аполлинарий, после того как она завершала ежедневный утренний обход своих детей, чтобы узнать новости или помочь, вопрошал: «Ну что, мокрохвостая, всех оббежала?» А детей у неё было семь человек. Рассказывали, как она в праздник угощала местного священника пирогами. Разрезав пирог, она уговаривала священника брать куски из середины: «Кушай, батюшко, серёдки, на кончики-то насери!» Умерла она во время Великой Отечественной войны от старости, а скорее всего, от недоедания.
Моя бабушка со стороны матери, Надежда Игнатьевна, родилась в 1890 году в деревне Звягино, что в трёх километрах от Боброва. Происходила из достаточно зажиточной семьи. Детство было нелёгким: мать рано умерла, отец женился второй раз. Замуж её выдали рано. В отличие от деда, бабушка была неграмотной, в школу её не отпустили: надо было помогать дома по хозяйству. Вместо подписи ставила крест. Дочери рассказывали, что по церковным праздникам бабушка надевала длинное белое платье, отделанное кружевами, шляпу, белые перчатки, брала зонтик. В таком наряде шла в церковь. Я думала об этом как о невольном преувеличении дочерей, желании приукрасить быт того времени. Однако совсем недавно из телевизионной передачи от историка русского костюма узнала, что отголоски иностранной моды с некоторой адаптацией проникали в северные деревни. В их числе были кружева, нашитые на платье, кружевные зонтики.
Семья жила в Боброве в двухэтажном доме, построенном самим дедом. Дом этот сохранился до сегодняшнего дня, даже не покосился, только первый этаж, в котором давно заделали окна, наполовину ушёл в землю. Племянник деда, к которому впоследствии перешёл дом, сделал на половину меньше поветь – хозяйственный двор, на Севере пристраиваемый к дому, и убрал настил, по которому раньше на поветь въезжала лошадь с возом.
В северных деревнях в домах очень чисто. Полы моют во всём доме, включая крыльцо. Обувь у входа принято снимать. Раньше полы не красили, их мыли добела щёлоком, надев на ногу старую галошу и натирая веником из прутьев (голиком) с дресвой (крупным песком). Щёлок получали, размешивая древесную золу с водой. Такой щелочной водой стирали бельё, мыли полы. Вымытые добела полы застилали домоткаными половиками. Бабушка была чистюлей, в доме всегда был порядок. Сохранилась вышитая по краям белая скатерть, которой по праздникам покрывали обеденный стол.
В семье было пятеро детей: Николай, Полина, Леонид, Людмила, Антонина (моя мать) (1922 г.р.). Они с младенчества помогали по дому и хозяйству. Полина окончила всего один класс сельско-приходской школы. Родился Леонид, и она должна была нянчиться с ним, а потом пошли другие дети. Родителей уважали и побаивались. За столом отец за излишнюю прыть мог дать деревянной ложкой по лбу. Если после этого озорник плакал, получал ещё.
Старший сын Николай рос заводилой и забиякой. Полина была невысокой светлой шатенкой со слегка вьющимися волосами, симпатичной, доброй, работящей, расторопной, славной девушкой. Таких девушек в деревне звали славнухами. Поля была славнухой. Леонид был спокойным и незадиристым. Людмилу, высокую, худую, смуглую, с чёрными глазами и густыми тёмными волосами, дразнили цыганкой, которую будто бы нашли в лопухах. Она с детства была оторвой. Нередко мать гонялась за ней с ухватом, пытаясь после очередной проказы достать её из-под кровати или стрехи, куда та забиралась, спасаясь от наказания. Когда Леонид и Людмила ходили в техникум в другую деревню, то именно Люся отбивалась за них обоих при ссорах с ребятами из других деревень. Антонина – среднего роста, ладненькая, хорошенькая, с карими глазами и тёмными вьющимися волосами, работящая, но вспыльчивая и обидчивая. Певунья и плясунья.
До коллективизации в Боброве, где они жили, в среднем на каждый двор приходилось более трёх коров. Дворов было двадцать, а стадо коров насчитывало около ста голов. Лошади были почти в каждом дворе. Семья деда имела четыре коровы и лошадь и обеспечивала себя всем необходимым: молоком, зерном, мясом. Сами сбивали сливочное масло. На зиму бочками солили мясо, грибы, квасили капусту. Вокруг деревни в лесу, в так называемой поскотине (там выпасали скот), было много рыжиков. А за груздями ездили на телеге, которую, приехав в лес, доверху нагружали грибами. В тех местах растёт земляника, малина, черника, брусника, чёрная и красная смородина, чу́дная и редкая ягода полянка с тонким запахом, напоминающим запах ананаса. Её ещё называют княженикой, или поленикой. На болотах полно морошки и клюквы. Поэтому про ягоды и говорить нечего: чернику варили, сушили, бруснику мочили и парили, клюква прекрасно хранится на морозе. Сеяли лён. Пряжу пряли девушки на посиделках. Посиделки, на которые приходили ребята с гармошкой, устраивали по очереди в каждом доме. И пряли, и плясали, совмещая приятное с полезным. Зимой ткали холсты, в марте их расстилали на снегу, чтобы весеннее солнце отбелило. Весь берег реки Великой по весне устилали холстами. Потом из них шили бельё, одежду.
Скот во время коллективизации отвели, обливаясь слезами, в колхоз. Особенно много слёз пролили, прощаясь с любимой лошадью. Старший сын Николай, комсомолец, пригрозил: «Не отведёте скотину в колхоз – всю перережу!» После коллективизации обнищали все, в том числе и семья деда. В те времена пели частушку: «Кто за гриву, кто за хвост, растащили весь колхоз». Полина была девушкой на выданье, но так все обносились, что выдавать её замуж было просто не в чем. Бабушка отнесла в Торгсин единственную в доме золотую вещь – своё обручальное кольцо. На полученные деньги кое-как одели Полю в ситец. У Поли был жених, но его вместе с семьёй во время коллективизации сослали ещё дальше на север. Поля вышла замуж за парня из соседнего села Заречья – Виталия Смирнова. Бабушке он не нравился. Она его гнала, обнаружив поблизости от дома. Он был высокий, худой, слегка сутулый, темноволосый, с густыми чёрными бровями. Лицом он напоминал французского актёра Фернанделя. Такие же челюсти и крупные зубы. Очень добрый. Мать же его, Прасковья, славилась на всю округу своим неуживчивым и вздорным характером. Эти черты позднее проявились в некоторых её потомках.
В семье деда помимо собственных детей постоянно жил ещё чей-нибудь ребёнок. Сестру бабушки выдали замуж в соседнее село за урядника. С головой у него было не всё в порядке, нещадно бил жену, и та рано умерла. Осталось двое детей. Сын сестры жил в семье бабушки. Позднее, в коллективизацию, убили брата бабушки. Утром, когда вся семья сидела за столом, к нему пришёл односельчанин, которого накануне раскулачили. Брат бабушки принимал в этом участие. Пришедшего пригласили за стол, он подошёл и всадил хозяину нож в шею. Тот умер на месте. Убийцу осудили. Семья бабушки помогала осиротевшим детям.
Дед с бабушкой и Антониной переехали на жительство в Полярный в 1934 году. К этому времени сын Николай был в бегах – убежал из дома после драки с поножовщиной. Тогда без неё не обходился ни один деревенский праздник. В той драке кого-то серьёзно ранили или убили. Спасаясь от наказания, Николай сбежал. Отец сына больше не увидел, а мать увидела его спустя 25 лет, большую часть которых этот бедоносец провёл в тюрьмах и лагерях. И сидеть бы ему ещё и сидеть, если бы не всеобщая амнистия в 1953 году.
Полина с семьёй жила отдельно. Леонид и Людмила остались в деревне – доучиваться в техникуме. В Полярный они приехали в 1937 году, а Полина с семьёй – после войны.
Город Полярный
Историческая справка о городе Полярном, расположенном на берегу Екатерининской гавани
Освоение Екатерининской гавани началось в 1723 году, когда Пётр I подписал указ об организации Кольского китоловного промысла. С 1803 года была основной базой Беломорской китобойной компании. В 1896 году началось осушение местности, и в 1899-м был официально открыт новый административный центр края – город Александровск-на-Мурмане и порт. Назван в честь жены Николая II, императрицы Александры Фёдоровны (1872–1918). Позже стал называться Александровском. В 1898–1929 годах здесь базировалась биологическая станция, переведённая с Соловецких островов.
В 1900 году из Александровска на поиски так называемой Земли Санникова отправилась экспедиция Э.В. Толля на судне «Заря», в 1912-м отсюда уходили полярные экспедиции Г.Л. Брусилова на шхуне «Св. Анна» и В.А. Русанова на судне «Геркулес». С 1935 года главная база Северного флота. В 1930-м переименован в Полярный. Город Полярный – с 1939 года.
В годы Великой Отечественной войны через Полярный осуществлялось движение союзных конвоев (всего их проведено 1548).
Екатерининскую гавань, на берегу которой стоит город Полярный, закрывает от открытого Баренцева моря большой Александровский остров. Неслучайно Сталин и Киров выбрали это место для главной базы будущего Северного флота, когда в 1933 году объезжали побережье. На вершине сопки, возвышающейся у северного входа в гавань, раньше стояла большая памятная доска в честь этого события. Этот год и считается датой основания Северного флота.
Город Полярный (первоначально – Полярное) главной базой Северного флота стал в 1935 году. Строили его приехавшие по вербовке из разных областей, в основном бывшие крестьяне из Архангельской и Вологодской областей. Кроме того, в городе были и ссыльные из числа раскулаченных крестьян. Только нечеловеческими усилиями можно было создать за несколько лет то, что было построено на месте фактически небольшого рыбачьего посёлка. Построили город, причалы, судоремонтный завод «Красный горн», после чего, со слов мамы и её сестры, начальника строительства и главного инженера расстреляли как иностранных шпионов. Арестовали и первого командующего Северным флотом – Душенова. Моя мама училась с его сыном в школе. По её словам, когда Душенова арестовали, его сын при всех заявил, что не верит в то, что отец – враг народа. Константин Иванович Душенов расстрелян в 1940 году. Жена и сын были отправлены в ссылку в Казахстан.
В числе завербовавшихся на строительство Полярного была и семья моего деда. Почему он сорвался из вологодской деревни, где у него был хороший дом и хозяйство, история умалчивает. Может быть, бегство на Север спасло его от более тяжёлого исхода. Брат деда, Василий Аполлинарьевич Калинин, коммунист, был директором сельской школы в соседнем селе Воскресенском. В 1937 году его арестовали, по свидетельству ученика, прямо во время урока. Расстреляли как врага народа якобы за то, что в годы Гражданской войны и оккупации Архангельской губернии белыми и англичанами он, находясь в то время там, продолжал учительствовать в сельской школе, т. е. по разумению следователей НКВД, тем самым помогал врагам советской власти. По воспоминаниям односельчанки, Александры Степановны Красновой, один из бывших раскулаченных им, который к тому времени работал в НКВД в городе Грязовце, будучи пьяным, похвалялся: «Ваську Калинина самолично расстрелял!» Спустя 50 лет Василий был реабилитирован. Его фамилия была в длинном списке реабилитированных, расстрелянных в 1937 году, опубликованном в районной газете.
Когда в 1934 году семья выгрузилась в Полярном, в Кислой губе, на голую скалу, бабушка, сев на сундук со скарбом, в ужасе от представшего взору пейзажа взвыла в голос: «Куда ты нас привё-ё-з!..» Тогда там и причала, к которому мог пристать буксир, не было. Багаж и людей перегружали в шлюпки, чтобы отвезти на берег. Дед, будучи отличным плотником, стал бригадиром, строил причалы в Екатерининской бухте и Кислой губе.
В городе, стоящем на сопках, для того чтобы поставить фундамент дома и проложить коммуникации, в скале сверлят отбойными молотками шурфы, закладывают туда взрывчатку, взрывают, потом эти скальные глыбы выковыривают. Телеграфные столбы не вкапывали, а вставляли в деревянные срубы, брёвна в которых скреплялись металлическими скобами, сруб со столбом в его центре заваливали гранитными глыбами. Но это, как говорится, цветочки. В самих скалах, внутри, были мастерские, где собирали торпеды, бомбоубежища, склады, штабные помещения и пр. Туда, конечно, доступ был закрыт для всяких мелких штатских вроде нас, детей, да и не только для нас. Однажды, только что окончив 9-й класс, мы пошли с мальчишками расстреливать из самодельного деревянного пугача гвоздями свои школьные дневники. Расстреливали мы их в заброшенном тоннеле, который мальчишки открыли в сопке, можно сказать, в центре города между Старым и Новым Полярным. Вход в него был совершенно незаметен. Извилистый тоннель был вырублен внутри сопки, высотой метра два и шириной метра три, тянулся через всю сопку на сотню или более метров. Подозреваю, что его не успели до войны закончить, а потом забросили.
Как-то мы с мальчишками лазили по окрестным прибрежным сопкам, хотели добыть яйца чаек. Занятие рискованное и оказавшееся безуспешным. На макушке одной из сопок мы случайно наткнулись на ДОТ. Буквально наткнулись. Он был совершенно незаметен – невысокий надолб из бетона с амбразурой. Внутри – каменный мешок, в который попасть можно было через люк наверху, закрытый тяжёлой металлической крышкой. Открыть мы её не смогли. Видно, база флота строилась очень основательно и её защита была продумана.
Я ещё застала крохотные избушки рыбаков, жавшиеся к скалам. Деревянную церковь, существовавшую ранее, переделали в учреждение. Оказывается, это была церковь Святителя Николая. О её размерах можно судить по тому, что на первом этаже здания размещалась казарма с солдатами, кухней и столовой, где вечерами для солдат показывали фильмы, которые крутили по частям. На втором этаже находилось управление тыла флота, где работала мама. Со второго этажа винтовая лестница вела в красный уголок управления, в котором иногда тоже показывали кино. По-видимому, это был купол церкви. В этом зальчике я посмотрела много фильмов, но запомнилось, как, обливаясь слезами, я впервые смотрела фильм «Молодая гвардия».
У здания была два входа, к обоим вели широкие и высокие деревянные лестницы. Наша семья несколько лет жила рядом, но я даже не слышала упоминания о том, что это бывшая церковь, и не подозревала об этом. Позже подобные огромные деревянные церкви я видела в Кеми, в Карелии, и в деревне Лядины, что под городом Каргополем в Архангельской области. Сейчас церковь восстановлена.
Город Полярный делился и сейчас делится на Старый и Новый Полярный, Палую губу, или Красный Горн, где стоит судоремонтный завод с этим же названием. Строгих границ между ними нет. Правда, Старый и Новый Полярный разделяет болотистый овраг между сопками, по которому протекает ручей с названием Чайковский, на берегах которого летом цвели яркие жёлтые цветы. Летом овраг сплошь покрывался белой пушицей, а зимой здесь было полно лыжников. Отсюда начиналась лыжня, уходившая далеко в сопки и петляющая вокруг них. Через овраг был перекинут деревянный пешеходный мост. Сейчас сохранились только его остатки. Сначала маршей десять вниз, потом примерно 80 метров пролёт через болото, и опять маршей десять вверх. Последующие поколения назвали его «Чёртовым мостом», у нас же он никаких мрачных ассоциаций не вызывал. Когда говорили «Мост», все понимали, о каком мосте идёт речь. Я по нему летала как минимум раза два в день – в школу и обратно – и знала каждую ступеньку «в лицо». Общественного транспорта в городе не было. Все ходили пешком. Военное начальство разъезжало на газиках, или «козлах», как их тогда попросту называли. Зимой армейское (не флотское) начальство разъезжало в расписных саночках. Под дугой лошади, везущей их, звенел колокольчик. Мальчишки норовили пристроиться сзади на полозья, тучные полковники в высоких бараньих шапках их отгоняли.
В Старом Полярном жило в основном штатское население, а в Новом Полярном – морские офицеры и их семьи. Новый Полярный поднимался по сопкам вверх от Екатерининской бухты. На Красном Горне жили те, кто работал на заводе. В Старом Полярном находились горком партии, городская и районная администрация, решавшая вопросы гражданского населения. Новый Полярный был епархией морского начальства, а Красный Горн – заводского. Ясно, что какие-то вопросы города они решали вместе.
До середины пятидесятых годов город преимущественно был деревянным. Его строили умелые плотники, приехавшие из вологодских, архангельских и прочих деревень, виртуозно владеющие топором. Строили причалы, мосты, многоквартирные дома, бараки. Несколько кирпичных домов стояло в Новом Полярном: госпиталь, штаб флота, школа, ряд зданий на берегу гавани в так называемом Подплаве. Там жили после возвращения из похода экипажи подводных лодок. Самым большим кирпичным зданием, возвышавшимся над гаванью, был Циркульный дом, названный так потому, что он выстроен по дуге. В нём в те годы проживало всё флотское командование. По дуге выстроен и госпиталь на противоположной сопке. Сопки соединяет широкий деревянный мост, по которому раньше ходили машины, с тротуарами для пешеходов по обеим сторонам. Сейчас, говорят, мост обветшал, машины по нему не ездят, для людей он тоже закрыт. Между этими сопками в пору моего детства был стадион, на котором проходили школьные уроки физкультуры и соревнования по лёгкой атлетике. На стадионе встречались местные футбольные военные команды. На особо значимые матчи, например между командами ОВР (Охрана водных рубежей, т. е. морская пехота) и Подплава (Подводники), поболеть собирался весь город: гражданское население, солдаты, матросы. Болельщиками были облеплены сопки, мост, из открытых окон госпиталя за матчем следили выздоравливающие больные, в основном это были матросы. На пришвартованных рядом военных кораблях – тральщиках (стадион примыкал к заливу) болели за своих те, кому не посчастливилось попасть в этот день в увольнение. Вся эта масса болельщиков, как единый организм, замирала в напряжённые моменты и взрывалась мощным криком при пропущенном или забитом голе. Даже не видя стадиона, по этим звукам издалека можно было определить, что там сейчас происходит. Для всех эти матчи были важнее, чем чемпионаты мира.
Приехав в Полярный в 1987 году, я увидела, что многое в городе изменилось. К сожалению, не в лучшую сторону. Овраг между сопками вместе со стадионом был превращён в отрытый канализационный коллектор, по которому в залив текли сточные воды.
Тот, прежний Новый Полярный, имел свой архитектурный облик, был вписан в ландшафт местности. На вершине сопки стояла школа, от неё вниз линиями спускались двухэтажные и двухподъездные деревянные оштукатуренные дома. Они были выкрашены в белый цвет, а выступающие вертикальные балки – в синий. Подъезды у домов имели крышу, поддерживаемую двумя балками, и широкие перила с балясинами. Говорили, что первый командующий Северным флотом, Душенов, лично вручал ключи от комнат молодым офицерам, прибывавшим служить на флот.
Улица от школы спускалась вниз, переходила в широкий деревянный мост. В конце неё стоял Дом офицеров, или, как он первоначально назывался, Дом Красной Армии и Флота (ДКАФ). В городе было два очага культуры: районный Дом культуры и ДКАФ. Первый находился в Старом Полярном и представлял собой одноэтажное деревянное здание с небольшим зрительным залом и фойе. Его в народе иначе как «Райсарай» не называли. Рядом с ним стояла небольшая кузница, дверь в которую всегда была открыта. Там работало два кузнеца. Коротая время до начала сеанса, ребятня толпилась в дверях кузницы, заворожённо наблюдая за работой кузнецов. В «Райсарае» обычно вечером было два сеанса кино, в выходные и праздничные дни сеансов было много. Иногда бывали концерты флотской художественной самодеятельности с неизменным танцем «Яблочко». Самые бурные свои времена «Райсарай» переживал, когда крутили «Бродягу» и «Тарзана». В те дни его кассы брали штурмом.
Настоящим очагом культуры был Дом офицеров (ДКАФ), большой, в три этажа, с летней открытой танцплощадкой. Уникальное в архитектурном отношении и многофункциональное здание. На его первом этаже был бассейн с отдельным входом (25 метров и две дорожки), на этом же этаже была раздевалка, библиотека, на втором – концертный зал и большое фойе для танцев. На третьем этаже располагался биллиардный зал. Здесь же работали всякие кружки: кройки и шитья, танцев, драматический. К фасаду здания была пристроена открытая танцевальная площадка с эстрадой, на которой восседал духовой оркестр. Оркестранты – матросы. Летом в выходные дни там были танцы, на которые приходили в основном матросы и редко – солдаты. Издалека видны были только колышущиеся белые бескозырки матросов, которым часто приходилось танцевать друг с другом. Девушек на всех не хватало.
На втором этаже в фойе зрительного зала была небольшая эстрада для оркестра. Его называли «похоронной командой» – он играл траурный марш Шопена на всех похоронах, вынимая души из провожающих громом медных тарелок. В фойе первого этажа до 1954 года стояла бронзовая скульптура Сталина, на небольшом постаменте, почти на полу, и до потолка. Сталин стоял во весь рост, заложив руку за борт френча, брюки заправлены в сапоги. По воскресеньям утром для детей был сеанс детского кино. На огромных сапогах Сталина мы сидели, полируя их своими задами, пока дожидались, когда нас пустят в зал. Вообще-то, сидение на сапогах не приветствовалось, а если ещё и шалили, особенно мальчишки, то тут порядок быстро наводила уборщица. У неё всегда было злое лицо, на нём прямо-таки читалась жажда нашей крови, а наводить порядок было её призванием. Она коршуном набрасывалась на нарушителя и тут же вышвыривала его за дверь. Спорить с ней и сопротивляться было бесполезно. Так же сурово она одна воспитывала и своих двух детей. Основным средством воспитания был ремень. Надо признать, оно себя оправдало. Дочь её – доцент в университете в Санкт-Петербурге, а сын возглавляет крупное производственное объединение в Эстонии.
В ДОФе выступали заезжие артисты, бывали и столичные, даже из МХАТа. Однажды приехал певец Иван Шмелёв. Мы с девчонками слушали его записи на пластинках и были влюблены в мягкий баритон, которым он исполнял «За фабричной заставой…» и другие песни. Телевидения тогда не было, и с таким голосом наше воображение рисовало высокого молодого и стройного красавца. Почему-то блондина. Каким горьким было разочарование: он оказался старым толстым мужчиной с одышкой! Мы после этого даже его пластинки перестали слушать!
Приезд артистов случался нечасто, а в основном по субботам и воскресеньям там проходили вечера отдыха. Днём – для матросов и старшин, вечером – для офицеров и их семей. Школьницам было запрещено посещать вечера офицеров. Окончила школу – тогда пожалуйста. Школа уже за тебя ответственности не несёт. Нарушать запрет отваживались самые оторвы, жаждущие поскорее выскочить замуж за офицеров. На страже морали и порядка стоял сам начальник ДОФа – капитан второго ранга Зинченко. Он прихрамывал – след военного ранения. Высокий, прямой, в военно-морской форме, а в торжественные дни при орденах и медалях, он ходил по фойе и наблюдал, кто что и как танцует. Танцевали вальс, танго, фокстрот, разные бальные танцы. Особо продвинутые в конце 50-х годов танцевали буги-вуги, вернее, пытались танцевать. Если видел Зинченко, он это безобразие тут же пресекал, а на неисправимых стиляг накладывал запрет на посещение ДОФ. Их отсекали на входе до тех пор, пока не смилостивится Зинченко.
Вверх от стадиона по оврагу стояла городская баня. Тоже деревянная и оштукатуренная. Она была маленькой для такого города, как Полярный, поэтому были помывочные дни для военных и гражданских. Для гражданских были женские и мужские банные дни. Поход в баню превращался в событие. На это мероприятие уходил целый день. Захватив сумки с бельём, банными принадлежностями и свои тазики, спешили занять очередь, в которой порой приходилось томиться несколько часов. Чаще в баню нас, детей, водила бабушка. Она от души тёрла жёсткой мочалкой, чуть ли не спуская с нас кожу. Себя она так же драила, начиная с лица. Позднее между Старым и Новым Полярным построили новую двухэтажную кирпичную баню. И в отношении помывки «жить стало лучше, жить стало веселее».
Главная улица Старого Полярного – Советская, длиной с километр. Параллельно ей, прижимаясь к сопке, идёт Строительная улица, выше на сопке – ул. Ивана Сивко. Она названа в честь Героя Советского Союза, воевавшего на Севере и подорвавшего себя вместе с врагами гранатой. Один конец Советской упирается в невысокую сопку, а другой – в большое озеро. С него начиналась цепь озер, которые были дальше в сопках. У них были не названия, а номера. Это было первое озеро. Оно было с чистой, прозрачной холодной водой. В нём водилась только одна порода рыб, которых мы называли колючками. У рыбок, не более десяти сантиметров в длину, на животе торчали две колючки. Этих рыбок даже кошки не ели. Мы, сидя на камне, ловили их очень просто: привязывали на нитку червяка и спускали его в прозрачную воду озера. Рыбка подплывала, заглатывала червяка, и мы её вытаскивали. Рыбку отправляли в трёхлитровую банку с водой с благой целью – создать аквариум, но наутро все рыбки плавали кверху брюхом.
Во времена моего детства вдоль Советской улицы с одной стороны была, как мы её называли, пожарка, где стояли пожарные машины, жила пожарная команда, дальше какое-то армейское учреждение, куда часто въезжало армейское начальство в бараньих папахах, а дальше стояло четыре длинных двухэтажных барака с двумя подъездами. У одного барака была только половина, другую отрезало в войну во время бомбёжки. На противоположной стороне улицы стояли небольшие деревянные одноэтажные и одноподъездные дома, в которых размещались почта, горком, исполком, милиция и коммунальные квартиры. Улица была вымощена булыжником. По её обеим сторонам были проложены деревянные тротуары. С одной стороны между тротуаром и дорогой были разбиты газоны с клумбой в центре, обнесённые низкими чугунными решётками. По тротуару фланировали, особенно в светлые, как ясный день, летние вечера, парочки. Бабки, располагавшиеся на противоположной стороне на длинных скамейках вдоль бараков, внимательно их отслеживали. Особенно доставалось девчонкам, которые прогуливались с солдатами: «Таковская, с солдатом гуляет!» Гуляние с матросом прощалось, а с солдатом порицалось. Матросы числились у населения рангом выше, чем солдаты. Одна форма чего стоит, да к тому же в матросы набирали более образованных ребят. Они и вели себя по-другому – можно сказать, более интеллигентно. Девушки, которых в городе было по сравнению с мужским населением не так уж и много, как правило, предпочитали матросов. Особенно это было заметно на танцах – солдатам часто отказывали. Поэтому солдаты с матросами постоянно враждовали, нередко с мордобитием и погонями по длинным коридорам из одного барака в другой. Бились, намотав широкие ремни на руку, до тех пор, пока драчунов не забирал морской или армейский патруль. Всех грузили в открытую грузовую машину и везли в комендатуру, где их ждала гауптвахта, проще говоря – губа.
Советская улица выстроена на болоте, поэтому вдоль и поперёк улицы были вырыты дренажные канавы, в которых летом скапливалась вода и болотная жижа. Однажды летом (мне было года четыре) после помывки, вся чистенькая пошла гулять. Там заспорила с подружками. Те столкнули меня в канаву. Когда я предстала перед мамой по шею вымазанная стекающей чёрной жижей, она не раздумывая отшлёпала меня.
Зимой канавы замерзали, и по дну главной канавы вдоль улицы была проложена лыжня. За бараками и домами были кладовки, в которых хранили дрова, держали свиней. Осенью, когда свиней забивали, по Советской распространялся запах палёной шерсти – паяльными лампами опаливали шкуру забитой свиньи.
За бараками стояла казарма, в которой жили солдаты. По утрам и вечерам они умывались из длинных металлических умывальников, стоящих во дворе, а на небольшом плацу упражнялись на спортивных снарядах. В девять часов вечера, летом и зимой солдаты маршировали с песнями по Советской улице взад-вперёд. Слышалась команда: «Запевай!» Каждая рота орала свою песню, стараясь перекричать других. Когда солдаты пели «Катюшу», мне слышалось «Расцветали яблонями груши», и я долго недоумевала, почему груши яблонями расцветают. Ближе к ночи по улице шли солдаты с автоматами на охрану военных объектов в сопках. К их ремням на длинных поводках были привязаны по две овчарки. Овчарки лаяли и рвались вперёд и в стороны, солдаты с трудом их сдерживали, упираясь всем телом.