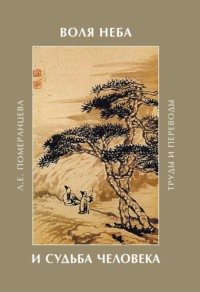Buch lesen: "Воля Неба и судьба человека. Труды и переводы"
© Померанцева Л.Е. (наследники), 2025
© Хуземи Д.В., составление, вступ. статья, 2025
© Ульянов М.Ю., послесловие, 2025
© ФГБУ «Издательство „Наука“», редакционно-издательское оформление, 2025
* * *

Рекомендовано к публикации Ученым советом ИСАА МГУ имени М.В. Ломоносова
Редакционная коллегия серии «Российское китаеведение: избранное» С.М. Аникеева, И.Ф. Попова, М.Ю. Ульянов
Составитель Д.В. Хуземи
Научный редактор М.Ю. Ульянов
Рецензенты: д.ф.н. Н.В. Захарова, к.ф.н. С.В. Никольская, к.ф.н. И.И. Семененоко, к.ф.н. Т.Г. Семенова

Об Учителе
Лариса Евгеньевна Померанцева (1938–2018) – замечательный российский (и советский) китаевед, переводчик, историк литературы, талантливый педагог. С ее именем связан первый в отечественной науке полный перевод на русский язык крупнейшего философского памятника эпохи Хань (II в. до н. э. – II в. н. э.) «Хуайнаньцзы» или «Философы из Хуайнани». Она является автором двух десятков научных публикаций, а также монографии, посвященной данному памятнику. За авторством Л.Е. Померанцевой были опубликованы переводы фрагментов других важнейших памятников древнекитайской литературы, таких как «Изречения» Конфуция, «Мэнцзы», «Книга песен» («Шицзин»), «Исторические записки» Сыма Цяня. Ею также было переведено на русский язык «Письмо Бо Цзюйи к Юань Чжэню», широко известное в Китае как манифест большой группы литераторов эпохи Тан (VII–X вв.).
Цель настоящего издания – собрать воедино все научные публикации Л.Е. Померанцевой, совместив их с ее переводами, с тем чтобы воссоздать таким образом наиболее полную картину творческого наследия ученого. В сборник вошли 15 научных статей; монография «Поздние даосы о природе, обществе и искусстве („Хуайнаньцзы“ – IIв. до н.э.)»; вступительная статья к изданию полного перевода «Хуайнаньцзы» (2016г.); все опубликованные ранее переводы памятников, упомянутые выше, за исключением полного текста «Хуайнаньцзы», который представлен в настоящем издании первой главой «Об изначальном дао». В сборник также вошли переводы шести «жизнеописаний» (лечжуань) из состава «Исторических записок» Сыма Цяня, пять из которых никогда ранее не публиковались и дошли до нас в составе личного архива ученого1. Они были в свое время оформлены в качестве машинописного текста, пронумерованы в авторской последовательности и подготовлены Л.Е. Померанцевой к изданию, которое, однако, не состоялось по независящим от нее причинам.
И все же трактат «Хуайнаньцзы» и связанные с ним научные проблемы стали для Л.Е. Померанцевой главным делом всей ее жизни. Она начала работу над памятником еще в 60-е годы прошлого века в процессе написания кандидатской диссертации и завершила полное издание перевода лишь в 2016г. Отчасти это объясняется сложностью самого трактата, грандиозностью его объема, но также в значительной степени – тщательностью работы ученого. «Хуайнаньцзы» стоит особняком в истории китайской литературы. Трактат принято относить к «школе эклектиков» (цзацзя), поскольку идейную основу этого памятника невозможно однозначно идентифицировать ни с даосской, ни с конфуцианской, ни с какой-либо другой философской школой. «В онтологии и теории познания [авторы „Хуайнаньцзы“] явно исповедуют даосизм, в теории управления государством – легизм, а в этике – конфуцианство»2. Таким образом, идейно-философская основа «Хуайнаньцзы» является синтетической, объединяющей, по замыслу авторов, лучшие из возможных идей для конкретных целей, и этот синтез осуществляется ими намеренно.
Примечательно и время создания памятника. Оно приходится на годы правления знаменитого У-ди (140–86гг. до н.э.), когда ханьская империя находилась на вершине своего величия. Хуайнаньский князь Лю Ань (179–122гг. до н.э.), чьим именем впоследствии стали называть трактат, являлся двоюродным братом самого У-ди, а оба они – родными внуками основателя династии Лю Бана. По свидетельству историка Бань Гу (Iв.), вокруг Лю Аня при дворе его удельного княжества собиралось большое число так называемых «гостей» (кэ), что «в древнем сообществе означало знатоков философии, истории, военного дела, географии, астрономии, политиков, поэтов, музыкантов, астрологов, врачей и знахарей, и людей всех возможных профессий»3. В этой среде при участии самого Лю Аня велись дискуссии по различным отраслям знания. Их результатом стало создание нескольких крупных философских и художественных произведений. До нашего времени дошло полностью только одно из них, а именно так называемая «Внутренняя книга», которая впоследствии получила название «Хуайнаньцзы» или «Философы из Хуайнани». Памятник представляет собой трактат, состоящий из 21 главы, каждая из которых, в свою очередь, является трактатом на определенную тему. В силу принадлежности разным авторам (или группам авторов) главы памятника довольно сильно отличаются между собой как по стилю, так и по содержанию. «Космогония, теория познания, теория государственного управления, история, военное искусство, физика (в древнем своем значении), календарь – все это темы, входящие так или иначе в круг рассматриваемых в „Хуайнаньцзы“»4.
По свидетельству Гао Ю (II–IIIвв.), комментатора «Хуайнаньцзы», при жизни авторов памятник назывался «Хунле», или «Великая мудрость». Этим сказано, что с самого начала авторы ставили перед собой задачу максимального охвата материала по многим отраслям знания. То была попытка создания своего рода «Книги Книг о Мудрости Дао», вмещавшей все лучшее и ценное, что было на тот момент известно. «Огромное количество фактического материала, разнообразных сведений, относящихся к быту, составляющих последнее слово науки (как, например, глава об астрономии) или удовлетворяющих интерес современников к чужеземным странам (как глава о географии)– все это говорит о стремлении к исчерпывающей полноте»5. Поэтому неудивительно, что когда «Хуайнаньцзы» в силу исторической инерции пытаются сравнивать с произведениями «всех учителей [и] ста школ»6 (чжузы байцзя), то обнаруживают массу отличий. Ведь здесь мы имеем дело не с работой одного Мастера и круга его учеников, как то бывало ранее, а с творчеством целой «Академии», объединенной вокруг члена императорского дома. Это обстоятельство должно было накладывать заметный отпечаток на характер памятника. «В отличие от раннеклассических произведений V–IIIвв. до н.э., „Хуайнаньцзы“ уже не ищет специально ответов на глобальные вопросы бытия – они как будто уже даны. Весь пафос трактатов состоит в том, чтобы найти способы применения высокой теории к практическим делам сегодняшнего дня: либо найти с ее помощью объяснение современным общественно-политическим явлениям, либо обосновать свои проекты общественного устройства»7.
Размышляя о времени создания «Хуайнаньцзы», Л.Е. Померанцева дает ему определение «поздняя древность». Она ссылается на работы Н.И. Конрада, который «не однажды высказывал мысль о существующей параллели между ханьской культурной эпохой и явлениями, происходившими в типологически схожих обстоятельствах, почти в то же время, на другом конце света – в эллинистической Греции. Одним из оснований для этого ему послужило имевшее место – тут и там – подведение итогов, которым как бы завершался древний период в развитии этих культур»8. Л.Е. Померанцева также утверждает, что «ханьская империя по многим аспектам – культурным и историческим – сопоставима с Римской»9. Она указывает, что еще до установления первой империи Цинь, «начиная с IIIв. до н.э., в Китае наблюдаются признаки наступления принципиально нового культурного периода»10. В литературе его предвестником стало творчество поэта из южного царства Чу по имени Цюй Юань (340–278гг. до н.э.), который считается патриархом авторской поэзии в Китае. Его творчество принадлежит к южной песенно-поэтической традиции, в основе которой лежали гимновые циклы, имевшие в древности культовое применение. Л.Е. Померанцева указывает, что в творчестве Цюй Юаня гимновая традиция переживает трансформацию – она секуляризируется и переводится в лирический план. «В поэме [„Лисао“ („Скорбь отлученного“)] культовая реальность превращена в художественное полотно, развернута в ярко окрашенное религиозной символикой лирическое переживание»11. Герой поэмы представлен в образе жреца, который «ищет спасения для людей на путях жреческого магического воздействия на общину своим собственным примером, т.е. в приобщении, в „возвращении“ людей к небесной природе – совершенной и неизменной, не подверженной ничему временному»12. Но, несмотря на все свои усилия, он терпит на этом пути неудачу, встречая непонимание «паствы» и отчуждение со стороны Государя. В отчаянии он отправляется на небо, но даже там «небесный страж не открывает ему ворот в сокровенные высоты верхнего мира»13. Переживание героем утраты связи с сакральным началом – в китайской традиции с Небом – занимает здесь центральное место. «Герой, будучи неспособным отказаться от привычных и святых для него идеалов, остается в полном одиночестве: не только люди против него, но и боги не с ним. Вопрос о том, что делать, когда и люди и боги против тебя, станет основным вопросом многих трагедийных произведений не только китайской, но и мировой литературы,– важно, что он ставится в китайской литературе здесь впервые. Все значительные произведения такого плана в Китае всегда будут помнить этот образец, а зачастую и прямо к нему апеллировать»14.
Стоит ли сомневаться, что герой Цюй Юаня является героем своего времени? «Под одеждами жреца проступает не богоподобное существо, безупречный образец, а человек, наделенный „внутренним чувством“ – душой, современный автору поэмы»15. Его трагическое одиночество свидетельствует о том, что «выработанные веками универсалии в их прежнем наполнении не годились для нового времени, и между старыми представлениями о вещах и новыми реалиями разверзлась пропасть»16. Выход видится герою лишь «за чертой» – предположительно, в конце поэмы он совершает самоубийство, снимая таким образом неразрешимые противоречия. Иными словами, с точки зрения Цюй Юаня, реализация Идеала оказывается возможна лишь за пределами человеческого мира. В «Лисао» отражается специфика сознания эпохи, отмеченной распадом патриархальных устоев. Мир кануна империи все больше начинает напоминать мир атомарных сущностей, пытающихся заново обрести смысл своего существования. Л.Е. Померанцева обращает внимание, что именно в это время приобретает популярность «Ицзин»17, в частности, благодаря акценту на диалектику большого и малого. «Включение малого и низкого в сферу Целого вызвало желание описать это Целое во всем объеме и как можно подробнее, что в древнем понимании означает исчислить по частям»18. В литературе появляется так называемый «каталожный стиль»: «Тексты философские, исторические, географические, астрономические, по истории музыки и др., не считая обрядовых, включают в себя длинные перечневые записи, преследующие главную цель – исчерпание множества и разнообразия форм жизни. Не случайно именно в этот период появляются знаменитые древние словари („Эръя“, „Шимин“, „Шовэнь цзецзы“, „Фаньянь“), заложившие основы позднейших классификационных принципов китайских энциклопедий (лэйшу)»19.
Примерно в это же время появляется «Книга гор и морей». В ней также в перечневом стиле описывается земное, обжитое пространство. «Оно описывается в формах мифа с добавлением реальных и фантастических сведений о землях, населяющих их народах, травах и деревьях, птицах и зверях, о чудесных свойствах вещей. Его пространственная модель иная, чем представлена была в Предании – не царства, а стороны света „внутри морей“ и „за морями“, „внутри пустынь“ и „за пустынями“. Если мир Предания замкнут, то этот мир простерт за границы суши и моря. Это было принципиально – пространство разомкнулось»20. Мир, став открытым, приобретает единство на новых, универсальных принципах. Его объединяют пространство и время, которые, в свою очередь, оказываются опосредованы рациональным восприятием людей. Так на примере главы «Небесный узор» трактата «Хуайнаньцзы» Л.Е. Померанцева обнаруживает, что «в отличие от таких текстов, как, например, „Чжуанцзы“ (IVв. до н.э.), где царствуют определения „неизмеримое“, „беспредельное“, где ценность признается только за тем, что „нельзя взять и подержать в руке“, тем, что не поддается „угломеру и отвесу“, здесь утверждается, что даже самые большие вещи, каковыми являются „небо и земля“ (тянь ди), можно измерить: надо только поставить шесты утром и вечером, и определить расстояние между ними в полдень и на закате, что-то сложить и разделить, и получишь точное расстояние от земли до неба»21. Она отмечает, как авторы трактата «одержимы идеей всеобщей измеримости не только отдельных вещей, но и самой вселенной – в градусах, сантиметрах, метрах, шагах, т.е. человеческой мерой, той, которую сам человек создает как инструмент исчисления»22.
Трудно не согласиться с выводом Л.Е. Померанцевой о том, что к концу древности «человек становится мерой вещей»23. Его «представление о том, что мера распространяется одинаково на небо и землю, на царство богов и людей, становится самым главным открытием и ведет к очень важным следствиям. Как пространство, так и время оказываются ограниченными исчислимыми рамками»24. В результате таким же рационально исчерпаемым оказывается и человеческий субъект. «В отличие от Чжуанцзы авторов „Хуайнаньцзы“ не спасает от печали сознание великой творческой силы природы, проявляющей свое могущество в постоянной и непрекращающейся смене форм. Для них более существенно то, что всякая отдельная личность со всем богатством заложенных в ней возможностей („природных свойств“) гибнет неминуемо, притом, если не встретит своего времени, и бесполезно»25. Неизбежное при этом «сознание кратковременности жизни обостряет чувство времени, оно теряет свой объективный характер, и в центре внимания все более оказывается время человеческой жизни, а в ней, если человек хочет реализовать свое предназначение, особую ценность приобретает „кусочек тени от солнечных часов“ – мгновенье, которое трудно схватить, но легко упустить»26. Естественный в данном случае «поиск своего особого места в организме вселенной сопровождается попытками определить свое назначение и в социуме, чего не было в прежнем даосизме. Одной из первых сдается позиция недеяния. Частично оно остается актуальным в старом значении, но все более речь идет о нем в новом, „уточненном“ смысле – недеяние теперь не означает бездействия, не надо только „опережать ход вещей“, идти против „божественного разума (шэнь мин)“, благодаря которому все в Природе совершается разумно, целесообразно и ко всеобщему Благу. Такое уточнение чревато дальнейшими изменениями позиций даосов»27.
Эпоху «подведения итогов» характеризует то, что ни одно из направлений мысли не занимает в ней еще доминирующего положения. «Философы пользуются всем доставшимся им наследием, свободно черпая из него „формы и смыслы“ и, может быть незаметно для себя, его ревизуя. Человек империи не чувствует себя связанным родством с какой-либо одной определенной школой, он выбирает то, что считает для себя приемлемым»28. В литературе этого времени принято говорить о выходе на авансцену южной поэтической школы. «При дворе У-ди звучат чуские мелодии, наиболее знаменитые поэты все сплошь с юга и несут в своих поэмах чуский дух, создают новую эстетику: динамизм, экспрессия, декоративность противостоят гармонии, умеренности чувств и простоте классики. Эта поэзия волнует, рождает сопереживание»29. Наиболее продуктивным жанром ханьского периода является «ода» (фу), представлявшая собой, как правило, крупное произведение лиро-эпического содержания и обладавшая большой внутренней динамикой. «В отличие от ранних даосов, акцентировавших внимание на мерности движения природы, ее правильном круговращении, согласии звучащих в ней голосов, в ханьской оде подчеркнуто сильное движение, взлеты и падения, бурление, клокотание, т.е. все, что превосходит всякую мерность. Горы здесь вздымаются, потоки низвергаются, ручьи стремительно бегут, ветры бушуют, звери мчатся, всадники несутся во весь опор»30. Л.Е. Померанцева обращает внимание на то, что и в ханьском изобразительном искусстве эмоциональный акцент явно переносится с покоя на движение. Если раньше в древности покой рассматривался как высшее состояние мира, предшествовавшее движению и являвшееся по отношению к нему порождающим началом, то теперь «описание движущейся, развертывающейся природы, творческого размаха дао дано со столь сильной эмоциональной окраской, что не может быть сомнения в полном восторге авторов перед этой картиной»31. «И в „Хуайнаньцзы“, и в ханьском изобразительном искусстве, и в ханьской оде движение понимается не только как внешний динамизм, но прежде всего как всеобщий мировой закон, которому подвластно все – природа и человек, „материя“ и дух. Изображение, описание, повествование направлены к тому, чтобы заразить волнением зрителя, слушателя, читателя. Этому служит экспрессия, эмфаза, так ясно выраженные во всех видах ханьского искусства»32.
Тем не менее в 136г. до н.э. У-ди объявляет официальной идеологией конфуцианство и учреждает высшую императорскую школу (тайсюэ), где проводятся экзамены по «Пятикнижию»33, которые являются, в свою очередь, пропуском на государственную службу. Л.Е. Померанцева полагает, что таким образом «в основу образования [было] официально положено общее наследие, области знания, пусть и препарированные конфуцианскими учителями, но сложившиеся в своей основе задолго до Конфуция»34. В числе обязательных «предметов» вновь оказываются «Песни», как то было на протяжении многих веков. «Заботясь о популярности своего правления, У-ди взял на себя миссию якобы восстановителя расшатанных предшествующей династией устоев древности – именно этим обстоятельством Хани объясняли бесславную погибель Цинь. Объявление конфуцианства официальной идеологией также способствовало этой цели: Конфуций и его последователи особенно афишировали верность заветам отцов, обычаям и установлениям предков. Эта идея широко пропагандировалась и обставлялась различного рода культурной деятельностью. При У-ди широко развернулась работа по сбору, записи, редактированию и комментированию исторических, философских и литературных произведений, бытовавших до тех пор либо в устной форме, либо записанных в разное время и в разных вариантах и в небольшом количестве экземпляров»35. В их числе оказалась и «Книга песен», которая в результате включения в конфуцианский канон получила название «Шицзин». Также при У-ди была учреждена «Музыкальная палата» (Юэфу), в задачу которой входили сбор и обработка народных песен и мелодий, а также создание новых – для ритуальных целей. Все это делалось по аналогии с древней практикой «собирания песен» (цай ши), результатом которой и стал тот самый свод из «трехсот произведений»36 (сань бай пянь), составивших содержание «Шицзина». Разумеется, что на новом историческом этапе, как процесс, так и содержание данной практики оказались совершенно иными, однако бесспорно и то, что юэфу37 наряду с «Шицзином» в результате оказали колоссальное, определяющее влияние на китайскую поэзию двух последующих тысячелетий – вплоть до настоящего времени.
Известно, что «Книга песен», которая представляет собой собрание произведений песенно-поэтического творчества китайцев приблизительно с XI по VIв. до н.э., в древности использовалась для обучения благородных юношей. Известны слова Конфуция: «Песни развивают воображение, учат наблюдательности, объединяют людей, воспитывают [справедливый] гнев, наставляют в служении как отцу, так и господину, сообщают много сведений о птицах и зверях, деревьях и травах» (XVII, 9)38. Также известен диалог Конфуция с его собственным сыном, который мы находим в «Изречениях»: «Чэнь Ган спросил у Боюя39: „Случалось ли тебе слышать [от отца] что-либо иное, чем мы?“ Боюй отвечал: „Нет. Случилось как-то, что он стоял один, а я быстро шел через двор. И он сказал: „Ты выучил Песни?“ Я ответил: „Нет еще“.– „Тому, кто не знает Песен, нечего сказать“. Я пошел и выучил Песни…“» (XVI, 13). Данный эпизод свидетельствует о том, что «Песни» уже в древности служили одним из источников красноречия и что именно они одухотворяли ту самую ораторскую традицию, которую принято ассоциировать с периодом расцвета философских школ (V–IIIвв.). Главное же, что делает «Шицзин» священным в китайской традиции, это добронравие его «песен». Справедливы утверждения о том, что конфуцианская школа пыталась навязать ему излишне тенденциозный комментарий, призванный иллюстрировать тезисы своего учения. Но также справедливо и то, что, как говорил сам Конфуций, «в [„Песнях“] нет зла» (II, 2). Их содержание, несмотря на характерный для народного творчества язык, целомудренно, и в этом их огромная духовная сила. В «Шицзине» содержится весь секрет воздействия слова на аудиторию. Л.Е. Померанцева справедливо утверждает, что «на протяжении всей последующей истории Китая „Книга песен“ служила неисчерпаемым источником вдохновения для позднейших поэтов»40. Более того, само слово «ши» («песня») впоследствии стало обозначать в китайском языке (любые) «стихи», заставляя авторов во все времена помнить о высокой моральной ответственности за свое творчество.
В настоящее издание входит 24 «песни» в переводе Л.Е. Померанцевой. Это небольшая часть от общего их числа в составе канона, однако данная подборка дает широкое представление о характере памятника: «…простейшая трудовая песня, все содержание которой заключено в названии повторяющегося действия; песни-заклинания тотемов; календарно-обрядовая поэзия древнего типа; круг песен, примыкающий к свадебной и похоронной обрядности; эпические песни – среди них мифические, героические, исторические; культовые гимны; наконец, лирика с разработанной системой художественных средств и политическая дидактика, представляющая собой плод анонимных, но уже ощутимо присутствующих авторов – такова „Книга песен“»41.
Известно, что в эпоху бурного развития философии в Китае, относящейся к VI–IIIвв. до н.э., достигает высокого уровня искусство красноречия. Его носителями являлись многочисленные учителя мудрости, которые имели возможность довольно свободно перемещаться от двора ко двору, из царства в царство, передавая таким образом свое учение и собирая вокруг себя целые школы последователей. Именно в этой среде «стихийным образом в русле философского красноречия складываются будущие литературные жанры, которые здесь еще не осознаются как таковые, а являются лишь удобной формой философского становления. Первым из них нужно назвать философский диалог. Возникнув как философская проповедь, он определит основу других жанров древней литературы – фу и жизнеописания. Кроме того, у философов получают разработку исконно фольклорные жанры – притчи, сказки, легенды и пр.»42.
Из всех философских школ, существовавших в Китае в древности, наибольшее влияние на последующую литературу оказали конфуцианство и даосизм, что дает В.М. Алексееву право назвать их «вечной дуадой китайского литературного сознания»43. Высказывания Конфуция, его диалоги с учениками, а также небольшие сюжетные эпизоды с его участием дошли до нас в составе «Изречений» («Лунь юй»). В настоящий сборник вошло несколько фрагментов из этого памятника в переводах Л.Е. Померанцевой. Известно, что Конфуций не записывал собственных речей. «Изречения» появились в результате более поздней фиксации передававшегося устно в течение какого-то времени корпуса высказываний Учителя. «„Изречения“ передают дух и атмосферу ученичества и показывают положение учителя, не так давно сменившего жреца, вещающего неоспоримую истину. Сам стиль ответов Конфуция – сентенционный, а порой афористичный – исключает возможность оспаривания»44. Конфуций вовсе не стремится быть легко понятым с полуслова, а скорее наоборот, часто говорит намеками и короткими фразами, чтобы привести слушателя в состояние внутреннего созерцания. Его знание «сокровенно» в том смысле, что передается не концепциями, а опытом духовной аскезы – и только в этом качестве имеет значение. Диалоги Конфуция в подавляющем большинстве – с его учениками, составляющими внутренний круг его школы, для них каждое его слово, каждое действие это пример, через который передается его учение. Учитель явно интересуется тем, какой отклик вызвали его речи в душе посвященных, как правильно и глубоко его поняли, о чем можно судить из бесед Конфуция с учениками. Его комментарий по поводу услышанного от них в ответ также является формой поучения, служащего примером для всех.
Другое дело – «Мэнцзы», памятник, названный по имени философа Мэн Кэ (327–289гг. до н.э.), крупнейшего в древности последователя Конфуция, жившего примерно через два столетия после него. Если «Изречения» это, скорее, «откровение», то «Мэнцзы» – «проповедь». И как часто бывает в подобных случаях, там содержится много нового. Даже из нескольких фрагментов памятника, включенных в настоящий сборник в переводах Л.Е. Померанцевой, нетрудно заметить, как сильно его текст отличается от «Изречений» по стилю. В первую очередь обращает на себя внимание, что здесь «монолог зачастую значительно превалирует над диалогом, диалогу же в этом случае отведена вспомогательная роль – он движет тему вперед. Партнером Мэнцзы является либо правитель, в царство которого Мэнцзы прибыл с надеждой применить свое учение на практике, либо ученики, либо другие философы. Монолог Мэнцзы часто вводится словами: „Мэнцзы сказал…“. В этом памятнике довольно значительное место занимают повествование, исторические аналогии, цитаты, притчи, примеры и пр., с помощью чего Мэнцзы стремится представить свою мысль в доступной форме, поскольку, в отличие от Конфуция, он заботится об убедительности»45.
Если Конфуций в большинстве случаев ведет беседы со своими учениками, то Мэнцзы обращается к более широкой и менее «подготовленной» аудитории. Он нередко оказывается в роли трибуна, который вещает перед Государем, желая разъяснить ему суть своего учения. Мэнцзы тонко чувствует психологию своего собеседника, обладая при этом удивительным ораторским талантом. Его речи поражают своей мягкостью и изяществом. В этом, безусловно, сказывается личность самого философа, которую невозможно спрятать за ретушью более поздней литературной обработки данного текста. Другое дело, что за те двести лет, что прошли со времени жизни Конфуция и были отмечены расцветом философских школ, существенно изменился и язык устного выступления. Едва ли стоит сомневаться, что был накоплен колоссальный багаж ораторского мастерства, который непосредственным образом отразился на речи мыслителей того времени и ее последующей записи. И дело здесь вовсе не в качественном изменении, а в эволюции стиля и его соответствии своему времени. Именно поэтому столь очевидны сходства в стиле языка памятников, современных «Мэнцзы», а именно «Чжуанцзы», «Цзочжуань» и «Речи царств», на которые не раз указывала в своих исследованиях Л.Д. Позднеева46.
Обращает на себя внимание, что аргументация Мэнцзы в пользу конфуцианских добродетелей все больше основывается на универсальных чувственных категориях. Так, например, показателен следующий фрагмент памятника: «Все люди обладают состраданием – каждый, увидев, что ребенок сейчас упадет в колодец, испытывает чувство страха и острой жалости не потому, что тем он может вызвать дружбу родителей ребенка, не потому, что может приобрести славу среди друзей в селении, и не потому, что ему неприятен крик ребенка, и тому подобное. Отсюда заключаем, что кто не обладает чувством жалости – не человек; кто не имеет совести – не человек; кто не обладает уступчивостью – не человек; кто не чувствует, где правда, а где ложь,– не человек. Чувство жалости есть высшее выражение жэнь47; совесть есть высшее выражение справедливости; уступчивость есть высшее выражение ритуала; чувство правды и лжи есть высшее выражение ума. Обладание этими четырьмя высшими [чувствами] так же [естественно], как обладание четырьмя конечностями»48. Представление о естественной данности добродетели (дэ)– ее «природном» характере – традиционно отличало даосскую школу, которая, однако, понимала ее как «силу, царствующую в природе наравне с дао и сообщающую всему живому способность жить, не подвергаясь опасности порчи или безвременной гибели»49. Иными словами, она понималась даосами как «жизненная сила», а не как «моральное качество». Эта грань между школами никогда не пересекалась, однако то, что Мэн-цзы приписывает человеческим добродетелям некую природную свойственность, обращает на себя внимание. Также существенно, что именно Мэнцзы считается автором исторической трансформации в толковании понятия жэнь в сторону «гуманности» или «человеколюбия», имеющих универсальный смысл. «Основания для этого дает скорее Мэнцзы, чем Конфуций. В „Мэнцзы“ вообще заметно стремление усилить моральный аспект прежних конфуцианских добродетелей, основанных более на обязанностях»50.
Известно, что наряду с философской прозой в Китае также развивается историческая проза. В IV–IIIвв. до н.э. возникают произведения, подробно описывающие события, которые в древних хрониках были лишь кратко упомянуты. Их основой является, по-видимому, материал, передававшийся в устной традиции. В их числе: «Речи царств» – о событиях X–Vвв. до н.э.; «Цзо чжуань» – развернутый комментарий к летописи царства Лу, охватывающий период с 722 по 463г. до н.э.; «Планы сражающихся царств» – о событиях V–IIIвв. до н.э. «Материал во всех трех произведениях располагается по царствам и в порядке хронологии. Между отдельными рассказами нет логической связи, они представляют собой цепь эпизодов, „нанизанных“ один на другой, как в философской прозе, но с той разницей, что они связаны хронологией. Основной формой изложения и здесь является прямая речь, воспроизводящая или имитирующая действительные диалоги и монологи известных исторических лиц. Благодаря изобилию речей действие в таком рассказе драматизируется, события выступают через призму восприятия их героями, через их речи и поступки. В результате, несмотря на явную установку на рассказ о событии, внимание концентрируется на людях, в них участвующих. Характерно, что именно в это время, как свидетельствуют источники, появляются первые жизнеописания, что с несомненностью свидетельствует о возникшем интересе к личности»51.