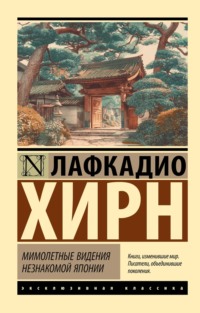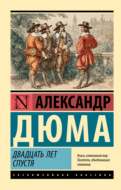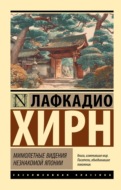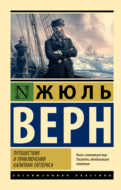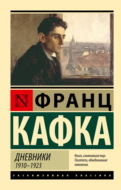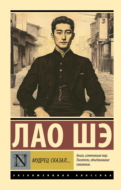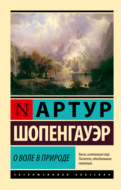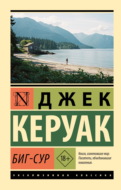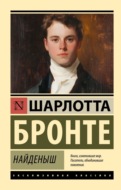Buch lesen: "Мимолетные видения незнакомой Японии"
Lafcadio Hearn
Glimpses of Unfamiliar Japan, Vol. 1
* * *
 Школа перевода В. Баканова, 2025
Школа перевода В. Баканова, 2025
© ООО «Издательство АСТ», 2025
* * *
В знак моей признательности и благодарности посвящается друзьям, чья доброта сделала возможным мое пребывание на Востоке: судовому казначею Митчеллу Макдональду, ВМС США и Бэзилу Холлу Чемберлену, эсквайру, почетному профессору филологии и японистики Имперского университета Токио.
Предисловие
В 1871 году во вступлении к своим очаровательным «Легендам древней Японии» мистер Митфорд писал: «Книги о Японии, созданные в последние годы, опирались либо на официальные документы, либо на поверхностные впечатления случайных путешественников. Мир до сих пор мало знает о внутренней жизни японцев. Их религия, суеверия, образ мыслей и тайные пружины поступков по-прежнему остаются загадкой».
Невидимая жизнь, о которой говорит мистер Митфорд, это та самая незнакомая Япония, которую мне удалось мельком увидеть. Читатель, возможно, будет разочарован слишком малым количеством впечатлений. Однако четырех лет, прожитых среди какого-либо народа, даже если ты пытаешься перенять его привычки и обычаи, иностранцу едва ли достаточно, чтобы почувствовать себя в чужом мире как дома. Никто лучше самого автора не знает, как мало воспроизведено в этих томах и как много еще предстоит сделать.
Образованные классы Новой Японии практически не разделяют популярные религиозные верования, в особенности почерпнутые из буддизма, и причудливые суеверия, упомянутые в этих заметках. За исключением характерного для него безразличия к абстрактным идеям в целом и метафизическим соображениям в частности, озападненный японец наших дней находится практически в том же интеллектуальном поле, что и культурный житель Парижа или Бостона. Он с неоправданным презрением относится к любым представлениям о сверхъестественном, великие религиозные вопросы современности его совершенно не трогают. Университетская выучка в области современной философии редко побуждает современного японца к непредвзятому изучению общественных отношений или их психологии. В его глазах суеверия – глупые предрассудки и ничего больше. Их связь с чувственной природой народа его не интересует1. Так происходит не потому, что он хорошо понимает свой народ, но потому, что класс, к которому он принадлежит, по-прежнему, пусть по естественным причинам, безоговорочно стыдится прежних верований. Большинство из нас, называющие себя агностиками, помнят, с какими чувствами мы, освободившись от куда более иррациональной веры, чем буддизм, оглядывались на мрачное богословие наших отцов. Интеллектуалы Японии стали агностиками лишь в последние несколько десятилетий. Быстрота, с которой произошла эта революция в умах, достаточно объясняет главные, хотя и не все причины сегодняшнего отношения высшего класса к буддизму. На сей момент оно граничит с нетерпимостью, и коль таково отношение к вере, отделенной от суеверия, то отношение к суеверию, отделенному от веры, должно быть еще более суровым.
Редкостное обаяние японского быта, так сильно отличающегося от быта других частей мира, не встретишь в европеизированных кругах. Его можно наблюдать в широких народных массах, которые в Японии, как и во всех других странах, являются носителями национальных достоинств и все еще крепко держатся за чу́дные старинные обычаи, живописные наряды, скульптуры Будды, домашние алтари, прекрасное и трогательное поклонение предкам. От такой жизни иностранный наблюдатель, если только ему посчастливится в нее окунуться, никогда не устанет, она подчас заставляет его усомниться, способствует ли хваленый западный прогресс нашему нравственному развитию. Каждый день на протяжении многих лет наблюдателю будет открываться незнакомая, неожиданная красота местной жизни. Как и в любых других местах, у нее есть свои темные стороны, но даже они выглядят светлыми по сравнению с темными сторонами западного бытия. В ней есть свои причуды, глупости, пороки и зверства. Однако, чем дольше ее наблюдаешь, тем больше восхищаешься ее невероятным добронравием, удивительным долготерпением, нескончаемой вежливостью, сердечной простотой и спонтанным милосердием. Наиболее распространенные суеверия, как бы их ни осуждали в Токио, имеют для нашего западного понимания редчайшую ценность как фрагменты устной литературы надежд, страхов, опыта добра и зла, незатейливых попыток разгадать загадку Невидимого. Многое из того, что легкие, добрые суеверия народа добавляют к очарованию японской жизни, может понять только тот, кто долго жил в глубинных районах страны. Некоторые из верований зловещи, например вера в демонов-лисиц, которую быстро вытравливает государственное образование, однако многие по красоте фантазии сравнимы с греческими мифами, в которых до сих пор черпают вдохновение благороднейшие поэты современности. В то же время многие другие суеверия, поощряющие милость к несчастным и доброту к животным, не могут не преподнести крайне положительный нравственный урок. Удивительная самоуверенность домашних животных и относительное бесстрашие многих диких существ в присутствии человека, тучи белых чаек, кружащие вокруг любого парохода в ожидании милостыни в виде крошек, шум крыльев голубей, слетающих с карнизов храмов к рисовым зернам, рассыпанным для них паломниками, привычные аисты в старых общественных парках, олени, ждущие у святых мест лепешек и ласки, рыбы, высовывающие морды из священных прудов с цветками лотоса, стоит только тени незнакомца пасть на воду, – все эти и сотни других милых сцен навеяны причудами, которые хоть и называются суевериями, в простейшей форме внушают великую истину о единстве всего живого. И даже если взять менее симпатичные верования, предрассудки, гротескность которых способна вызвать улыбку, беспристрастному наблюдателю не мешает вспомнить, что об этом говорил Лекки.
Многие суеверия, несомненно, соответствуют греческой концепции рабского «страха перед богами» и принесли человечеству неописуемые страдания, но есть и множество других. Суеверия затрагивают как наши надежды, так и наши страхи. Они нередко удовлетворяют самые сокровенные желания сердца. Дают уверенность там, где разум может предложить лишь возможности или вероятности. Создают представления, на которых любит задерживаться воображение. А иногда даже придают моральным истинам новое звучание. Порождая желания, которые только они способны удовлетворить, и страхи, которые только они способны успокоить, суеверия часто становятся необходимым элементом счастья. Их способность утешить человека наиболее ощутима в томительные или тревожные часы, когда тот больше всего испытывает нужду в таком утешении. Нам больше дают наши иллюзии, чем наши знания. Воображение, являясь, по сути, элементом творчества, быть может, помогает нашему счастью больше, чем разум, который критично и разрушительно действует в основном в сфере умозаключений. Грубый амулет, который дикарь в час опасности или беды уверенно прижимает к груди, икона, которая, как считается, освящает и защищает лачугу бедняка, могут дать более реальное утешение в самый тяжелый час человеческих страданий, чем величайшие философские теории. Нет более серьезной ошибки, чем воображать, что, когда критический дух уйдет в мир иной, все приятные убеждения останутся, а болезненные погибнут.
То, что критический дух модернизированной Японии сейчас косвенно помогает, а не противостоит попыткам зарубежных фанатиков разрушить простую и радостную веру народа и заменить ее жестокими суевериями, из которых сам Запад давно интеллектуально вырос, – измышлениями о безжалостном Боге и бесконечных страданиях в аду – не может не вызывать сожаления. Более ста шестидесяти лет назад Кемпфер писал о Японии: «В практической добродетели, житейской чистоте и самоотдаче в отношении к ближнему японцы намного превосходят христиан». И за исключением тех мест, где местные нравы пострадали от иностранной заразы, как, например, в открытых портовых городах, эти слова справедливы по сей день. По моему собственному убеждению, а также по убеждению многих беспристрастных и более опытных наблюдателей японской жизни, Япония ничего не выигрывает от обращения в христианство, ни в моральном, ни в каком-либо другом плане, но очень многое теряет.
Из двадцати семи очерков, которые вошли в этот том, четыре были первоначально приобретены различными газетами и представлены здесь в значительно измененном виде. Шесть были опубликованы в журнале «Атлантик мансли» (1891–1893 гг.). Прочие, составляющие основную часть работы, ранее нигде не публиковались.
Л.Х.
Кумамото, Кюсю, Япония, 1894 г.