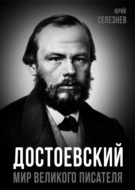Buch lesen: "Моя жизнь в искусстве"
Серия «Покорившие мир»

© Станиславский К.С., 2025
© ООО «Издательство Родина», 2025

Константин Станиславский
Театральный основоположник
Имя Константина Станиславского известно во всем мире. По существу, он создал новую профессию – режиссера, который именно волей русского гения стал главным человеком в театре.
Купеческий круг
Он родился в богатой купеческой семье. Но предком Алексеевых был крепостной крестьянин Ярославской губернии, получивший вольную в первой половине XVIII века. Он торговал с лотка горохом и на этом скопил состояние. Уже его сын имел фабрику золотой и серебряной канители, которая сгорела в 1812 году.
А отец Станиславского, Сергей Владимирович Алексеев, был крупным предпринимателем. Его фабрика поставляла в том числе золотую проволоку для вышивки погон и парадной военной формы.
А мать – дочь состоятельного владельца каменоломен в Финляндии Василия Абрамовича Яковлева и французской артистки, приехавшей на гастроли в Россию, Мари Варлей.
Константин был болезненным ребенком, да еще и не выговаривал несколько звуков. С такими данными трудно было рассчитывать на блистательный путь в искусстве. Но дети купцов, заболевшие Мельпоменой, были людьми целеустремленными.
Молодой промышленник
В гимназии Константин учился скверно, постарался быстро ее покинуть и стал работать на предприятии отца. Ему даже удалось усовершенствовать производство. Создал первый в России цех алмазного инструмента. В 1900 году на Всемирной выставке в Париже фабрика демонстрировала новый вид золотоканительных нитей, отличающихся особой тонкостью и мягкостью. Это изделие получило высшую награду выставки – «Гран-при», а Алексеев был награжден медалью. Ему шел 38-й год… Позже его фабрику перепрофилировали в завод «Электропровод», который до недавнего времени существовал на Таганке. Они создавали современные кабели, необходимые промышленности. Это увлекало нашего героя. Отдавая себя искусству, он долго не бросал технику.
И все-таки – на сцене!
Тем временем Алексеев все свободное время проводил в театре. Малый стал его университетом. Он самоотверженно занимался актерским искусством. В артистическом мире его знали как заводилу Алексеевского кружка. Он возглавлял Московское общество искусства и литературы. И, не забывая руководить предприятием, играл в спектаклях. Да как! Стал одним из лучших актеров России. Ему нравились и опереточные роли, и серьезные. Этот сплав разных жанров и станет одной (но далеко не единственной!) из основ Системы Станиславского, которая преобразит артистический мир. В 1885 году он впервые выступил под своим легендарным псевдонимом – и постепенно Станиславский «вытеснил» Алексеева.
Мечта о новом театре
В 1898 году Станиславский вместе с Владимиром Немировичем-Данченко, за несколько часов обсудив свои планы в ресторане «Славянский базар», создали театр, который весь мир теперь знает как МХАТ, или просто МХТ. Художественный театр. Они мечтали отказаться от театральной рутины, от непрофессионализма и создать реалистический и в то же время модернистский театр, который соответствовал бы вершинам тогдашней русской литературы. Для них было важным неброское оформление зала, жизнеподобие актерской игры. Хотя Станиславский не отрицал и гротеск, обожал музыкальный театр. Основатели настаивали и на низких ценах на билеты. Мечтали, что в театр придет «народ». Они назвали театр Московским Художественным Общедоступным. Правда, очень скоро, в 1901 году, из-за цензурных придирок и финансовых затруднений, вызвавших повышение цен на билеты, слово «общедоступный» пришлось убрать из названия театра. И все-таки считалось, что, в отличие от пышных императорских театров, «художественники» демократичны.
Театральные победы
Первым спектаклем театра стала поэтическая трагедия Алексея Константиновича Толстого «Царь Федор Иоаннович». Заглавную роль исполнил ученик Немировича Иван Москвин, сразу ставший звездой театра.
Спектаклями, определившими стиль театра, стали чеховская «Чайка» и горьковская трагедия «На дне». Это было немыслимо смело и свежо. На сцене зарождалась жизнь, которая подчас оказывалась важнее основного действия. Станиславский создал новые принципы сценического общения, к которым его во многом подтолкнул Чехов с его диалогами не понимающих друг друга людей. Театр стал не просто ярким времяпровождением. Непрерывный сюжет с минимальными паузами на антракты погружал зрителя в томительную стихию живой жизни. Важны были для Станиславского и такие детали, как завернутые в рубаху грязные ботинки Сатина – героя «На дне», – которые служили ему подушкой.
Сам Станиславский играл Тригорина в «Чайке», Астрова в «Дяде Ване», Вершинина в «Трёх сёстрах», Сатина в «На дне», Гаева в «Вишнёвом саде», Шабельского в «Иванове». Оказалось, что он не только иронический актер. Чеховская лирика вполне подошла стареющему мастеру.
Искусство переживания
Театр, который они создали, стал явлением, событием. Максим Горький писал: «Художественный театр – это так же хорошо и значительно, как Третьяковская галерея, Василий Блаженный и всё самое лучшее в Москве. Не любить его невозможно, не работать для них преступление». Антон Чехов стал для Станиславского любимым автором, хотя и был чрезвычайно капризным, вечно недовольным драматургом. Ему в постановках Станиславского всегда чего-то не хватало – как правило, парадоксальности. И все-таки традицию чеховских постановок, да и славу Чехова-драматурга создал именно Станиславский.
Он проповедовал «искусство переживания» во всякую минуту пребывания на сцене – и получались спектакли, которые прежде не видела Россия. Правда, прочного союза с Немировичем не получилось. Он из драматурга быстро переквалифицировался в режиссеры – и между основоположниками возникли трения. Они ссорились, пытались примириться, но в итоге годами не разговаривали друг с другом. Каждый работал в театре сепаратно.
Остаться в России
В 1928 году, во время юбилейного вечера МХАТа, Станиславский слег с опасным сердечным приступом. Через год он вернулся к работе – но занимался теорией актерского искусства и своей оперной студией. В Художественный заглядывал нечасто.
Впрочем, книгу «Моя жизнь в искусстве» он написал еще раньше, в 1924 году. Несмотря на невзгоды гражданской войны и нэпа – а Станиславскому довелось побывать даже заложником у белогвардейцев. И многие были уверены, что он покинет Советский Союз. Особенно во время долгих и успешных гастролей по США в 1922 году. Но актеры вернулись в Советскую Россию. Такова была позиция мастера.
Система
Что такое Система Станиславского? Идеалом актера он считал оперного гения Федора Шаляпина. С него во многом и писал свою Систему, хотя, конечно, постоянно добавлял важные штрихи из собственного опыта. Это необходимость вживаться в роль, ткать на сцене правдивые отношения с другими героями (петелька – крючочек), пытаться оправдать своего героя, не опускаться до штампа, до карикатуры. Постараться испытать эмоции своего персонажа, окунуться в его судьбу. Удавалось это редко. Гораздо чаще звучали ставшие крылатыми слова режиссера: «Не верю!»
В наше время многие отступают от Системы, даже критикуют ее. Но эталоном театра для большинства любителей искусства все-таки остается то, что создал Станиславский. Не догматик, не сторонник мертвых канонов. Напротив – человек, учивший актеров меняться, творить, раскрывать себя, отбрасывая стереотипы.
Станиславский воспитал несколько поколений актеров, создавал студии, две из которых очень скоро стали отдельными театрами – МХАТ–2-й Михаила Чехова и театра Евгения Вахтангова.
Идеал человека
Режиссера считали идеальным человеком: хорошо известен его добродушный характер. Он любил семью: жену, актрису Марию Лилину, дочь Киру Константиновну, которая станет хранительницей его музея и сына (незаконнорожденного, от крестьянки), который станет знаменитым античником, профессором МГУ. Его книги до сих пор переиздаются. Это Владимир Сергеев.
Алексеев и Джугашвили
В советское время театр полюбили власти. Станиславский первым получил звание народного артиста СССР. Его величие не оспаривалось. Есть известная театральная байка. Сталин любил бывать во МХАТе. Когда они знакомились со Станиславским, режиссер, волнуясь, представился: «Алексеев». «Джугашвили», – тут же ответил генеральный секретарь. При Сталине МХАТ стал главным театром страны. А Станиславский – символом советского искусства.
Ушедший в легенду
Он умер в 76 лет, в 1938 году. По нашим меркам – не такой уж мафусаилов возраст. Но здоровье актера давно давало сбои. Он уже лет 10 выглядел, да и держался значительно старше своих лет. Но для театра – не только в России – стал живым божеством. Почти сразу правительство приняло решение о создании музея в квартире великого артиста в Леонтьевском переулке. После его смерти Систему канонизировали – и не только в Советском Союзе. Он считается основоположником науки о театре. А многочисленные ученики-мхатовцы укрепили легенду о великом режиссере. Они всегда относились к нему как к святыне.
Из этой книги вы узнаете не только об истории театральной одиссеи Станиславского и о его режиссерских принципах. Он колоритно описал свою эпоху. Получилась одна из главных книг в истории. Для театрального мира – почти всеобъемлющая.
Арсений Замостьянов, заместитель главного редактора журнала «Историк»
Артистическое детство
Упрямство
Я родился в Москве в 1863 году – на рубеже двух эпох. Я еще помню остатки крепостного права, сальные свечи, карселевые лампы, тарантасы, дормезы, эстафеты, кремневые ружья, маленькие пушки наподобие игрушечных. На моих глазах возникали в России железные дороги с курьерскими поездами, пароходы, создавались электрические прожекторы, автомобили, аэропланы, дредноуты, подводные лодки, телефоны – проволочные, беспроволочные, радиотелеграфы, двенадцатидюймовые орудия. Таким образом, от сальной свечи – к электрическому прожектору, от тарантаса – к аэроплану, от парусной – к подводной лодке, от эстафеты – к радиотелеграфу, от кремневого ружья – к пушке Берте и от крепостного права – к большевизму и коммунизму. Поистине – разнообразная жизнь, не раз изменявшаяся в своих устоях.
Мой отец, Сергей Владимирович Алексеев, чистокровный русский и москвич, был фабрикантом и промышленником. Моя мать, Елизавета Васильевна Алексеева, по отцу русская, а по матери француженка, была дочерью известной в свое время парижской артистки Варлей, приехавшей в Петербург на гастроли. Варлей вышла замуж за богатого владельца каменоломен в Финляндии, Василия Абрамовича Яковлева, которым поставлена Александровская колонна на бывшей Дворцовой площади, 5. Артистка Варлей скоро разошлась с ним, оставив двух дочерей: мою мать и тетку. Яковлев женился на другой, г-же Б., турчанке по матери и гречанке по отцу, и передал ей заботу о воспитании своих дочерей. Их дом был поставлен на аристократическую ногу. Тут, по-видимому, сказались придворные привычки, унаследованные новой женой Яковлева от своей матери-турчанки, бывшей ранее одной из жен султана. Старик Б. похитил ее из гарема и спрятал в ящике, который был сдан в багаж как простая кладь. По выходе корабля в море ящик вскрыли и выпустили гаремную узницу на свободу. Как сама Яковлева, так и ее сестра, вышедшая замуж за моего дядю, любили светскую жизнь; они давали обеды и балы.
В шестидесятых и семидесятых годах Москва и Петербург танцевали. В течение сезона балы давались ежедневно, и молодым людям приходилось бывать в двух-трех домах в один вечер. Я помню эти балы. Приглашенные приезжали чуть ли не цугом, со своей прислугой, в парадных ливреях на козлах и сзади, на запятках. Против дома, на улице, зажигались костры, а вокруг костров расставляли угощение для кучеров. В нижних этажах дома готовился ужин для приехавших лакеев. Щеголяли цветами, нарядами. Дамы увешивали грудь и шею бриллиантами, а любители считать чужие богатства вычисляли их стоимость. Те, которые оказывались наиболее бедными среди окружающей их роскоши, чувствовали себя несчастными и точно конфузились своей нищеты. Богатые же поднимали головы и чувствовали себя царицами бала. Котильоны с самыми замысловатыми фигурами, с богатыми подарками и премиями танцующим длились по пяти часов беспрерывно. Чаще всего танцы кончались при дневном свете следующего дня, и молодые люди прямо с бала, переодевшись, отправлялись на службу в контору или в канцелярию.
Мой отец и мать не любили светской жизни и выезжали только в крайних случаях. Они были домоседы. Мать проводила свою жизнь в детской, отдавшись целиком нам, ее детям, которых было десять человек.
Отец, до самого дня свадьбы, спал в одной кровати с моим дедом, известным своей патриархальной жизнью старинного уклада, унаследованной им от прадеда – ярославского крестьянина, огородника. После женитьбы он перешел на свое брачное ложе, на котором спал до конца жизни; на нем он и умер.
Мои родители были влюблены друг в друга и в молодости, и под старость. Они были также влюблены и в своих детей, которых старались держать поближе к себе. Из моего далекого прошлого я помню ярче всего мои собственные крестины, – конечно, созданные в воображении, по рассказам няни. Другое яркое воспоминание из далекого прошлого относится к моему первому сценическому выступлению. Это было на даче в имении Любимовка, в тридцати верстах от Москвы, около полустанка Тарасовка Ярославской ж. д. Спектакль происходил в небольшом флигеле, стоявшем во дворе усадьбы. В арке полуразвалившегося домика была устроена маленькая сценка с занавесью из пледов. Как полагается, были поставлены живые картины «Четыре времени года». Я – не то трех–, не то четырехлетним ребенком – изображал зиму. Как всегда в этих случаях, посреди сцены ставили срубленную небольшую ель, которую обкладывали кусками ваты. На полу, укутанный в шубу, в меховой шапке на голове, с длинной привязанной седой бородкой и усами, постоянно всползавшими кверху, сидел я и не понимал, куда мне нужно смотреть и что мне нужно делать. Ощущение неловкости при бессмысленном бездействии на сцене, вероятно, почувствовалось мною бессознательно еще тогда, и с тех пор и по сие время я больше всего боюсь его на подмостках. После аплодисментов, которые мне очень понравились, на бис мне дали другую позу. Передо мной зажгли свечу, скрытую в хворосте, изображавшем костер, а в руки мне дали деревяшку, которую я как будто совал в огонь.
«Понимаешь? Как будто, а не в самом деле!» – объяснили мне.
При этом было строжайше запрещено подносить деревяшку к огню. Все это мне казалось бессмысленным. «Зачем как будто, если я могу по-всамделишному положить деревяшку в костер?»
Не успели открыть занавес на бис, как я с большим интересом и любопытством потянул руку с деревяшкой к огню. Мне казалось, что это было вполне естественное и логическое действие, в котором был смысл. Еще естественнее было то, что вата загорелась и вспыхнул пожар. Все всполошились и подняли крик. Меня схватили и унесли через двор в дом, в детскую, а я горько плакал.
После того вечера во мне живут, с одной стороны, впечатления приятности успеха и осмысленного пребывания и действия на сцене, а с другой стороны – неприятности провала, неловкости бездействия и бессмысленного сидения перед толпой зрителей.
Итак, мой первый дебют кончился провалом, и произошел он из-за моего упрямства, которое временами, особенно в раннем детстве, доходило до больших размеров. Мое природное упрямство в известной мере оказало и дурное, и хорошее влияние на мою артистическую жизнь. Вот почему я на нем останавливаюсь. Мне пришлось много бороться с ним. От этой борьбы во мне уцелели живые воспоминания.

Семейство Алексеевых
Как-то, в раннем детстве, во время утреннего чая, я шалил, а отец сделал мне замечание. На это я ему ответил грубостью, без злобы, не подумав. Отец высмеял меня. Не найдя, что ему ответить, я сконфузился и рассердился на себя. Чтобы скрыть смущение и показать, что я не боюсь отца, я произнес бессмысленную угрозу. Сам не знаю, как она сорвалась у меня с языка:
«А я тебя к тете Вере не пущу…»
«Глупо! – сказал отец. – Как же ты можешь меня не пустить?»
Поняв, что я говорю глупость, и еще больше рассердясь на себя, я пришел в дурное состояние духа, заупрямился и сам не заметил, как повторил:
«А я тебя к тете Вере не пущу».
Отец пожал плечами и молчал. Это показалось мне обидным. Со мной не хотят говорить! Тогда – чем хуже, тем лучше!
«А я тебя к тете Вере не пущу! А я тебя к тете Вере не пущу!» – настойчиво и почти нахально твердил я одну и ту же фразу на разные лады и интонации.
Отец приказал мне замолчать, и именно поэтому я четко произнес:
«А я тебя к тете Вере не пущу!»
Отец продолжал читать газету. Но от меня не ускользнуло его внутреннее раздражение.
«А я тебя к тете Вере не пущу. А я тебя к тете Вере не пущу!» – назойливо, с тупым упрямством долбил я, не в силах сопротивляться злой силе, которая несла меня. Чувствуя свое бессилие перед ней, я стал ее бояться.
«А я тебя к тете Вере не пущу!» – опять сказал я после паузы и против своей воли, от себя не завися.
Отец стал грозить, а я все громче и настойчивее, точно по инерции, повторял ту же глупую фразу. Отец постучал пальцем по столу, и я повторил его жест вместе с надоевшей фразой. Отец встал, я тоже, и опять тот же рефрен. Отец стал почти кричать (чего с ним никогда не бывало), и я сделал то же, с дрожью в голосе. Отец сдержался и заговорил мягким голосом. Помню, меня это очень тронуло, и мне хотелось сдаться. Но, против воли, я повторил в мягком тоне ту же фразу, что придало ей оттенок издевательства. Отец предупредил, что он поставит меня в угол. В его же тоне я повторил свою фразу.
«Я тебя оставлю без обеда», – более строго произнес отец.
«А я тебя к тете Вере не пущу!» – уже с отчаянием говорил я в тоне отца.
«Костя, подумай, что ты делаешь!» – воскликнул отец, бросая на стол газету.
Внутри меня вспыхнуло недоброе чувство, которое заставило меня швырнуть салфетку и заорать во все горло:
«А я тебя к тете Вере не пущу!»
«По крайней мере так скорее кончится», – подумал я.
Отец вспыхнул, губы его задрожали, но тотчас же он сдержался и быстро вышел из комнаты, бросив страшную фразу:
«Ты – не мой сын».
Как только я остался один, победителем, – с меня сразу соскочила вся дурь.
«Папа, прости, я не буду!» – кричал я ему вслед, обливаясь слезами. Но отец был далеко и не слышал моего раскаяния.
Все душевные ступени моего тогдашнего детского экстаза я помню как сейчас и при воспоминании о них вновь испытываю щемящую боль в сердце.
В другой раз, при такой же вспышке упрямства, я оказался побежденным. Как-то за обедом я расхвастался и сказал, что не побоюсь вывести Вороного – злую лошадь – из отцовской конюшни.
«Вот и отлично, – пошутил отец. – После обеда мы наденем на тебя шубу, валенки и ты нам покажешь свою неустрашимость».
«И надену, и выведу», – упорствовал я.
Братья и сестры заспорили со мной и уверяли, что я трус. В доказательство они приводили компрометирующие меня факты. Чем более неприятны были для меня разоблачения, тем упрямее я повторял от конфуза:
«И… не боюсь! И – выведу!»
Опять упрямство мое зашло так далеко, что меня пришлось проучить. После обеда мне принесли шубу, ботинки, башлык, рукавицы; одели, вывели на двор и оставили одного, якобы ожидая моего появления с Вороным перед парадной дверью. Со всех сторон меня охватывала густая тьма. Она казалась еще чернее от светящихся передо мной больших окон зала – наверху, откуда, кажется, за мной наблюдали. Я замер, крепко закусив рукавицу, чтобы напряжением и болью отвлечь себя от всего, что было кругом. В нескольких шагах от меня захрустели чьи-то шаги, затрещал блок и стукнула дверь. Должно быть, кучер прошел в конюшню к тому самому Вороному, которого я обещал привести. Мне представилась большая вороная лошадь, бьющая копытом о землю, вздымающаяся на дыбы, готовая ринуться вперед и увлечь меня за собой, как щепку. Конечно, если бы я представил себе эту картину раньше, за обедом, я не стал бы хвастаться. Но тогда как-то само собой сказалось, а отказаться не хотелось – было стыдно. Вот я и заупрямился.
Я философствовал в темноте тоже больше для того, чтобы развлечь себя и не смотреть по сторонам, где было очень черно.
«Буду стоять долго-долго, пока они сами не испугаются за меня и не придут искать», – решил я про себя.
Кто-то жалобно вскрикнул, и я стал прислушиваться к звукам вокруг. Сколько их! Один страшнее другого! Кто-то крадется!.. Близко! Собака? Крыса?.. – Я сделал несколько шагов к нише, которая была передо мной в стене. В это самое время что-то рухнуло вдали. Что это? Опять? Опять? и совсем близко?.. Должно быть, в конюшне Вороной бьет ногой в дверь, или экипаж по улице проехал по ухабу. А это что за шипение?.. и свист?.. Казалось, что все страшные звуки, о которых я имел представление, сразу ожили и свирепствовали вокруг меня.
«Ай!» – вскрикнул я и отскочил в самый угол ниши. Кто-то схватил меня за ногу. Но это была дворовая собака Роска, мой лучший друг. Теперь мы вдвоем! Не так страшно! Я взял ее на руки, и она стала лизать мне лицо своим грязным языком. Тяжелая, неуклюжая шуба, туго завязанная башлыком, не давала возможности спасти лицо. Я отвел морду собаки, и Роска расположилась спать на моих руках, согрелась и затихла. Кто-то быстро шел из ворот. Уж не за мной ли? И сердце мое забилось от ожидания. Нет, прошли в кучерскую.
«Им, должно быть, очень стыдно теперь. Выкинули меня, маленького, в такой холод из дому… точно в сказке… Я им не забуду этого».
Из дому доносились глухие звуки рояля.
«Это брат играет?! Как ни в чем не бывало! Играют! А про меня забыли! Сколько же мне стоять здесь, чтобы они вспомнили?» Стало страшно и захотелось скорей в зал, в тепло, к роялю.
«Дурак я, дурак! Выдумал! Вороного! Болван!» – ругал я себя и злился, поняв всю глупость своего положения, из которого, казалось, не было выхода.
Заскрипели ворота, застучали копыта лошадей, захрустели колеса по снегу. Кто-то подъехал к подъезду. Хлопнула дверь парадной, и карета тихо въехала во двор и стала поворачивать.
«Двоюродные сестры, – вспомнил я. – Их ждали в этот вечер. Теперь я ни за что не вернусь домой. При них сознаться в своей трусости!»
Приехавший кучер постучал в окно кучерской, вышли наши кучера, заговорили громко, потом отворили сарай, поставили лошадей.
«Пойду-ка к ним и попрошу, чтобы мне дали Вороного. Они мне не дадут его – тогда я вернусь домой и скажу, что они не дают, и это будет правда и ловкий выход из положения».
Я ожил от такой мысли. Спустив Роску со своих рук, я приготовился идти в конюшню.
«Вот только бы пройти через темный большой двор!» Я сделал шаг и остановился, так как в это время на двор въехал извозчик, и я боялся в темноте попасть под его лошадь. В этот момент случилась какая-то катастрофа, – сам не знаю, какая, так как в темноте нельзя было разобрать. Должно быть, лошади с каретой, поставленные и привязанные в сарае, начали сначала ржать, потом топотать ногами и, наконец, бить. Извозчичья лошадь, как мне показалось, тоже билась. Кто-то, кажется, метался с экипажем по двору. Выскочили кучера, все кричали: «Тпррр, стой, держи, не пускай»…
Дальше я не помню. Я стоял у парадного подъезда и звонил в колокольчик. Швейцар тотчас же вышел и впустил меня. Конечно, он был настороже и ждал. В дверях передней мелькнула фигура отца, а сверху заглянула гувернантка. Я сел на стул не раздеваясь. Мой приход домой был неожидан для меня самого, и я еще не мог решить, что я должен был делать: продолжать упрямиться и уверять, будто я пришел лишь отогреться, чтобы снова пойти к Вороному, или прямо признаться в трусости и сдаться. Я был так недоволен собой за только что пережитый момент малодушия, что уже не верил себе в роли героя и храбреца. Кроме того, не для кого было продолжать играть комедию, так как все как будто забыли обо мне.
«Тем лучше! и я забуду. Разденусь и немного погодя войду в залу».
Так я и сделал. Ни один человек не спросил меня о Вороном – должно быть, сговорились.