Империя. Книга 1
Text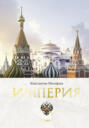


Zum Hörbuch
- Größe: 630 S.
- Kategorie: Weltgeschichte, Russische Geschichte, Geschichte, beliebt, Theologie, Religionsgeschichte
Церковь Бога Всевышнего
В эпоху расцвета III династии Ура, когда этот город был столицей Империи Шумера и Аккада, в нем родился Авраам, сын Фарры, ставший отцом всех верующих в Бога единого. В правление царя Шульги (2094–2047 гг. до Р.Х.), если следовать библейской хронологии, Фарра и Авраам, взяв с собой всех родственников и домочадцев, удалились из Ура и отправились на север в сирийский Харран – родовые земли амореев.
Языческие владыки Ура находились в этот период на пике своего могущества. Как свидетельствует Писание, Фарра и его дети тоже были язычниками: «за рекою жили отцы ваши издревле, Фарра, отец Авраама и отец Нахора, и служили иным богам. Но Я взял отца вашего Авраама из-за реки и водил его по всей земле Ханаанской» (Нав 24:2–3).
Однако даже поклоняясь «иным богам», Авраам, несомненно, обладал чутким религиозным сознанием и стремлением к истинной вере. Но то, что представало его глазам в столице, было обмирщением, забвением сакрального, профанацией религии. Царь Ура экспроприировал храмовые земли, которые таким образом из собственности божества перешли во владение человека. Сам Шульги был обожествлен и восхвалялся сверх всякой меры. Подлинное живое чувство власти, служащей воле Божией, сменилось, по словам И. Дьяконова, настоящим триумфом бюрократизма.
Тогда Авраам решил покинуть процветающую внешне, но уже обреченную на разгром амореями и эламитами, столицу Империи. Он предпочел пустыню, по пути в которую и услышал призыв Божий: «И сказал Господь Авраму: пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего (и иди) в землю, которую Я укажу тебе; и Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословение; Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну; и благословятся в тебе все племена земные» (Быт 12:1–3).
Призвание Богом верующих из столицы в пустыню не раз повторится в истории уже Христианской Империи. Особенно чуткие в духовном отношении люди, удаляясь от обмирщения и ересей в пустыню, образовали монашество – чудесный народ, обладающий великой силой и спасающий Империю словом и молитвой. Способность людей следовать Божьему призыву, как некогда Авраам, всегда была надежнейшим индикатором духовного здоровья и Церкви, и Империи.
В случае же с Авраамом такое призвание было особенно важно, поскольку через него впавшее в языческий мрак человечество возвращалось к вере в истинного Бога. Символом этого стали чудесные события, происшедшие с Авраамом после битвы в долине Сиддим. Царь Элама, господствовавший над Междуречьем после разгрома Ура, отправился вместе со своими месопотамскими вассалами в поход на взбунтовавшихся царей Содома и Гоморры и разбил их. Среди угнанных в плен оказался и родич Авраама Лот. Тогда патриарх собрал своих слуг и в ночной атаке разгромил эламитов. Когда Авраам возвратился с победой, то отверг попытку царя Содомского, символизирующего падший мир, обогатить его: «даже нитки и ремня от обуви не возьму из всего твоего, чтобы ты не сказал: я обогатил Аврама» (Быт 14:23).
Авраам принял благословение от царя Мелхиседека: «Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино – он был священник Бога Всевышнего – и благословил его, и сказал: Благословен Аврам от Бога Всевышнего, Владыки неба и земли; и благословен Бог Всевышний, Который предал врагов твоих в руки твои. Аврам дал ему десятую часть из всего» (Быт 14:18–20).
Священство Мелхиседека – это служение Богу среди мира, погружающегося в тьму языческой дикости. Потомки Ноя, предав забвению отеческие заветы, сначала утратили страх Божий, а затем впали в идолослужение, со временем приобретавшее все более мрачную окраску. Тем важнее для нас свидетельство Библии о Мелхиседеке. Молитва и служба истинному Богу не прекращалась со времен Ноя до Авраама. Всегда был Первосвященник, отправлявший эту службу, призывавший благодать Божию на хлеб и вино и благословляющий верных Богу Единому.
Призванный истинным Богом, Авраам теперь получил помазание от истинного священства. Ему было суждено стать родоначальником Народа Божия. Однако это должен был быть не обычный народ: не случайно Господь образовал для Авраама потомство в утробе неплодной старухи Сарры. И не случайно, что Авраам получил повеление принести своего первенца в жертву Богу, и лишь в последний момент Исаак был спасен от смерти рукою ангела.
Эта несостоявшаяся жертва, помимо того, что навсегда отучила Израиль от следования ханаанским человеческим жертвоприношениям, символизировала, что самой своей жизнью народ Израиля принадлежит только Богу. Чудесно спасенный Исаак становился не столько сыном Авраама, сколько сыном Бога.
Взявшийся в сущности из ниоткуда народ Израиля должен был существовать по милости и воле Господа ради выполнения возложенной на него особой миссии – слышать слово Божие и научать ему остальных.
Эта миссия требовала абсолютной жертвенности и отречения от мирских забот: мелкой похоти и великой власти. Именно поэтому Господь вывел Авраама в пустыню из столицы тогдашней Империи, где среди политической суеты голос Божий не был бы расслышан. И именно поэтому род Авраама получил чудесное, противоречащее законам биологии происхождение: чтобы из него мог произойти чудесный народ – не племя, но Церковь. Таково было призвание Израиля.
Бог заключил с Авраамом и его потомством Завет (союз). Народ Израиля своим возникновением обязан именно Завету. Весь смысл его существования – в исполнении Завета. Материальным символом Ветхого Завета стало обрезание. Духовная же суть его – безраздельная преданность единому истинному Богу, упование на Него, служение Ему. Народ, несущий бремя Завета, должен очищать окружающий мир и готовить его к принятию всей полноты истины, которую принесет Христос. У Израиля, таким образом, есть миссия. Ради ее исполнения народ Израиля должен сражаться с язычниками и оберегать себя от всякого смешения с ними.
Бог назначил уделом Аврааму и его потомству землю Ханаана, указав тем самым, что народ-богоотступник должен быть заменен народом-Церковью, народом-богоносцем. Ханаанейцы поклонявшиеся Вельзевулу, князю бесовскому, ради своего стремления к богатству и похоти, должны были исчезнуть во тьме времен, уступив землю потомкам Сима во исполнение пророчества Ноя: «Проклят Ханаан; раб рабов будет он у братьев своих» (Быт 9:25).
Борьба между Израилем, детьми Авраама, и ханаанейцами станет главным сюжетом мировой истории на все времена. Первый акт этой драмы разыграется между Израилем и Ханааном непосредственно на земле Ханаана.
Последующие будут разворачиваться в других частях света и в другие эпохи. Но суть борьбы останется та же – верные Богу против богоотступников.
Миссия Израиля
Вера в Бога Всевышнего, в Бога единственного, преданность и служение Ему – главная ценность, которую нес в себе народ Израиля, передавая ее из поколения в поколение. Особым предметом заботы была чистота веры в единого Бога, которую так трудно было сохранить в языческом окружении.
Потомки Авраама, Исаака и Иакова (названного Израилем) жили среди ханаанейцев. При Иосифе Прекрасном сыны Израиля, будучи частью коалиции «царей-пустухов» гиксосов, завоевали Египет. Столицей гиксосского Египта был город Аварис, открытый в наши дни австрийским археологом Битаком. Раскопки в Аварисе свидетельствуют, что материальная культура евреев и других гиксосов ничем не отличались друг от друга. Бытовая и обрядовая религиозность за время пребывания в Египте также могла стать общей.
Столь значительное отступление от веры предков объясняет, почему во времена Исхода народ Израиля, взбунтовавшись против Моисея, создал зримый символ Бога в виде тельца из литого золота. Такие статуи посвящались ханаанейцами Ваалу – языческому богу, изображавшемуся в образе могучего быка. Пророк Моисей уничтожил Золотого тельца, но традиция поклонения ему еще возродится позднее.
Израиль вторгся в Ханаан, имея повеление Божие полностью уничтожить проживавшие там нечестивые народы. Необходимо было создать очищенную от язычества страну, где истинная вера не подвергалась бы поруганию.
Численность цивилизованных ханаанейцев намного превосходила число сынов Израиля, представлявших собой вооруженную чем попало толпу пеших кочевников. Укрепленные города Ханаана с высокими стенами выдерживали долгие осады египтян и ассирийцев, а ханаанские вооруженные силы были оснащены колесницами и бронзовым оружием. За несколько десятилетий завоевать Ханаан и покорить ряд его сильнейших крепостей, включая древний Иерихон, – что это было, как не чудо Божие, о котором говорит Священное Писание.
Но помощь Божья оказалась довольно скоро забыта. Священное Писание говорит: «Когда Иисус [Навин] распустил народ, и пошли сыны Израилевы, каждый в свой удел, чтобы получить в наследие землю, тогда народ служил Господу… Но когда умер Иисус, сын Навин, раб Господень… и когда весь народ оный отошел к отцам своим, и восстал после них другой род, который не знал Господа и дел Его, какие Он делал Израилю, тогда сыны Израилевы стали делать злое пред очами Господа и стали служить Ваалам; оставили Господа Бога отцов своих, Который вывел их из земли Египетской, и обратились к другим богам, богам народов, окружавших их, и стали поклоняться им, и раздражили Господа; оставили Господа и стали служить Ваалу и Астартам» (Суд 2:6–13).
Израилю удалось изгнать значительную часть ханаанейцев из Святой Земли – те вынуждены были в большом количестве сосредоточиться на узкой полосе финикийского побережья, что лишь усугубило их нечестивые дела. «В Финикии, по-видимому, сконцентрировалось довольно значительное население, что, в свою очередь, не могло не создать в стране демографическое напряжение. Может быть, как некоторый ответ на такую ситуацию стало распространение жертвоприношения mlk (молк)»[30], – предполагает Ю. Циркин. «Молк» или «Молох» называлось массовое жертвоприношение детей Ваалу.
Однако некоторые группы ханаанейцев после покорения евреями никуда не ушли, а затем были ассимилированы завоевателями. На севере Святой Земли, там, где евреи находились в постоянном контакте с ханаанейцами, возникла, пользуясь терминологией Л. Гумилева, «этническая химера», то есть «форма контакта несовместимых этносов разных суперэтнических систем, при которой исчезает их своеобразие»[31].
Матери-ханаанеянки, передавая своим детям суеверия Ваала и Астарты, вносили языческие черты в представление об истинном Боге. Именно в этой контактной зоне вырос впоследствии сепаратизм северного царства, склонившегося к обычаям Ханаана. Напротив, на юге, в Иудее, где контакт с Ханааном был ограничен, монотеизм соблюдался намного более строго.
Положение дел осложнялось тем, что судьи (в Библии так называются духовные вожди Израиля в доцарский период) постепенно теряли свой авторитет в глазах евреев. Их слово, через которое передавалась воля Божья, не являлось непреложным законом.
При судье Самуиле народ Израиля попросил себе у Бога такого же царя, какие были у соседних народов. Это было вызвано прежде всего вторжением филистимлян – одного из «народов моря», прошедших штормовой волной по всему Восточному Средиземноморью. Вторжение столь сильного врага сплачивало евреев и ханаанейцев, заставляло забывать вражду и подталкивало к объединению против пришельцев под единой властью, невзирая на религиозные различия.
Первый царь Саул не смог вынести тяжести своей миссии и после поражения от филистимлян покончил с собой. Бог дал Израилю праведного царя Давида, автора самых искренних молитв в истории Церкви – псалмов. Его истинное царское служение состояло в том, чтобы быть ведомым свыше и, принимая знание верного пути, вести по нему народ.
Господь сподобил царя Давида завоевать Иерусалим, древний Салим, царем которого был некогда первосвященник Мелхиседек. Так священники Церкви Ветхого Израиля вошли в город священника, благословившего Авраама. Давид исполнил свое царское служение с Божией помощью и передал царство сыну Соломону.
Изречения этого мудрого царя собраны в двух книгах Ветхого Завета: Притчей Соломоновых и Премудростей Соломона. Его правление как время наивысшего расцвета и территориального расширения государства до сих пор прославляется наивными певцами земного могущества Израиля. Но даже тогда возможности еврейского царства не шли ни в какое сравнение с силой и влиянием Ассирийской Империи, Египта или могущественной державы хеттов.

Ради экономической выгоды своего государства Соломон вступил в союз с ханаанским городом Тиром и его царем Хирамом I. По Красному морю снаряжались совместные израильско-ханаанские экспедиции в дальнюю страну Офир. Израиль не только использовал экономические ресурсы Ханаана, но и заимствовал его способы хозяйствования и ведения дел. Ханаан, главный враг Израиля, стал союзником Соломона. Союз Израиля с Богом, заключенный во времена Моисея, уступил место союзу с богоотступниками.
А вслед за этим последовало и религиозное отступничество. Торгуя с язычниками, заключая с ними союзы и принимая в свой гарем иноплеменниц, Соломон стал строить для них капища. Чтобы угодить торговым партнерам и многочисленным женам, происходившим из языческой среды, Соломон и сам впал в идолослужение. Рядом с Храмом Единого Бога в столице Израиля прославлялись теперь в особых святилищах старые божества Ханаана – Кемош, Молох и, конечно, Астарта. «Сердце его, не было вполне предано Господу Богу своему, как сердце Давида, отца его» (3 Цар 11:4).
Построенный Соломоном на горе Сион Иерусалимский Храм сооружался ханаанскими мастерами из ханаанских материалов. И сама столица еврейского государства стала теперь слепком с ханаанских городов – ее окружила мощная стена, украшенная впечатляющими воротами.
Тамплиеры и масоны, начиная со Средневековья и вплоть до наших времен, возводили начало своих организаций к строительству Иерусалимского Храма. Это был триумф Ханаана: Ковчег Завета Божия помещался в дом, построенный ханаанскими мастерами, служителями Ваала. Пророк Иеремия, через которого говорил сам Господь, призывал народ Израиля не обольщаться таким храмом: «Не надейтесь на обманчивые слова: «Здесь Храм Господень, Храм Господень, Храм Господень!» (Иер 7:4).
Почти сразу после смерти Соломона единое Израильское царство раскалывается на северный Израиль и южную Иудею. Ханаан подчинил своему влиянию северное «царство-химеру». Хотя можно посмотреть на дело и иначе: Господь промыслительно отделил Иудею, способную еще хранить чистоту веры, от ее северных соплеменников, обращение которых к делам Ханаана уже было практически невозможно остановить.
Царь Северной Израильской державы Амврий (IX в. до Р.Х.) перенес свою резиденцию в основанный им город Самарию, получившую столичный статус, и начал интенсивную интеграцию Израиля в ханаанское сообщество. Он женил своего сына Ахава на Иезавели, дочери сидонского царя. Под покровительством Иезавели культ Ваала становится фактически государственным, а на защитников почитания Бога Единого воздвигаются жестокие гонения.

Повсеместное распространение в Израильском царстве идолопоклоннического культа Ваала вызвало активизацию борьбы против ханаанского нечестия, которую начал пророк Илия и продолжили его правоверные соплеменники (3 Цар 18:21; Ос 2:13–17).
Говорил пророк Амос слово Божие: «Ненавижу, отвергаю праздники ваши и не обоняю жертв во время торжественных собраний ваших. Если вознесете Мне всесожжение и хлебное приношение, Я не приму их и не призрю на благодарственную жертву из тучных тельцов ваших. Удали от Меня шум песней твоих, ибо звук гуслей твоих Я не буду слушать. Пусть, как вода, течет суд и правда – как сильный поток! Приносили ли вы Мне жертвы и хлебные дары в пустыне в течение сорока лет, дом Израилев? Вы носили скинию Молохову и звезду бога вашего Ремфана, изображения, которые вы сделали для себя» (Ам 6:21–26).
Четыре столетия (VIII–V века до Р.Х.) длилась эпоха пророков-писателей. Они защищали единобожие и чистоту Откровения, призывая народ к нравственному пробуждению и установлению личной связи с Богом. На место ритуалистического восприятия религии у них приходит мессиански-эсхатологическое устремление к Царству Божию, грядущему в конце веков. Богослов М. Тареев подчеркивал, что «беспримерно высокий и чистый еврейский монотеизм есть преимущественно результат пророческой проповеди»[32].
Служение пророков имеет вселенское значение для истории человечества. Они защищали то, что было даровано народу Израиля при Аврааме. Они вели народ к чистоте веры, которую свято хранила Ветхозаветная Церковь и которая заключалась в устремлении всего человеческого существа к единому Богу.
Также пророки через слово Божие стремились изменить внешнюю политику государства, пытаясь отвратить царей Израиля от борьбы с Месопотамской Империей, в первую очередь Ассирией, и убедить их в необходимости мирного сосуществования с ней, в то же время объясняя неизбежность противостояния Ханаану. Они были уверены, что земная Империя и небесный народ обречены на общее противостояние служителям лукавого.
Пророки наставляли Израиль, но Израиль не слушался их.
Глава II. Империя персов и эллинов
Империя Ахеменидов
Идея «перехода царственности» существовала задолго до появления первых имперских государств в Месопотамии. В VI веке до Р.Х. через пророка Даниила царю Навуходоносору было явлено откровение о переходе имперской короны от одной господствующей империи к другой.
Книга пророка Даниила повествует о том, что однажды вавилонскому монарху приснился странный сон. Он увидел огромную статую, голова которой была сделана из золота, руки и грудь – из серебра, чрево и бедра – из меди, голени – из железа, а ступни – частично из железа, частично из глины. Сошедший с горы без усилий человеческих рук камень разбил эту статую, перемешав золото, серебро, медь, железо и глину; сам же камень сделался великой горой и наполнил землю. Никто из халдейских мудрецов и знатоков тайн не смог разгадать этот сон, и тогда царь обратился к иудейскому юноше Даниилу, который сумел растолковать пророческое сновидение, объяснив, что оно говорит о нынешнем и грядущем царствах, которые будут сменять друг друга до самой кончины мира.
Очень рано установилось вполне определенное истолкование образов четырех эпох из пророчества библейской книги. Золотая голова – царство Ассиро-Вавилонское, серебряная грудь и две руки – царство мидян и персов, медное чрево и бедра – царство Македонское, железные голени – царство Римское, которое будет крепче остальных, хотя к концу своему разделится и смешается с глиной и будет местами сильно, местами же слабо. И, наконец, «камень нерукосечныя горы» – явление вечного Царства Христова, которое христиане ждут со Вторым пришествием Спасителя. Вся мировая история оказывалась, таким образом, охваченной рамками единого политического процесса.
В этой библейской идее нет ничего от популярных у античных философов теорий упадка – от золотого века к железному. Напротив, как подчеркивает толкователь Писания блаженный Феодорит Кирский, пророк «применяет… к царствам различные вещества, означая различье не в чести, но в силе; потому что серебро связнее золота, медь тверже серебра, а железо в большей мере плотнее и самой меди. Поэтому разность не в чести, но в крепости и силе»[33]. Империя с ходом тысячелетий становилась сильнее и сплоченней, а не слабее. Каждое из четырех царств, четырех этапов в истории Империи, внесли что-то свое в сокровищницу ее исторического опыта.
Еврейский историк Иосиф Флавий передавал легенду о том, что Александр Македонский, познакомившись с книгой пророка Даниила, признал в себе одного из ее действующих лиц, после чего совершил жертвоприношение Богу, даровавшему через Даниила столь великое пророчество. Но в данном случае важен не этот единичный сюжет, а то, что Древний мир с определенного момента начал мыслить историю как чередование неизбежных приливов и отливов имперского начала. Единая вечная Империя проживает множество актов грандиозной драмы, сменяя одеяния одной государственности на одеяния другой. В Средние века заговорят о «Втором Риме» и «Третьем Риме», но за этими наименованиями будет стоять все та же реальность – передача имперской миссии, словно эстафетной палочки, от одних держателей другим.
Нововавилонское царство было в этой череде «отливом», поскольку представляло собой Империю ослабленную, погрязшую в ростовщичестве и праздной роскоши. Ему на смену вскоре пришло Персидское царство, ознаменовавшее взлет имперского государственного строительства.
Персы происходили от древних ариев, когда-то обитавших в Средней Азии и у подножия Уральских гор, где археологи обнаружили их города, в частности знаменитый Аркаим. Одомашнив лошадь и научившись изготовлять быстрые повозки-колесницы с облегченными колесами, содержащими спицы, арии во II тыс. до Р.Х. двинулись на юг, и часть из них заселила гористый Иран (др. – иран. airyanam – «[страна] ариев»). Заратуштра ввел у персов религию, центральной идеей которой была вековечная борьба добра, олицетворяемого богом света и огня Ахурамаздой, со злом, воплощенным в боге тьмы Аримане. Это мировоззрение культивировало в персах высокую порядочность, неприятие лжи и дисциплину.

КИР ВЕЛИКИЙ
(559–530 гг. до Р.Х.)
Основателем Персидской Империи был Кир Великий (559–530 гг. до Р.Х.) – неутомимый завоеватель, проживший поистине огненную жизнь. Его делом стало восстановление Ассирийской Империи в новом облике. Кир поднял восстание против мидийских царей, разорителей столицы Империи – Ниневии. Мидяне вместе с вавилонскими халдеями свергли законных царей Ассирии, но имперскую корону унаследовали вавилоняне, поэтому мидийские цари для подданных тысячелетней Ассирийской Империи выглядели узурпаторами. Восстанавливая былое величие Ассирии, Кир двинулся на север, в Малую Азию. Там он разбил союзника греков царя Креза и подчинил себе его богатейшее государство, а также овладел греческими городами на Эгейском побережье.
Кир выступил восстановителем бывшей Ассирийской Империи. Подчинив Мидию, он пошел на древнюю имперскую столицу Вавилон. 29 октября 539 года, по сообщению вавилонской хроники, «Кир вступил в Вавилон. Улицы перед ним были устланы ветвями. Мир в городе был установлен. Кир объявил мир всему Вавилону»[34]. По пророчеству пророка Даниила, вавилонский царевич Валтасар погиб, защищая город, а его отец, последний царь Вавилона Набонид, был помилован Киром и отправлен в ссылку.
Империя была восстановлена. Кир Великий принял древний титул Ветхой Империи, присоединив его к мидийскому «царю царей». Полный титул нового императора звучал так: «Я – Кир, царь множеств, царь великий, царь могучий, царь Вавилона, царь Шумера и Аккада, царь четырех сторон света». Позднее один из его преемников – царь Ксеркс – в отношениях с греками станет именовать себя владыкой всех народов от восходящего солнца до заходящего. Империя Кира включала в себя Элам, Лидию, Малую Азию, Среднюю Азию, Египет, Вавилонию и часть Балканского полуострова. Ею была перевернута последняя станица в истории Нововавилонского царства.
Но разгромив Вавилонию, Кир не стал разрушать ее. Напротив, он широко использовал административно-политический опыт предыдущих держав Месопотамии. Историк М. Дандамаев показал, сколь глубок уровень этого заимствования: «В сжатые периоды приходилось создавать новую административную систему для управления огромной империей, в состав которой входило более 80 народов. Для этого ахеменидским государственным деятелям, очевидно, пришлось обратиться к опыту ассирийцев, на достижения которых теперь смотрели с нескрываемым восхищением как на деяния славного прошлого. Мы можем предполагать, что после падения Ассирии ее административные традиции не были полностью утеряны. Как известно, начиная с VIII века до Р.Х. в западных областях Ассирийской империи арамейский, наряду с аккадским или часто взамен него, стал языком дипломатии и администрации… Когда персы завоевали Месопотамию, они легко могли использовать этих арамейских писцов для создания новой административной системы, которая теперь по всей империи была основана на арамейской канцелярии. Высказывалось также мнение, что традиционная ассирийская почтовая служба для управления провинциями позднее была использована ахеменидской администрацией»[35].
Ассирийские традиции широко использовались также в период формирования ахеменидской имперской идеологии. Тот же М. Дандамаев отмечает: «Как в Ассирии подчеркивалась личная связь царя с богом Ашшуром, так и при Ахеменидах связь правителя с богом Ахура-Маздой стала важной идеологической концепцией. Да и само изображение Ахура-Мазды в крылатом диске восходило к изображению крылатого бога Ашшура»[36].
Однако персы были не просто учениками ассирийцев: они также имели способность к самостоятельному политическому творчеству. Завоевания Кира и его сына Камбиза привели к созданию огромной Евразийской Империи.
И, как обычно, сильная царская власть вызвала недовольство олигархов. Когда в 522 году до Р.Х. Камбиз находился в далеком походе на юге Египта, вавилонская знать устроила восстание. Его возглавил самозванец Гаумата, объявивший себя царским братом. Возвращаясь из Египта, Камбиз скончался при весьма загадочных обстоятельствах, но Гаумата также был убит группой персидских аристократов.

По рассказу Геродота, после ликвидации самозванца между знатнейшими персами состоялась дискуссия о лучшей форме государственного устройства. Отан защищал демократию, Мегабиз – аристократию, а Дарий – монархию. «Нет, кажется, ничего прекраснее правления одного наилучшего властелина. Он безупречно управляет народом, исходя из наилучших побуждений, и при такой власти лучше всего могут сохраняться в тайне решения, направленные против врагов. Напротив, в олигархии, если даже немногие и стараются приносить пользу обществу, то обычно между отдельными людьми возникают ожесточенные распри… От кровопролитий же дело доходит до единовластия, из чего совершенно ясно, что этот последний образ правления – наилучший»[37].
Победила именно точка зрения Дария – укрепление богоустановленной монархии, а сам он получил царское достоинство, восстановив Империю, раздираемую мятежами. «Я – Дарий, царь великий, царь царей, царь Персии, царь стран, сын Виштаспы, внук Аршамы, Ахеменид… милостью Ахура-Мазды я царь. Ахура-Мазда дал мне царство… вот страны, которые достались мне, по милости Ахура-Мазды, над ними я стал царем: Персия, Элам, Вавилония, Ассирия, Аравия, Египет, (страны), которые у моря, Лидия, Иония, Мидия, Армения, Каппадокия, Парфия, Дрангиана, Арейя, Хорезм, Бактрия, Согдиана, Гандхара, Страна саков, Саттагидия, Арахосия, Мака – всего 23 страны»[38] (пер. Дандамаева М. А.), – гласит Бехистунская надпись, в которой Дарий рассказывал о победе над мятежниками.

ДАРИЙ I
(522–486 гг. до Р.Х.)
Если завоеватель Кир создал Империю мечом, то устроитель Дарий связал ее дорогами и подчинил единому порядку. Дарий I спаял народы Империи удобством жизни под одной крышей и едиными правилами, касающимися отношений с центром. Он показал всем подданным, что Империя – самое благоустроенное и безопасное государство. Востоковед В. Авдиев подчеркивал высокую значимость этой стороны правления Дария I: «Царь разделил все Персидское государство на ряд областей (сатрапий), наложил на каждую область определенную дань, которая должна была регулярно вноситься в царскую казну, и провел денежную реформу, установив единую для всего государства золотую монету (дарик – 8,416 грамма золота). Затем Дарий начал широкое дорожное строительство, соединив большими дорогами важнейшие экономические, административные и культурные центры страны, организовал особую службу связи, наконец, полностью реорганизовал армию и военное дело»[39].
Персия впервые в истории осуществила принцип четкого разграничения функций между центром и провинциальными властями, что взяли на вооружение все последующие имперские государства. Прежние области независимых народов, царств и княжеств превратились в единообразно устроенные сатрапии. В государственных канцеляриях повсюду перешли к использованию арамейского языка и алфавитного письма. Чиновничий аппарат был существенно увеличен и упорядочен.
Войско подчинялось непосредственно центру, то есть царю, а не сатрапам. Ему же подчинялась и особая служба тайной полиции, «глаза и уши царя». Золотой дарик изготавливался только в метрополии, под контролем царя. Сатрапам же и прочим управленцам периферии было разрешено чеканить лишь серебряную монету.
В своей провинции сатрап имел полномочия высшего гражданского администратора и верховного судьи. Если сатрапия не бунтовала, исправно платила налоги и вовремя поставляла войска в случае войны, центральная власть практически не вмешивалась в ее внутренние дела, прежде всего в те, что касались культуры, быта и религии.
Центральное управление в державе Ахеменидов полностью контролировалось персами, на должности сатрапов также назначались только они. Тем не менее в провинциальной административной иерархии представители местных народов могли занимать довольно высокое положение. Законы в Персидском государстве были приведены к единообразию, как и судебная система.
Воплощением унификации и своеобразного единства различных художественных традиций в державе Ахеменидов стал новый имперский стиль, родившийся в царской столице Персеполисе. Этот дворцовый стиль распространился исключительно широко – от Индии до Восточного Средиземноморья.
Таким образом, Ахемениды вывели имперское строительство на принципиально новый уровень по сравнению с предшествовавшими им Ассирийской и Вавилонской Империями. По замечанию современного специалиста С. Воробьева, они «создали государство, ориентированное на долгосрочное сосуществование и интеграцию входящих в его состав территорий»[40].
В созидательной деятельности Ахеменидов ясно прослеживается высоконравственный подход к власти. Лучшие государи этой династии относились к власти не только как к праву на господство и извлечение доходов, но и как к бремени, налагающему на монарха огромную ответственность. Огромная власть центра в Империи оправдана только до тех пор, пока он является источником справедливости и добра для периферии.
Элита Персидской Империи была сплочена деятельной верой в добро, активным неприятием зла и глубокой убежденностью в своем призвании к жертвенному служению, которая так восхитила русского философа К. Леонтьева: «Я помню, как я сам, прочтя случайно… о том, как во время бури персидские вельможи бросались сами в море, чтобы облегчить корабль и спасти Ксеркса, как они поочередно подходили к царю и склонялись перед ним, прежде чем кинуться за борт… задумался и сказал себе в первый раз (а сколько раз приходилось с детства и до зрелого возраста вспоминать о классической греко-персидской борьбе!): „Герцен справедливо зовет это персидскими Фермопилами. Это страшнее и гораздо величавее Фермопил! Это доказывает силу идеи, силу убеждения большую, чем у самих сподвижников Леонида; ибо гораздо легче положить свою голову в пылу битвы, чем обдуманно и холодно, без всякого принуждения, решаться на самоубийство из-за религиозно-государственной идеи!”»[41].
