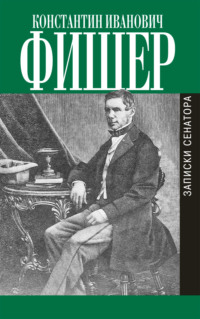Buch lesen: "Записки сенатора"
Глава I
Мое детство – Отец и мать – Наши предки – Смерть отца – Стесненное положение матери – Графиня Мусина-Пушкина – Графиня Каменская – Уварова – Кончина матери – Мое отрочество – В гимназии – Тогдашние преподаватели – Гонение философии – Плисов – Экзамен и его последствия – Моя родня – Шуберт
Екатерина Великая начала свои записки положением, что жизнь человека зависит от него самого, и то, что называют счастьем, есть последствие собственных наших действий. Я прибавил бы к этому, что наши собственные действия зависят от обстановки нашего младенчества и отрочества; какова была эта обстановка – это уже дело счастья.
С тех пор, что я себя помню, отец мой, образованный, умный, благородный, но в высшей степени бесхарактерный человек, никуда не выезжал, виделся с весьма малым числом своих прежних приятелей, много хлопотал о разных незначительных бедных людях, его клиентах, но говорил о людях знатных и о дворе – как о предметах, близко ему известных, – без того обаяния, которое в тогдашнее время внушали толпе особы высокого рода или высокого звания.
Моя мать – женщина необыкновенно твердого характера, незнакомая лично с великосветскою жизнью, но с большим духовным образованием, сосредоточивалась на обязанностях матери семейства.
В то время (1805–1818) не было еще в моде разглагольствование идей либеральных. «Эмиль» Ж. Ж. Руссо читался с восторгом легкомысленными великосветскими дамами, а в кружках практического среднего сословия считался бреднями старого холостяка. Естественно было, что мы, дети, воспитывались не так, как нынешние, не были с родителями на «ты», не учились азбуке и географии по картинкам и не гуляли с голыми икрами. Мать одевала нас тепло, кормила просто, что, впрочем, и не могло быть иначе, и поила бузинным чаем, когда мы простужались.
Духовное воспитание наше заключалось в подчинении порядку, долгу и в особенности смирении перед старшими.
Находясь в стесненном положении, видя, что детям ее суждено жить без покровителей, мать старалась вкоренить в нас такие свойства, которые, по ее убеждению, могли помочь нам в честной борьбе с житейскими нуждами. Я не понимал тогда смысла нашего воспитания; видел только уважение к знатным, питаемое гордою нашею матерью, и приучался признавать всех знатных за людей такого ума, перед которым наш скромный ум должен был безмолвствовать. Отец говорил иначе о великих мира сего, но мы верили в слова матери, как в Евангелие, а рассуждения отца пропускали мимо ушей и, следовательно, невесело смотрели на положение, в котором суждено было жить нам.
Часто я был свидетелем рыданий матери перед взбешенным отцом, рыданий, которые мгновенно были задушаемы при появлении постороннего, и хотя объяснял это себе в то время виновностью матери моей (иначе она жаловалась бы, думал я), но все-таки мне было жаль ее и досадно на отца; впоследствии, уже в отрочестве, узнал я, что сцены происходили от ревности; отец мой ревнив был до сумасбродства, и добродетельнейшая мать моя была страдалицей; узнав это, я с нетерпением ждал счастья быть опорою матери и ее утешением в старости. Грустно вспомнить, как неудовлетворительно выполнил я эту благородную цель отрока.
Родители моей матери, постоянно боровшиеся с бедностью, но жившие как Филемон и Бавкида, смотрели также с благоговением на знать и богатство и в своем простодушии считали богатым всякого, кто не так беден, как они сами. Я неверно выражаюсь, говоря, что они боролись с бедностью; они вовсе не боролись: жили очень, очень скромно, однако ж аккуратно приберегали копеечку, то есть из 1000–1500 рублей дохода бабушка откладывала рублей 100–300.
Но и у этих стариков было свое горе. Обе их дочери, моя мать и тетка, овдовели, без средств содержать малолетних детей; из троих сыновей – двое были в армии еще до кампании 1811-го и 1812 года; младшего определил отец мой в свою канцелярию, и когда он через полгода получил чин 14-го класса, перешел тотчас в военную службу, в кирасирский полк корнетом, 16 лет от роду.
Старший сын, уже в капитанском чине, изволил самовольно отлучиться от полка и остаться за границею. Разумеется, русскому армейскому офицеру не велико было поприще в образованной и трудолюбивой Германии; скоро голод погнал его опять в Россию, но там ожидал его расстрел. Отец мой, прервавший уже все прежние свои связи, бросился, однако, к военному министру, его прежнему приятелю (кажется, Вязмитинову), и тот сумел в добрую минуту рассказать государю случай так комически, что государь рассмеялся и разрешил принять дезертира унтер-офицером в Грузию.
Через год такую же шутку учинил и второй сын. Каким образом отец мой уладил и это дело – не знаю, но знаю, что явился к нам дядя Август, которого нам приказано было называть дядей Карлом, что этот дядя определен был в армию как недоросль Карл. Сколько было слез и отчаяния в семействе, пока оба эти случая не уладились, и все это западало безотчетно во впечатлительное младенческое сердце мое!
Младший сын пошел лучше: через год за отличную верховую езду он был переведен тем же чином в гвардию; через полгода перешел опять в армию поручиком, потому что не мог содержать себя в гвардии, но при первом смотре великого князя Константина Павловича (кажется, менее чем через год) опять переведен в гвардию тем же чином. Родители его сжались еще более, чтобы доставить удавшемуся сыну способы остаться в гвардии и быть масоном, что в то время составляло почти необходимую принадлежность гвардейского офицера.
Тогда быть офицером гвардии стоило и дороже и дешевле; дороже потому, что были предрассудки: нельзя было ни ездить на извозчике, ни идти пешком по делу, бывало, шутили много над дядей, что он, отправляясь на службу пешком, шел самым небрежным шагом и останавливался перед окнами магазинов, чтобы иметь вид прогуливающегося; дешевле потому, что не было подписок на разные фантазии, как это делается теперь, и что полковые командиры не барышничали лошадьми, а, напротив, помогали офицерам; так, Чичерин, командовавший лейб-уланами, где служил дядя, узнав, что ему не на что купить хорошую лошадь, просил его «сделать ему одолжение» купить у него верховую лошадь за 200 рублей ассигнациями, потому будто, что она не чисто рыжей масти, и продал ему превосходную лошадь за эту баснословно малую цену.
Когда я начал понимать, что вокруг меня происходило, родители мои приходили уже в стесненное положение. Когда детей было двое, два мальчика, и даже при рождении первой девочки, ездили мы в карете; отец держал трех лошадей, к нему приходил парикмахер завивать и пудрить его; лакей наш ходил в гербовой ливрее; живописец писал с нас, мальчиков, портреты. Помню живо картину, висевшую над диваном, изображавшую брата и меня в натуральную величину, в красных куртках, гоняющимися в саду за голубем. Куда девалась эта картина? Потом продали карету и одну лошадь, однако же отец продолжал щеголять пристяжною лошадью и, по тогдашней моде, сам держал вожжу; лакея стали одевать в серое ливрейное платье, наконец не стало вовсе экипажа, и слугу одевали уже в обноски отца моего; между тем брата, а потом и меня, семилетнего мальчика, отдали в пансион, из которого только по праздникам приходили мы домой; бедность проникла во все поры.
Мы, дети, не понимали причины лишений, но плакали то о карете, то о лошади. Дома становилось мрачнее; прежде бывали посетители почетнее, между ними самые короткие – Ланской и графиня Мусина-Пушкина, крестившие старшего брата моего; потом – состоявший некогда при фельдмаршале Суворове Фукс, мой крестный отец, Капцевич, глупый генерал, Тургенев, Горголи, потом и их не стало; одна графиня Пушкина осталась верным другом нашего дома, да приходил поздравлять с праздником толстейший квартальный надзиратель Галямин с молоденьким, хорошеньким сыном.
Странные совершаются в России сословные метаморфозы: был банковый сторож, отставной солдат, покровительствуемый моим отцом; отец мой вывел как-то сына этого сторожа в квартальные надзиратели, а когда у этого квартального надзирателя подрос сынок, очень бойкий мальчик, определил юношу в институт путей сообщения. Лет 16-ти этот мальчик, при содействии моего отца, переведен в колонновожатые, а в 1822 году он был блестящим полковником генерального штаба, любимцем князя Волконского и великосветским человеком: это был Галямин. Его замешали в историю 14 декабря, и с тех пор звезда его закатилась.
В 1816 году отдали меня в гимназию 10 лет от роду, где мне очень не понравилось.
Мало-помалу доходили до меня сведения, что и наш род был некогда в хорошем положении. Род мой по отцу принадлежит к вюртембергскому дворянству (происхождения которого я не знаю), но, думаю, не к коренному, судя по родовому имени, означающему «ремесло»; однако во время французского регентства Фишеры имели уже герб: щит, в верхней половине которого – дуб в серебряном поле, а в нижней – золотая рыба в синем поле. Во время регентства Фишер был генералом корпуса его имени, им сформированного, с которым он вторгся в пределы Франции, был взят в плен и расстрелян. Брат его, мой прапрадед, был Staatsrath и Ober-Baudirector (статский советник и обер-директор над строениями); старший сын его – шталмейстер при вюртембергском дворе, а младший мой прадед – Regierungsrath (советник правления).
У него было два сына: Конрад, мой дед, и другой, которого имени не знаю. Дед мой должен был наследовать после богатого бездетного дяди, но для этого принуждали его быть военным, а он ходил слушать химические лекции; старик-дядя требовал, чтобы племянник оставил эти, по тогдашним понятиям, неприличные дворянину занятия и, не успев в этом, отнял у племянника средства существования. Тогда дед мой занял место профессора химии, что рассорило его окончательно с дядей. Имя химика Фишера получило известность; граф Мусин-Пушкин, президент Берг-коллегии, большой любитель химии, познакомился и подружился с ним в Штутгарте или в Тюбингене, не знаю, и, воротясь в Россию, пригласил его именем императрицы на русскую службу. Так род мой попал в Россию.
В Петербурге дед мой и жена его, урожденная баронесса Муфль, сделались жертвою науки: бабка моя выпила какой-то химический препарат, стоявший в стакане на столе у мужа, приняв за воду, а дед задохся в лаборатории при взрыве газа. Дед мой, по словам отца, учил Мелиссино и был изобретателем зеленого огня, который назывался в России мелиссическим огнем, потому что Мелиссино присвоил себе изобретение моего деда.
Отец мой остался сиротой четырех лет от роду. Граф Пушкин взял его к себе и воспитывал вместе со своим сыном. В 1783 году отец мой определен в службу «трех коллегий переводчиком», 17-ти лет; в 1790 году поступил секретарем к генерал-губернатору Архарову, а в 1793 году взял его к себе генерал-фельдцейхмейстер, князь Зубов, «секретарем от артиллерии, с чином капитана».
Надобно полагать, что отец мой был тогда не без состояния, потому что свита князя Зубова жила очень широко, а отец мой был и по природе порядочный мот. Щегольство и страсть тратить деньги на пустяки сохранились за ним, когда он был уже постоянно болен и когда каждая гривна нужна была для пропитания семейства. Но, впрочем, какая же была тогда и дешевизна: я видел еще дом трехэтажный, в три окна по фасаду, по Кадетской линии, вошедший в состав главного здания первого кадетского корпуса при его перестройке; в этом доме при Екатерине занимал отец мой бельэтаж в три комнаты и платил четыре рубля в месяц с отоплением.
Другие порядки были и в службе. Зубов нашел, что так как отец мой при нем, то имеет право быть капитаном от артиллерии и носить артиллерийский военный мундир. Так отец мой попал в военные и чуть ли не командовал батареей, которая, впрочем, состояла, кажется, из пушки без лошадей, а может быть, и без канониров.
Император Павел, вступив на престол, вывел на смотр все списочные батареи. Набрали под орудия батареи, наскоро импровизированной, городских лошадей; отец мой сел на лошадь, так же мало знавшую службу, как и он сам, и все потянулись на смотр. По первому выстрелу капитан и передки бросились полным карьером с поля, и к счастью – последствием была не Сибирь, а крепость. Многие сидели в крепости с отцом моим, высидели и опять стали служить, а отец вышел в отставку, опять с чином титулярного советника; с тех пор не было ни одной светлой минуты в его жизни. Нужда заставила его принять место исправника в каком-то уезде Западного края; там он обольстил какую-то хорошенькую польку, на которой должен был жениться. Овдовев, он женился на моей матери в 1802 году, имея не более 36 лет от роду, но уже изношенный, удрученный и убитый переворотом в карьере.
Приехав в 1803 году в Петербург, он с трудом добился места секретаря в комитете правления Академии наук. В этом скромном звании он оставался до самой смерти в 1818 году, но был трактуем академиками как товарищ и друг.
Впрочем, эти друзья были незавидны для семейного быта. Кроме Фуса, Шуберта и других немцев, все были пьяницы и отъявленные кутилы. Они съезжались иногда у отца, но компания была, вероятно, не очень назидательна, потому что матушка отправляла детей к бабушке всякий раз, что у отца был вечер. По окончании пира отец рассылал «великих мужей» в своей карете по домам, как театральная дирекция отсылает домой артистов.
Я помню один случай: отправили вместе Севастьянова, Озерецковского (математика) и Севергина (минералога); на другое утро присылает жена Севергина узнать, куда девали ее мужа, не явившегося домой; кучер уверял, что он всех развез; другие сопутешественники тоже ничего о нем не знали; дело приняло оборот серьезный. Около полудня кучер стал выдвигать карету из сарая, чтобы мыть ее, и заметил, что она тяжелее обыкновенного; заглянул внутрь и узрел великого мужа, спящего под сиденьем безмятежным сном пьяного!
Дворянский род матери моей обеднел еще прежде рода отца моего. Из рассказов деда (отца матери) знаю я, что отец его, мой прадед, Паппенгут, был представителем одной отрасли дворянского ганноверского рода Pappenguth-Pappenheim, и уже в бедности; дед мой был лейб-медиком курляндского герцога, имел огромную практику, жил весело, вел большую игру, выигрывал или проигрывал груды червонцев, к отчаянию своей добродетельной и благоразумной супруги-красавицы.
Когда герцогство Курляндское было упразднено и Паппенгут дошел до отчаянного положения, в котором он покушался даже на жизнь свою, верная жена успокоила его и показала ему сотни три или четыре червонцев в то время, когда в течение нескольких месяцев был в доме едва кусок хлеба. По уговору, каждый раз, когда муж выигрывал, он отдавал жене сколько-то процентов на ее карманные расходы, а она вшивала эти червонцы в ватный капот с намерением не трогать их до той минуты, когда придется выбирать одно из двух: распороть себе горло или распороть капот; когда муж ее решился было на первое, она приступила к последнему.
Дед мой расплатился с кредиторами, отправился в Петербург, определился в морской госпиталь медиком и поселился в одном из тех деревянных домиков, в которых на Выборгской стороне тогда патриархально жили врачи – благодаря хозяйственному устройству этих скромных жилищ. Бабушка устроила понемногу из огорода кое-какой сад; двор был просторный, принадлежал одному жильцу и давал ему средство держать свою корову, своих кур и гусей и прокармливать семейство здоровее и честнее, чем в нынешних казарменных каменных палатах, где казенные деньги и казенные нравы перепутываются с благоприобретенным достоянием и с живою теплотою семейного быта, – не в пользу последнего, разумеется.
До кончины отца моего были уже пристроены: старший брат мой – во втором кадетском корпусе, я – в гимназии, пенсионером Академии наук. По смерти отца матушка осталась еще, кроме нас двоих, с пятерыми непристроенными детьми – двумя мальчиками и тремя девочками, в возрасте от 9 до 3 лет. Похоронив мужа и расплатившись с долгами, она осталась при 30 рублях. Пенсионного устава еще не было. Президент Академии наук, Уваров, назначил вдове шестинедельный срок для очищения казенной квартиры, прибавив свою любимую фразу: «Ни 24 часа долее» – и приказав немедленно прекратить отпуск казенного топлива, а это было в январе. Уваров, grand seigneur, большой вельможа, особенное имел внимание к дровам.
Много лет позже Пушкин написал стихи по случаю тяжкой болезни графа Шереметева, которого ближайшею наследницею считалась тогда жена Уварова; в этом послании к Лукуллу (Шереметеву) знаменитый поэт описывал радость наследника при известии, что граф безнадежен, и обеты, даваемые им при этом случае, между которыми:
Жену обкрадывать забуду,
И воровать уже не буду
Казенные дрова.
Рассказывали, будто Уваров жаловался на Пушкина графу Бенкендорфу, шефу жандармов, будто граф позвал Пушкина и выговаривал ему за пасквиль на Уварова и будто Пушкин отвечал: «Этот пасквиль написан не на Уварова, а на вас». – «На меня?! Не может быть; там нет ничего похожего на меня!» – «Чем же я виноват, что граф Уваров нашел сам сходство с собою в герое моего пасквиля». Se non è vero, è ben trovato! – Если неправда, все равно хорошо сказано!
Срок, данный Уваровым на выезд из квартиры, истекал в феврале, среди зимнего холода, а у моей трехлетней сестры была корь. Матушке предлагали исходатайствовать отсрочку, но она, непреклонно гордого характера и полная веры в Божий промысел, решилась очистить квартиру в срок – и вышла из нее, как Эней из стен разрушенной Трои. Купила лубочные салазочки, в каких развозили тогда охтянки молоко, укутала в них пятилетнюю девочку, сама взяла на руки больную трехлетнюю малютку, девушка повезла салазочки и повела за руку девятилетнюю старшую девочку, крепостной лакей повел за руки восьми— и семилетних мальчиков, и так семейство отправилось пешком с Васильевского острова на Выборгскую сторону к родителям несчастной вдовы.
В таких обстоятельствах прошло мое младенчество; чем слабее рассуждения этого возраста, тем глубже его впечатления; они не исследуются рассудком, не приводятся в систему; они только чувствуются, и когда чувство кажется уже прошлым и забытым, его печать остается на сердце навсегда, хотя и выражается наружу как видоизменение из того же корня. Вся моя натура покрылась меланхолическим оттенком и какой-то ленивой мечтательностью, но вместе с тем жизненные катастрофы вложили в меня веру в Провидение и укрепили мои внутренние силы на борьбу с превратностями.
Такие катастрофы еще до кончины отца поражали свежее мое воображение. Графиня Мусина-Пушкина, родная тетка князя А. С. Меншикова и жена того Пушкина, с которым был отец мой воспитан, любила моего отца как спутника ее молодости, как красивого кавалера и как ветреника – и сохранила чувство привязанности к нему до самой смерти; она любила и моего старшего брата за то, что он похож был на отца. Она говорила мне уже по смерти отца моего: «Раз только он обидел меня; я сделала ему сюрприз, сшила ему наволочки, – но вообрази, мой милый, мое удивление, когда на горничной, одевавшей меня, я увидела кружева от наволочек; фу, какой ужас!»
Делать сюрпризы было страстью графини и ее мужа. Пушкин был довольно богат, жена его еще богаче, но они делали один другому сюрпризы, стараясь превзойти друг друга, и наконец сделали друг другу величайший сюрприз, узнав, что оба разорились.
По смерти графа осталось у графини душ шестьсот, да и к тем привязался какой-то нелепый процесс. Управляющий уверил ее, что удобнее всего было бы совершить купчую крепость на отчуждение ему спорного имения, а когда процесс окончится, он отдаст ей имение назад, «если вы не считаете меня бесчестным», прибавил он. Графиня, невинная и беспечная, как дитя, обиделась предположением и совершила купчую; процесс кончился, но имение не воротилось.
Потом понравился ей один такой же продувной господин, отставной частный пристав, бывший ее комиссионером: он отобрал у нее и движимость. Затем остался у нее только пенсион, 3600 рублей в год (ассигнациями), но для графини это была капля в море. Постепенно она дошла до крайней нищеты; жила в Солдатской Слободке, в домишке из трех комнат, однако ж держала нарумяненную компаньонку и вдову какого-то героя-канонира (сбросившего с зарядного ящика упавшую на него бомбу), воспитанницу, рекомендованную этою же солдаткою, и двух мосек; выезжала в извозчичьей коляске, но часто не евши. Один раз сделалось ей дурно во время ее визита к матери моей: оказалось, что это от голода! Матушка просила ее приезжать к ней завтракать, и с тех пор она частенько бывала во втором часу выпить чашку кофе.
Родные племянники ее, князья Николай и Сергей Гагарины и князь Меншиков, никогда о ней не поминали (но первые давали ей какую-то пенсию, – не те ли 3600 рублей, которые она получала?). Когда полиция известила их о смерти графини, князь Меншиков (я был уже на службе) просил меня быть за него на похоронах и постараться выручить фамильные портреты, если у нее были, – и в самом деле, в бедной хижине, над старым рыночным столом красовался ряд прекрасных миниатюр, изображавших прекрасные лица в богатых уборах. За гробом старушки шли двое: княгиня Изабелла Гагарина и я. Жизнь эта – тоже русская сословная метаморфоза, но с галяминскою составляет обратный полюс.
Говоря о метаморфозах, вспоминаю о другой, еще более разительной, подробности которой слышал уже не в детстве, – о графине Каменской – (если память не изменила мне) матери фельдмаршала. Графиня Каменская была знакома с моим вюртембергским прадедом. Еще при Екатерине она хлопотала о примирении отца моего с его дедом, и успела настолько, что дед позволил написать к нему письмо. Отец написал его таким ломаным немецким языком, что старик взбесился: «Он забыл свой природный язык!» – и не хотел ничего более о нем слышать. Имение свое, не знаю каким путем, передал он какой-то г-же Гофер.
После того Каменская хлопотала о восстановлении родовых документов отца моего, сгоревших со всем домом графа Пушкина; но отец, как современник Екатерины, так гордился быть русским, что не хотел хлопотать об иностранном дворянстве, предпочитая стяжать службою дворянство русское, бедняга. Оттого я нашел только отрывочные документы, или, вернее, сведения, и то благодаря матери, их припрятавшей.
Затем графиня Каменская пропала из виду, и уже около 1812 года графиня Пушкина повезла матушку мою к Каменской, уже слепой и никого не принимавшей. Старушка очень полюбила матушку. «Подойди ко мне, голубушка, дай на себя посмотреть, – говорила она, обводя ее лицо руками, и иногда прибавляла: – Ты похудела, моя милая».
В тридцатых годах Я. А. Дружинин (тайный советник) рассказал мне ужасную историю. Вот она. При императоре Александре I дошел до княгини Лопухиной слух, будто мать фельдмаршала Каменского находится в крайней нищете. Этот слух не мог считаться заведомо недостоверным, потому что графиня передала все свое имение детям; а из сыновей ее – фельдмаршал помер, другой же продал все и уехал навсегда за границу; с двором она была не в ладах. Разоренная и не в милости – два условия вместе достаточные, чтобы быть всеми забытой. Лопухина просила Дружинина узнать, жива ли Каменская и где она. После долгих расспросов удалось Дружинину узнать, что Каменская живет на Песках. Переходя из дома в дом, Дружинин напал наконец на тот, в котором жила графиня, но и тут не вдруг отыскал ее. На вопрос, здесь ли живет графиня Каменская, дворник отвечал: «Такой графини нет, а есть старуха Каменчиха, посмотрите в пристройке». Дружинин вошел в избушку (зимой): одна комната, с прихожей; пусто, холодно, на стенах сырость, на подоконнике снег; в углу у русской печки – кровать, на которую брошена комом старая шубенка. Он хотел уже выйти, как заметил, что шубенка дрожит; подошел к кровати, приподнял тулуп и увидел под ним скорченную дрожащую старушку: это была графиня Каменская! Тут поднялся шум, графине дали пенсию, но в свете она не показывалась, – и свет, в полном смысле слова, ей не показывался.
«Не хочу быть дочерью Сципиона – хочу быть матерью Гракхов!» – сказала Корнелия. Хорошо, что Корнелия жила в Риме. Каменская была матерью Сципиона – и чуть не умерла с голоду.
Неизвестность, в какой оставалась Каменская, может теперь показаться невероятною, но тогда она была возможна. Адресного стола не было, а может быть и был, да делал лишь то, что в состоянии сделать стол без людей. Паспорта не предъявлялись, особенно в захолустьях; дворники были только дворниками, а не полицейскою инстанцией, как теперь. Теперь полиция знает место жительства не только людей порядочных, но и мошенников, с которыми находится даже в официальных сношениях, для открытия других воров, как видно из «Ведомостей СПб. полиции», стало быть, и воры составляют полицейскую инстанцию. Зло общественное лечится гомеопатически: similia similibus. При виде вдовы, странствующей с детьми по улицам Петербурга, – так, как бедная мать моя шла зимою 1818 года на Выборгскую сторону, – какой ум человеческий мог бы указать ей способы выйти из этого положения? Какое воображение сумело бы нарисовать не слишком мрачными красками будущность этой матери семейства?
Но Провидение уладило все такими простыми средствами, которыми оно одно обладает. В том же году старшая из сестер моих выбрана к приему в Смольный монастырь и оба мальчика попали в комплект первого кадетского корпуса; из пятерых непристроенных детей осталось двое, и те слишком малые, чтобы думать о пристройстве.
Года через три вот что случилось. В каникулы отправились мы, брат старший, лет 15, и я, 13 лет, гулять на Каменный остров, отступив от правил матушки, никогда не позволявшей нам ходить далеко без нее. Не доходя несколько сотен сажень до Строгановой дачи, встретили мы молодую благовидную даму с хорошеньким мальчиком лет восьми, который залюбовался кадетским мундиром брата, на румяные щеки которого и дама смотрела с благосклонным любопытством. Когда мы поравнялись с ней, она спросила у нас, куда мы идем, где живем, и, услышав, что на Выборгской стороне, спросила, не знаем ли мы, где живет полковник Баговут. На отрицательный ответ, она было удалилась, но, заметя, что сынку нравится кадет, пошла с нами и узнала, что мы Фишеры.
– Как зовут вашу maman?
– Ольга Ивановна.
– Боже мой! – вскричала дама, – это перст Божий! Я ищу Ольгу Ивановну Фишер давно; мне сказали, что она живет у отца своего, полковника Баговута, близ сухопутного госпиталя (читай: у коллежского советника Паппенгута в зданиях морского госпиталя).
Мы повели даму к матушке; оказалось, что это была Екатерина Сергеевна Уварова, жена камергера, добрейшая, просвещенная женщина, но просвещенная односторонне французскою литературою XVIII века, поклонница Руссо и г-жи Сталь – и в высшей степени энтузиастка. Она рассудила, что гувернеры не годятся для маленьких детей, что гувернантки – еще менее годны, как старые девки, не знающие света и жизни, что правильное воспитание может дать мать, сама испытавшая и добро и зло жизни, прежде наступления старости успевшая наскучить светскою жизнью и не скучающая в отсутствии шумных удовольствий. Такую даму искала Уварова – и вот сказали ей, что точно такая есть, указав на матушку.
Напрасно матушка уверяла ее, что она не подходит под приметы, что она не знает светской жизни, что она считает Ж. Ж. Руссо за сумасброда, что, во всяком случае, главное – в обстановке детей, и что советы наставника, даваемые по утрам, не помогут, если вечерние товарищи другого мнения. Чем более спорили, тем сильнее настаивала Уварова – и матушка принесла нам себя в жертву; скрепя сердце, благословя малюток, она поручила их старушке-бабушке и переехала, для пробы, к Уваровым.
Она была у них около года: проба не удалась, но Уварова сохранила к ней навсегда дружбу и уважение и, со свойственною ей энергией, принялась хлопотать о пристройстве моих младших сестер: обе были приняты в Смольный монастырь пенсионерками царской фамилии; вскоре за тем дочери астронома Шуберта, сохранившие дружбу к матушке, добились через комиссию прошений пенсии ей в 800 рублей. Матушка, содержавшая прежде большое семейство на 2000 рублей, сочла себя богатою, имея всех детей пристроенными и получая 800 рублей, – и на 76-м году жизни скончалась, уважаемая всеми, кто знал ее.
Такие перевороты не остались без влияния на жизнь мою. Я признаю мнение Екатерины II, что счастье есть последствие наших действий, но остаюсь и при своем, что действия наши зависят от обстановки нашей колыбели. Притом попадаются в жизни моменты благоприятные, одному чаще, другому реже; одному, пренебрегающему ими, – беспрестанно, другому, раз упустившему счастливый случай, – никогда более; один был бы счастливее, если бы родился ранее; другой – если бы родился позже: здесь решает счастье. Моя жизнь, например, сложилась бы совершенно иначе, если бы я родился десятью годами прежде; она была бы совершенно иная и тогда, когда бы я явился на свет при Екатерине, когда все расцветало, а не теперь жил, когда все распадается. Сама Екатерина, при том же уме, при тех же политических обстоятельствах, действовала бы, может быть, с меньшею сосредоточенностью воли, если бы выросла в русском боярском дворце, а не в казенной квартире штеттинского коменданта, и если б выходила замуж не с полдюжиной сорочек, как она рассказывает, а с 30 пудами столового и мебельного серебра, как графиня Мусина-Пушкина.
Уже 10 лет от роду я не считал себя ребенком, потому что был в третьем классе гимназии, но страдал, как ребенок. Перед гимназией пансион показался мне раем; в пансионе начальница была женщина; будили нас в 7 часов звонком маленького колокольчика и, в случае надобности, легким прикосновением к плечу, да и кроватка моя стояла рядом с кроватью брата. В гимназии с 5 1/2 часов бегал по спальням инвалид и хриплым басом кричал: «Вставать!» Кто не проснулся от крика, с того срывал одеяло, а в комнате было холодно. В пансионе давали каждому полотенце на несколько дней; в гимназии клали у рукомойников каждый день кучу полотенец, одно на несколько человек, но большие воспитанники отряжали одного, чтобы забрать все, и клали их себе под подушку; мы же, маленькие, встававшие раньше, чтобы не быть оттесненными от воды, утирались рукавом рубашки; своего полотенца нельзя было иметь, оттого что его в тот же день украли бы.
При моем малом росте и слабосилии, я не мог принимать участие в играх; ничто не помогало мне развлечься, забыть тоску о доме и то грустное, что дома происходило. Много тетрадей я не успевал переписывать, а в низших классах гимназии требовали чистых тетрадей, не заботясь о том, знали ли то, что в тетрадях заключалось. Благодаря инспектору классов, Федору Ивановичу Миддендорфу, такому инспектору, какого не бывало в России до него и, вероятно, не скоро будет, – меня освободили от тетрадей; я учился по чужим, заблаговременно, когда владельцы их учились накануне спроса, и платил за эти услуги позволением списывать мои латинские переводы; приятелям я делал даже небольшие изменения редакции, чтобы нельзя было изобличить, что это – копии.