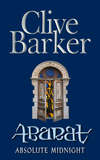Buch lesen: «Проклятая игра»
Посвящается J. R. G.
Copyright © 1985 by Clive Barker
© Наталия Осояну, перевод, 2021
© Сергей Неживясов, иллюстрация, 2021
© ООО «Издательство АСТ», 2021
Благодарности
Я благодарен Мэри Роско, которая неустанно трудилась, печатая эту рукопись, и все-таки нашла время предложить по ходу дела множество обоснованных поправок; и Дэвиду Т. Каннингему, который напечатал несколько дополнений, случившихся позже. Из читателей, чьи энтузиазм и озарения были ценны, должен сказать спасибо Джули Блейк, Джону Грегсону и Вернону Конвею. Я также признателен Дугласу Беннету, устроившему для меня незабываемый тур по тюрьмам, и Аласдеру Кэмерону, заказавшему две пьесы, тем самым позволив мне пополнить запас спагетти, пока я работал над книгой. И, наконец – упоминание в финале никоим образом не отражает ценность вклада – спасибо Барбаре Бут и Нэнн дю Сутуа из «Sphere Books».
И только смерть, изменчивость и случай
Останутся последнею границей…
П. Б. Шелли. Освобожденный Прометей 1
Часть первая
Terra Incognita
Ад – обиталище для тех, кто отрицает.
Они пожнут плоды того, что посадили
У Озера Пространств, и в Чаще Пустоты —
Скитаются и бродят души там и никогда
не прекратят
Оплакивать свое существованье.
У. Б. Йейтс. Песочные часы 2
1
Воздух был наэлектризован в тот день, когда вор пересек город, уверенный, что сегодня вечером, после стольких бестолковых недель, он наконец отыщет картежника. Путешествие оказалось не из легких: восемьдесят пять процентов Варшавы сровняли с землей либо в ходе многомесячных минометных обстрелов, предшествовавших освобождению города русскими, либо в результате программы сноса, которую нацисты затеяли перед отступлением. Несколько городских секторов стали практически непроходимы для транспорта. Горы щебня – по-прежнему лелеющие мертвых, как луковицы, готовые прорасти, когда по весне станет теплее, – преграждали улицы. Даже в более доступных районах некогда элегантные фасады опасно накренились, а их фундаменты издавали рокочущие звуки.
Но вор занимался здесь своим ремеслом уже почти три месяца и привык ориентироваться в одичалом городе. Он даже наслаждался унылым великолепием: панорамами, окрашенными в сиреневый цвет пылью, которая все еще оседала из стратосферы; площадями и аллеями, погруженными в неестественную тишину; ощущением, что так и будет выглядеть конец света, возникавшим у него, когда он сюда вторгался. Иногда днем попадались уцелевшие ориентиры – одинокие указатели, которые со временем демонтируют, – позволяющие страннику наметить маршрут. Газоперерабатывающий завод рядом с мостом Понятовского был узнаваем, как и зоопарк на другом берегу реки; часовая башня Центрального вокзала демонстрировала верхушку, хотя часы давно исчезли. Эти и несколько других испещренных оспинами останков городской красоты Варшавы уцелели, их трепетное присутствие даже у вора вызывало чувство горечи.
Это не его дом – дома у него нет лет десять. Он был кочевником и питался падалью, а Варшава на короткое время предоставила ему достаточно добычи, чтобы здесь задержаться. Скоро, когда он восстановит силы, истощенные в недавних странствиях, придет пора двигаться дальше. Но сейчас в воздухе витают первые признаки весны, и он не спешит покидать эти места, наслаждаясь городской свободой.
Конечно, опасности существуют, но где их нет для человека его профессии? Военные годы отшлифовали его инстинкт самосохранения до такой степени, что он почти ничего не боялся. Здесь он был в большей безопасности, чем истинные жители Варшавы – те немногие, сбитые с толку и выжившие после бойни, которые тонкими струйками начали просачиваться обратно в город, ища утраченные дома и исчезнувшие лица. Они копались в руинах или стояли на пересечении улиц, слушая погребальную песнь реки, и ждали, когда русские скрутят их во имя Карла Маркса. Каждый день строились новые баррикады. Военные медленно, но методично восстанавливали некоторый порядок в этом хаосе, разделяя и подразделяя город, что со временем предстояло пережить и всей стране. Однако комендантский час и контрольно-пропускные пункты едва ли могли стать преградой для вора. В подкладке своего хорошо сшитого пальто он хранил всевозможные удостоверения личности – некоторые поддельные, большинство украденные, – для любой ситуации находилось подходящее. Недостаточную надежность бумаг он восполнял остротами и сигаретами, которыми располагал в изобилии. Они были всем, что требовалось человеку – в этом городе, в этом году, – чтобы чувствовать себя владыкой всего сущего.
И какого сущего! Здесь ни одна склонность или причуда не остались бы неудовлетворенными. Глубочайшие тайны тела и духа были доступны каждому, кто жаждал таковые узреть. Их превращали в игры. Только на прошлой неделе вор слышал рассказ о молодом человеке, затеявшем древнюю игру в наперстки (вот шарик есть, а вот – его нет), но с остроумием безумца воспользовавшемся тремя ведрами и головой ребенка.
Но это еще ладно: ребенок умер, а мертвые не страдают. В городе были и другие развлечения за деньги – наслаждения, сырьем для которых становились живые. Для тех, кто жаждал и платил за вход, началась торговля человеческой плотью. Оккупационная армия, больше не отвлекаясь на сражения, заново открыла для себя секс, и это оказалось выгодно. За полбуханки хлеба можно было купить одну из девушек-беженок – многие были такими юными, что потискать нечего, – воспользоваться ею снова и снова под прикрытием темноты, не обращая внимания на протесты, а то и заглушив их штыком, когда занятие утратит прелесть. На такие небрежные убийства смотрели сквозь пальцы в городе, где погибли десятки тысяч. На несколько недель – между одним режимом и другим – все сделалось возможным: ни один проступок не удостаивался наказания, ни одна разновидность порока не была табуирована.
В Золибоже открылся бордель с мальчиками. Здесь, в подпольном салоне, увешанном добытыми в руинах картинами, можно было выбрать любого из птенчиков шести-семи лет от роду, соблазнительно исхудалых от недоедания и с тугими попками, на радость ценителя. Местечко было очень популярно среди офицеров, но вор слыхал ропот: дескать, для младших чинов дороговато. Ленинские принципы равных возможностей для всех, похоже, педерастию не затрагивали.
Определенные виды спорта были дешевле. Собачьи бои пользовались особым успехом в этом сезоне. Бездомных псов, которые вернулись в город, чтобы пожрать мясо своих хозяев, отлавливали, выкармливали до бойцовской мощи и стравливали насмерть. Зрелище было жуткое, но любовь к ставкам вынуждала вора снова и снова возвращаться на бои. Однажды вечером он неплохо заработал, поставив на низкорослого, но хитрого терьера, который победил кобеля в три раза крупнее, отгрызя ему яички.
Для тех, кому собаки, мальчики или женщины через некоторое время надоедали, имелись более эзотерические развлечения.
В руинах оплота Пресвятой Девы Марии, отдаленно напоминающих амфитеатр, вор видел, как неизвестный актер в одиночку исполнял «Фауста» Гёте, части первую и вторую. Хотя немецкий язык вора был далек от совершенства, представление произвело на него неизгладимое впечатление. История вполне знакомая, чтобы следить за ходом событий, – договор с Мефистофелем, споры и колдовские фокусы, а затем, с приближением обещанного проклятия, отчаяние и ужас. Бо`льшую часть прений разобрать не удалось, но актер так вошел в обе роли – становился то искусителем, то искушаемым, – что вор покинул представление с взволнованным сердцем.
Через два дня он вернулся, чтобы еще раз посмотреть пьесу или, по крайней мере, поговорить с актером. Но выход на бис не состоялся. Энтузиазм исполнителя относительно Гете был истолкован как нацистская пропаганда: вор, чье радостное предвкушение увяло, обнаружил его повешенным на телеграфном столбе. Актер был голый. Босые ступни обглоданы, глаза выклеваны птицами, торс изрешечен пулями. Зрелище вызвало у вора умиротворение. Он увидел в этом доказательство того, что смятенные чувства, порожденные актером, несли в себе изъян: если искусство довело его до такого состояния, он – явно негодяй и мошенник. Рот актера был разинут, но птицы отняли у него язык, как и глаза. Не велика потеря.
Кроме того, имелись более стоящие забавы. Женщинами вор не особенно увлекался, мальчики были не в его вкусе, а вот азартные игры любил, как и прежде. Так что он возвращался к собачьим боям, желая попытать счастья со ставкой на какую-нибудь дворнягу. Если не туда, то в одну из казарм, чтобы сыграть в кости или – в отчаянии – заключить пари со скучающим часовым на скорость пролетающего облака. Метод и частности его почти не интересовали: главное – сделать ставку. С юности это был его единственный истинный порок; он стал вором, чтобы добывать средства для потворства своей слабости. До войны он играл в казино по всей Европе, отдавая предпочтение chemin de fer – французской версии баккара, хотя не возражал и против рулетки. Теперь он оглядывался на те годы сквозь окутавшую их завесу войны и вспоминал состязания как сны наяву: что-то невозвратимое и ускользающее с каждым вздохом.
Однако чувство утраты изменилось, когда он услышал о картежнике – Мамуляне, как его называли, – который, по слухам, никогда не проигрывал, появлялся и исчезал в этом обманчивом городе, будто существо, вероятно не являвшееся реальным.
Так или иначе, после Мамуляна все изменилось.
2
Такие ходили слухи, и многие из них не были основаны на истине. Обычные байки скучающих солдат. Вор обнаружил, что военный ум способен на вымысел причудливей любых поэтических измышлений, к тому же он более смертоносный.
Поэтому, услышав историю о великом шулере, появлявшемся ниоткуда и вызывавшем каждого любителя карточной игры на поединок, чтобы его непременно обыграть, вор заподозрил, что этот рассказ – то, чем кажется: байка. Но нежелание этой апокрифической повести исчезать шло вразрез с ожиданиями. Она не померкла, уступив место еще более курьезной небывальщине, а появлялась снова и снова: в пересудах мужчин на собачьих боях, сплетнях и граффити. Более того, хотя имена менялись, главные факты оставались неизменными от рассказа к рассказу. Вор начал подозревать, что в этой истории есть доля правды. Возможно, в городе действовал блестящий игрок. Конечно, он не обладает абсолютной неуязвимостью; таких не бывает. Но этот человек, если он существовал, представлял собой нечто особенное. Разговоры о нем всегда велись с осторожностью, похожей на благоговение; солдаты, утверждавшие, что видели игру, говорили о его элегантности и почти гипнотическом спокойствии. Рассказывая о Мамуляне, они выглядели крестьянами, говорящими о знати, и вор, никогда не признававший чье-либо превосходство, добавил страстное желание свергнуть этого короля к списку причин, по которым искал картежника.
Помимо общей картины, почерпнутой из слухов, деталей было маловато. Вор знал, что придется найти и допросить человека, который действительно столкнулся с этим образцом совершенства за игорным столом, прежде чем он сможет отделить правду от вымысла.
На поиски такого человека ушли две недели. Звали его Константин Васильев: младший лейтенант, который, как говорили, потерял все, что имел, играя против Мамуляна. Русский был массивным как бык, и вор чувствовал себя рядом с ним карликом. Но если некоторые крупные мужчины взращивают в себе дух, достаточно обширный, чтобы заполнить их анатомию, то Васильев казался почти пустым. Если он когда-либо и обладал такой мужественностью, теперь она исчезла. В этой скорлупе остался хрупкий и беспокойный ребенок.
Потребовался час уговоров, значительная часть бутылки водки с черного рынка и полпачки сигарет, чтобы заставить Васильева ответить более чем односложно. Но когда начались разоблачения, они хлынули потоком – признания человека на грани полного срыва. В его словах звучала жалость к самому себе, а также гнев, но больше всего в них чувствовалось зловоние страха. Васильев был человеком в состоянии смертельного ужаса. На вора это произвело сильное впечатление: не слезы и не отчаяние, а то, что Мамулян, безликий игрок в карты, сломал великана, сидевшего напротив. Под видом утешения и дружеских советов он принялся выкачивать из русского всю информацию до крупицы, которую тот мог предоставить, постоянно выискивая существенные детали, чтобы придать плоть и кровь химере, которую он пытался разыскать.
– Ты говоришь, что он всегда выигрывает в обязательном порядке?
– Всегда.
– И каков его метод? Как он жульничает?
Васильев оторвался от созерцания голых досок пола.
– Жульничает? – недоверчиво спросил он. – Мамулян не жульничает. Я играл в карты всю жизнь, с лучшими и худшими. Я видел все уловки, на которые способен человек. И я тебе говорю: он был чист.
– Самый удачливый игрок время от времени терпит поражение. Законы случая…
На лице Васильева промелькнуло выражение невинного веселья, и на мгновение вор увидел человека, который занимал эту крепость до того, как потерял рассудок.
– Законы случая для него ничто. Неужели ты не понимаешь? Он не такой, как мы с тобой. Как может человек всегда выигрывать, не имея власти над картами?
– Ты в это веришь?
Васильев пожал плечами и опять ссутулился.
– Для него, – проговорил он в крайнем смятении, почти задумчиво, – победа – это красота. Как сама жизнь.
Пустые глаза вернулись к грубым половицам, а вор прокручивал в голове слова: «Победа – это красота. Как сама жизнь». Это были странные слова, ему стало не по себе. Но прежде чем он успел вникнуть в смысл сказанного, Васильев наклонился, испуганно дыша, и схватил вора за рукав.
– Я подал заявление на перевод, тебе сказали? Через несколько дней я уеду отсюда, и никому это не послужит уроком. Я получу медали, когда вернусь домой. Вот почему меня переводят: я – герой, а герои получают то, о чем просят. Я уеду отсюда, и он никогда меня не найдет.
– А зачем ему это нужно?
Рука на рукаве сжалась в кулак; Васильев притянул вора к себе.
– Я задолжал ему последнюю рубашку, – сказал он. – Если останусь, он прикажет убить меня. Он убивал других, если не собственными руками, то руками своих товарищей.
– Он не один? – сказал вор. Он представлял себе картежника человеком без союзников; фактически, создал его по своему образу и подобию.
Васильев высморкался в ладонь и откинулся на спинку стула. Тот заскрипел под его тяжестью.
– Кто знает, что здесь правда, а что ложь? – сказал он, и его глаза наполнились слезами. – Я имею в виду, что, если скажу тебе, что с ним были мертвецы, ты поверишь? – Он сам ответил на свой вопрос, покачав головой: – Нет. Ты подумаешь, что я сошел с ума…
Когда-то, подумал вор, этот человек был способен на уверенность, действие, вероятно, даже на героизм. Теперь всю эту благородную чепуху из него выкачали: чемпион превратился в сопливую тряпку, болтающую чепуху. Он мысленно аплодировал блестящей победе Мамуляна. Он всегда ненавидел героев.
– Последний вопрос… – начал он.
– Хочешь знать, где его можно найти.
– Да.
Русский уставился на подушечку большого пальца и глубоко вздохнул. Все было так утомительно.
– Чего ты добьешься, если сыграешь с ним? – спросил он и снова ответил: – Только унижения. Возможно, смерти.
Вор встал.
– Значит, ты не знаешь, где картежник? – сказал он, собираясь положить в карман полупустую пачку сигарет, лежавшую на столе между ними.
– Погоди. – Васильев потянулся к пачке, прежде чем та скрылась из вида. – Погоди.
Вор положил сигареты обратно на стол, и Васильев собственнически прикрыл их ладонью. Он говорил, не сводя глаз с собеседника.
– В последний раз, когда я о нем слышал, это было к северу отсюда. На Мурановской площади. Знаешь такое место?
Вор кивнул. Не тот край, куда ему нравилось наведываться, но он знал те места.
– А как я его найду, когда туда доберусь?
Этот вопрос озадачил русского.
– Я не знаю, как он выглядит, – попытался объяснить вор.
– Тебе не придется его искать, – ответил Васильев, слишком хорошо все понимая. – Если он захочет, чтобы ты играл, сам тебя найдет.
3
На следующую ночь, первую из многих подобных ночей, вор отправился на поиски картежника. Хотя был апрель, погода в тот год еще стояла суровая. Он вернулся в свой номер в полуразрушенном отеле, который занимал, оцепенев от холода, разочарования и – хотя он едва ли признавался в этом даже самому себе – страха. Район вокруг Мурановской площади был адом внутри ада. Многие воронки от бомб здесь выходили в канализацию: зловоние ни с чем не перепутаешь. Другие, использовавшиеся в качестве костровых ям для кремации казненных граждан, периодически вспыхивали, когда пламя находило живот, раздутый газом, или скопище человеческого жира. Каждый шаг, сделанный в этой доселе неведомой стране, был приключением даже для вора. Смерть в своих многочисленных обличьях поджидала всюду. Сидела на краю кратера, согревала ноги в пламени; стояла как лунатик посреди отбросов; играла, смеясь, в саду из костей и шрапнели.
Несмотря на страх, он несколько раз возвращался в этот район, но картежник ускользал от него. С каждой неудавшейся попыткой, с каждым путешествием, заканчивавшимся поражением, погоня сильнее занимала мысли вора. В его сознании этот безликий игрок начал приобретать силу сродни легендарной. Просто увидеть человека во плоти, убедиться в его физическом существовании в том же мире, который занимал он, вор, стало символом веры. Средством – да поможет ему Бог! – с помощью которого он мог бы утвердить собственное существование.
После полутора недель бесплодных поисков он вернулся, чтобы найти Васильева. Русский умер. Его тело с перерезанным от уха до уха горлом нашли накануне, плавающим лицом вниз в одной из канализационных труб, которые армия прочищала в варшавском районе Воля. Он был не один. С ним еще три трупа, и все убитые таким же образом, все подожженные и горящие, как погребальные ладьи, дрейфующие в туннеле по реке экскрементов. Один из солдат, который был в канализации, когда появилась флотилия, сказал вору, что тела будто парили в темноте. Одно мгновение, захватывающее дух, это походило на неизбежное приближение ангелов.
Потом, конечно, настал черед ужаса. Горящие трупы потушили – их волосы, спины; перевернули, и луч фонарика осветил лицо Васильева, на котором застыло изумление. Он был похож на ребенка, потрясенного смертельно опасным фокусом.
Документы о его переводе прибыли к концу того же дня.
Бумаги, похоже, стали причиной административной ошибки, которая завершила трагедию Васильева на комической ноте. Опознанные тела похоронили в Варшаве, за исключением младшего лейтенанта Васильева, чье военное прошлое требовало менее небрежного обращения. Планировалось перевезти тело в Россию-матушку, где герой будет похоронен с государственными почестями в родном городе. Но кто-то случайно наткнулся на бумаги о переводе и применил их к мертвому Васильеву, а не к живому. Тело загадочным образом исчезло. Никто не хотел брать на себя ответственность: труп просто отправили на новое место службы.
Смерть Васильева только усилила любопытство вора. Высокомерие Мамуляна завораживало. Это был падальщик, человек, зарабатывавший на жизнь слабостью других, который так обнаглел от успеха, что осмеливался убивать – или ради него убивали – тех, кто переходил ему дорогу. Вор трепетал от нетерпения. Во сне, когда удавалось заснуть, он бродил по Мурановской площади. Ее затягивал туман, напоминающий живое существо, он обещал в любой момент разделиться и раскрыть картежника. Вор как будто влюбился.
4
Этим вечером купол неряшливых облаков над Европой раскололся: синева, хоть и бледная, расползалась над головой, все шире и шире. Теперь, в преддверии ночи, небо было совершенно чистым. На юго-западе огромные кучевые облака, похожие на подкрашенную охрой и золотом цветную капусту, набухали грозой, но мысль об их гневе только возбуждала его. Сегодня воздух был наэлектризован, и вор не сомневался, что найдет картежника. Он был уверен в этом с самого утра, когда проснулся.
С приближением темноты он отправился на север, к площади, почти не думая о том, куда идет, – до того знакомый был маршрут. Он прошел через два контрольно-пропускных пункта, и никто его не окликнул: уверенная походка в достаточной степени заменяла пароль. Сегодня он был неотвратим. На его место здесь, где в сиреневом воздухе витали ароматы, а звезды мерцали в зените, никто не смел посягнуть. Он почувствовал, как искры статического электричества пробежали по волоскам на тыльной стороне ладони, и улыбнулся. Он увидел человека с чем-то неузнаваемым в руках, кричащего у окна, и улыбнулся. Неподалеку Висла, разбухшая от дождей и талого снега, с ревом неслась к морю. Он был в той же степени неукротим.
Золото исчезло из кучевых облаков, прозрачная синева потемнела к ночи.
Когда он собирался выйти на Мурановскую площадь, что-то мелькнуло впереди, порыв ветра пронесся мимо, и воздух внезапно наполнился белым конфетти. Не может быть, чтобы здесь устроили свадьбу? Один из кружащихся фрагментов застрял у него на реснице, и он сорвал его. Это было не конфетти, а лепесток. Он зажал его между большим и указательным пальцами. Из разорванного лепестка сочилось ароматное масло.
В поисках источника вор прошел еще немного и, свернув за угол, обнаружил на площади висящий в воздухе призрак огромного цветущего дерева. Его корни не уходили в землю, заснеженную крону озарял свет звезд, ствол был темным. Вор затаил дыхание, потрясенный красотой, и подошел к дереву, словно к дикому зверю, осторожно, на случай, если оно испугается. Что-то у него внутри перевернулось. Это не было благоговение перед цветением или остатки радости, которую он чувствовал, идя сюда. Радость ускользала. Здесь, на площади, его охватило совсем другое чувство.
Он настолько привык к жестокостям, что давно считал: ничто не заставит его побледнеть. Так почему он стоял сейчас в нескольких футах от дерева, в тревоге сжимая кулаки, так, что тщательно ухоженные ногти впились в ладони, и не отваживался заглянуть под зонтик из цветов, где могло скрываться худшее? Здесь нечего было бояться. Только лепестки в воздухе, тень на земле. И все же он дышал неглубоко, надеясь вопреки всему, что его страх беспочвенный.
«Ну же, – подумал он, – если ты хочешь мне что-то показать, я жду».
По его молчаливому приглашению произошли две вещи. За спиной раздался гортанный голос:
– Ты кто? – спросили по-польски.
От неожиданности он на кратчайший миг отвлекся, его глаза потеряли фокус на дереве, и тут же из-под отяжелевших от цветов ветвей вынырнула фигура, сутулясь в свете звезд. В обманчивом мраке вор не был уверен, что видит: вероятно, похожее на маску лицо, безучастно смотрящее в его сторону, опаленные волосы. Покрытую струпьями тушу, массивную, как у быка. Огромные лапищи Васильева.
Всё или ничего из этого; фигура уже скрывалась за деревом, ветви касались израненной головы на ходу. На его угольно-черные плечи падал мелкий дождик лепестков.
– Ты меня слышишь? – сказал голос у него за спиной. Вор не обернулся. Он продолжал смотреть на дерево, прищурившись и пытаясь отделить материю от иллюзии. Но человек, кем бы он ни был, исчез. Конечно, это не мог быть русский: разум восставал против такого. Васильев мертв: его нашли лежащим лицом вниз в грязи канализации. Тело, вероятно, было на пути к какому-нибудь отдаленному форпосту Российской империи. Здесь его нет, он не мог находиться здесь. И все же вор чувствовал настоятельную потребность догнать незнакомца, похлопать по плечу, заставить обернуться, посмотреть ему в лицо и убедиться, что это не Константин. Но было слишком поздно: тот, кто задавал вопросы, яростно схватил его за руку и требовал ответа. Ветви дерева больше не дрожали, лепестки перестали осыпаться, человек ушел.
Вздохнув, вор повернулся.
Фигура перед ним приветливо улыбалась. Это была женщина, несмотря на скрипучий голос; одетая в широкие брюки, перевязанные веревкой, но в остальном
голая. Ее голова была обрита, ногти на ногах покрыты лаком. Он воспринял все это обостренными чувствами – потрясение, вызванное деревом и приятной глазу наготой женщины, не проходило. Блестящие округлости грудей были совершенны. Он почувствовал, как разжимаются кулаки, а ладони покалывает от желания прикоснуться к ним. Но, возможно, его оценка ее тела была слишком откровенной. Он снова взглянул ей в лицо, желая убедиться, что она еще улыбается. Так и было; но на этот раз его взгляд задержался на ее лице, и вор понял, что видит не улыбку, а застывшую навеки гримасу. Ее губы были срезаны, обнажая десны и зубы. На щеках виднелись ужасные шрамы и следы ран, которые разорвали сухожилия и сотворили оскал. От лика этой женщины он пришел в ужас.
– Ты хочешь… – начала она.
«Хочешь?» – подумал вор, снова переводя взгляд на грудь. Ее небрежная нагота возбуждала, несмотря на изуродованное лицо. Ему была отвратительна сама мысль о том, чтобы взять ее, – целовать безгубый рот казалось слишком высокой платой за оргазм, – и все же, если бы она предложила, он согласился бы, и будь проклято отвращение.
– Ты хочешь… – Она снова заговорила невнятным гибридным голосом, не мужским и не женским. Ей было трудно складывать и произносить слова без помощи губ. Тем не менее она задала остальную часть вопроса. – Ты хочешь карты?
Он совершенно упустил главное. У нее не было к нему никакого интереса, сексуального или иного. Она была просто посыльным. Мамулян здесь! Вероятно, до него рукой подать. Возможно, шулер наблюдал за вором прямо в этот момент.
Но смятение чувств затмило восторг, который вор должен был испытывать. Вместо триумфа он ощутил, как противоречивые образы атакуют разум: цветок, грудь, темнота; обожженное лицо мужчины, повернувшееся к нему на слишком краткий миг; похоть, страх; одинокая звезда, появляющаяся из-за края облака. Едва думая о том, что говорит, он ответил:
– Да. Мне нужны карты.
Она кивнула, отвернулась от него, прошла мимо дерева, ветви которого все еще качались там, где их коснулся человек, который не был Васильевым, и пересекла площадь. Вор последовал за ней. Можно было забыть лицо посредницы, глядя на грацию ее босых шагов. Похоже, ей все равно, на что наступать. Она ни разу не дрогнула, несмотря на осколки стекла, кирпича и шрапнель под ногами.
Она подвела его к развалинам большого дома на противоположной стороне площади. Изувеченный фасад, некогда внушительный, все еще держался; в нем был даже дверной проем, хотя и без двери. Сквозь него мерцал свет костра. Щебень из внутренних помещений просы`пался через дверной проем и блокировал нижнюю половину, вынуждая женщину и вора пригнуться и вскарабкаться в сам дом. В темноте рукав его пальто за что-то зацепился, и ткань порвалась. Посредница не обернулась, чтобы посмотреть, не ранен ли спутник, хотя вор громко выругался. Она просто вела его через груды кирпичей и упавших балок крыши, а он ковылял следом, чувствуя себя до смешного неуклюжим. При свете костра он мог оценить размеры внутреннего помещения; когда-то это был прекрасный особняк. Однако времени на изучение окрестностей оставалось мало. Женщина уже миновала костер и пробиралась к лестнице. Вор последовал за ней, обливаясь потом. Костер зашипел; он оглянулся и увидел кого-то на дальней стороне, скрывшегося за пламенем. Пока вор смотрел, сидящий у огня подбросил топлива, и созвездие багровых крапинок взлетело к небесам.
Женщина поднималась по лестнице. Он спешил за ней, и его тень, отбрасываемая огнем, казалась огромной на стене. Посредница была на верхней ступеньке лестницы, когда вор одолел лишь половину, а затем проскользнула во второй дверной проем и исчезла. Он последовал за ней так быстро, как мог, и вошел следом.
Свет от костра урывками проникал в комнату, и поначалу вор едва мог что-либо разглядеть.
– Закрой дверь, – попросил кто-то. Вору потребовалось несколько секунд, чтобы понять, что просьба обращена к нему. Он повернулся и попытался нащупать ручку, обнаружил, что ее нет, и захлопнул дверь на ноющих петлях.
Покончив с этим, вор снова повернулся к тьме, царящей в комнате. Женщина стояла в двух или трех ярдах, обратив к нему вечно смеющееся лицо. Ее улыбка выглядела серым полумесяцем.
– Твое пальто, – сказала она и протянула руки, чтобы помочь его снять. Затем она вышла из поля зрения вора – зато появился объект его долгих поисков.
Поначалу внимание вора привлек не Мамулян, а резной деревянный алтарь, установленный вдоль дальней стены, – готический шедевр, который даже в полумраке сверкал золотом, алым и синим. Военная добыча, подумал вор; так вот, что этот ублюдок делает со своим состоянием. Теперь он устремил взгляд на человека перед триптихом. Одинокий фитиль, погруженный в масло, дымно горел на столе, за которым сидел картежник. На его лице беспокойно плясали яркие блики.
– Итак, пилигрим, – сказал этот человек, – ты нашел меня. Наконец-то.
– Разумеется, это ты нашел меня, – ответил вор; все случилось, как и предсказывал Васильев.
– Я слышал, ты хочешь сыграть пару партий. Это правда?
– Почему бы нет? – Он старался говорить как можно беззаботнее, хотя его сердце отбивало в груди нервную барабанную дробь. Оказавшись в присутствии картежника, он почувствовал себя совершенно неподготовленным. Волосы от пота прилипли ко лбу, на руках осела кирпичная пыль, под ногтями – грязь. «Я наверняка выгляжу, – подумал он с кривой ухмылкой, – как вор, которым и являюсь».
Мамулян же, напротив, был воплощением благопристойности. В его скромной одежде – черный галстук, серый костюм – не было ничего, что указывало бы на спекулянта: он, эта легенда, выглядел словно биржевой маклер. Его лицо, как и наряд, было беспардонно заурядным; черты, туго обтянутые гладкой кожей, казались восковыми в безжалостном свете масляного пламени. На вид ему было лет шестьдесят или около того, щеки слегка впалые, нос крупный, аристократический, лоб широкий и высокий. Линия роста волос отодвинулась к затылку; уцелевшая шевелюра выглядела легкой словно пух и белой. Но в его позе не было ни чахлости, ни утомления. Он выпрямился в кресле, и его проворные руки с любовной фамильярностью развернули веером и собрали колоду карт. Только глаза были такими,
какими их представлял себе вор. Ни у одного биржевого маклера никогда не было такого пронзительного взгляда. Таких ледяных, неумолимых глаз.
– Я надеялся, что ты придешь, пилигрим. Рано или поздно, – сказал Мамулян. По-английски он говорил монотонно.
– Я опоздал? – полушутя спросил вор.