Незападная история науки: Открытия, о которых мы не знали
Text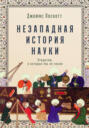


Zum Hörbuch
- Größe: 670 S.
- Kategorie: Sachbücher, Fremdsprachige Aufklärungsliteratur, Fremdsprachiger Journalismus
Итак, параллели с традиционной европейской историей научной революции очевидны. Османские ученые тоже читали и переводили древнегреческие тексты, а также подвергали критике старые идеи, опираясь на тексты более современных исламских авторов. В Константинополе – одном из городов Шелкового пути – легко было получить доступ к научным рукописям на множестве языков, от латинского и греческого до персидского и арабского. Сама европейская идея Возрождения имела параллель в исламском мире. На арабском это называлось тадждид (буквально «обновление»). Традиционно этот термин применялся религиозными учеными к реформе ислама. Однако с XV в. идея тадждида стала вдохновлять обновление не только религии, но и мусульманской науки. Конечно, это движение не ограничивалось одним Константинополем. Как мы увидим в следующем разделе, связь между астрономией, математикой и исламом распространилась по Великому шелковому пути дальше – через Сахару, в Африку{118}.
IV. Африканские астрономы
В ноябре 1577 г. в небе над Тимбукту (ныне Томбукту, город на территории современной Мали) можно было наблюдать впечатляющее зрелище – метеоритный дождь. Нам известно об этом из отчетов об астрономических явлениях, которые составлялись учеными в Западной Африке на протяжении XVI и XVII вв. «Наблюдали комету. Она поднялась над горизонтом на рассвете, затем, двигаясь мало-помалу, достигла середины неба между закатом и наступлением ночи. А потом в конце концов исчезла», – сообщал западноафриканский хронист Абд аль-Саади в начале XVII в. Мы уже знаем, что во всем исламском мире, от Самарканда до Константинополя, правители увлекались астрономией; не была исключением и мусульманская Африка к югу от Сахары. При дворе Аскии Мохаммеда I – правителя Сонгая, исламского султаната, который к XVI в. подчинил себе значительную часть Западной Африки, – служило несколько астрономов. Эти астрономы вносили важный вклад в управление империей: одни составляли годовой календарь, а также рассчитывали время молитв и Рамадана, другие определяли точное направление на Мекку. Аския Мохаммед I, правоверный мусульманин, щедро вознаграждал их за услуги{119}.
Итак, в Тимбукту XVI в. были астрономы – важное свидетельство о значимом месте субсахарской Африки в истории современной науки. Этот регион, пожалуй, чаще остальных исключают из традиционной истории научной революции. Даже в тех случаях, когда признается важный вклад в науку других культур (помимо европейской), о субсахарской Африке не упоминается ни словом. Однако представление, будто в Африке до ее колонизации европейцами не было науки как таковой, – не более чем миф, который следует как можно скорее развенчать. Как и в остальных регионах мира, в Африке существовала богатая научная традиция, которая претерпела значительные преобразования в XV–XVI вв. вследствие расширения религиозных и торговых связей. Субсахарская Африка вовсе не была обособлена от остального мира, и ее нужно рассматривать как часть истории, исследуемой в этой главе, – истории глобального культурного обмена{120}.
Город Тимбукту был основан в XII в., а к XV–XVI вв. подвергся существенному расширению, особенно после того, как в 1468 г. перешел под контроль империи Сонгай времен расцвета. Это расширение было обусловлено в первую очередь ростом транссахарской торговли: идущие через Тимбукту караваны везли золото, соль и рабов в Египет и дальше, соединяя Западную Африку с Азией через Великий шелковый путь. Тогда же и другие африканские королевства начали активно торговать с европейцами на побережье. Это, помимо прочего, положило начало трансатлантической работорговле, влияние которой мы подробнее рассмотрим в следующих двух главах. Тимбукту стремительно богател, что позволяло правителю империи Сонгай содержать «великолепный и пышно обставленный двор»: при нем были «многочисленные лекари, судьи, ученые и священнослужители». Наряду с торговлей еще одним ключевым фактором, соединявшим Африку с остальным миром, была религия. После завоевания мусульманами Северной Африки (VII в.) ислам уже к Х в. начал постепенно проникать через Сахару в Западную Африку. В XIV в. исламизация шла уже полным ходом, особенно в сельской местности. Именно в этот период западноафриканские мусульманские ученые начали составлять собственные научные труды, а не только читать рукописи, привезенные из других стран. Осознавая важность ислама для консолидации политической власти, африканские правители старались укреплять религиозные связи. В 1496 г. Аския Мохаммед I даже совершил знаменитое паломничество из Тимбукту в Мекку в сопровождении многочисленных ученых{121}.
С торговлей и паломничеством пришли знания. Аския Мохаммед вернулся из Мекки с сотнями арабских рукописей обо всем на свете – от новых астрономических идей до принципов исламского права. Торговцы, пересекавшие Сахару с караванами, тоже привозили домой собрания арабских манускриптов, приобретенных в Константинополе и Каире. «Сюда привозят рукописные книги с Варварийского берега, которые продаются с большей выгодой, нежели все прочие товары», – писал знаменитый путешественник XVI в. Иоанн Лев Африканский после посещения Тимбукту. (Варварийским берегом называлось средиземноморское побережье Северной Африки от Марокко до Египта.) Научные рукописи привозили с собой и мусульманские ученые, которые бежали из Испании после католической Реконкисты, завершившейся падением Гранадского эмирата в конце XV в. Как мы увидим далее, в конечном счете благодаря именно этому притоку знаний в Западной Африке начался процесс преобразования науки, во многом удивительно схожий с тем, что происходило в Европе эпохи Возрождения{122}.
Еще до распространения ислама африканские народы интересовались небесами. Догоны – народ Древней Мали – дали названия всем звездам, а для народа коса из Южной Африки Юпитер был ориентиром во время ночных путешествий. Правитель средневекового Бенинского царства (территория современной Нигерии) держал при дворе специальную группу астрономов под названием Иво-Уки, или «Общество восходящей Луны», которая занималась отслеживанием движения Солнца, Луны и звезд в течение года. Эти наблюдения были особенно важны для планирования сельскохозяйственных работ. Бенинские астрономы в столице внимательно следили за прохождением звезд пояса Ориона по небесной сфере. «Когда эта звезда исчезает с неба, – писали они, – наступает время сажать ямс». Правитель города-государства Ифе, еще одного средневекового государства на территории современной Нигерии, также признавал важность астрономии для сельскохозяйственной и религиозной жизни. В Ифе, культурном центре народа йоруба, имелось множество храмов. Рядом с ними по указу правителя были установлены большие гранитные столбы, которые использовались для отслеживания движения Солнца, а также определения времени религиозных праздников и ежегодного сбора урожая{123}.
В XV в. эти древние астрономические традиции начали постепенно трансформироваться. Как и их европейские коллеги, африканские ученые познакомились с идеями древнегреческих мыслителей (таких, как Аристотель и Птолемей) через арабские переводы. По ночам группы учеников собирались у костра, наблюдали за звездами и сравнивали свои измерения с астрономическими таблицами из арабских рукописей. Одна из рукописей – ее предположительно использовали для преподавания астрономии в Тимбукту в XVI в. – называлась «Знания о движении звезд». Она начиналась с изложения астрономических теорий древнегреческих и древнеримских авторов, за которыми следовали теории более поздних исламских мыслителей, таких как Ибн аль-Хайсам с его критическими комментариями по поводу астрономии Птолемея. Далее в рукописи объяснялось, как определить местоположение конкретных звезд на небосводе, а также их астрологическое значение{124}.
В другой рукописи, написанной ученым из Тимбукту по имени Мохаммед Багайого, объяснялось, как рассчитать время молитв днем (по солнечным часам) и ночью (по положению Луны). Багайого, который в начале XVII в. совершил паломничество в Мекку, владел одним из крупнейших собраний арабских рукописей в Тимбукту, а также составил комментарий к работе османского астронома XVI в. Мухаммеда аль-Таджури. То, что в Тимбукту можно было найти манускрипты не только на арабском, но и на турецком языке, свидетельствует о существовании тесной связи между османской и западноафриканской наукой в тот период{125}.
Тимбукту был, несомненно, одним из ключевых центров развития науки в Западной Африке в период раннего Нового времени, но далеко не единственным. Рост научных знаний параллельно происходил и во многих других африканских городах, особенно там, где существовали тесные торговые и религиозные связи с более широким миром. Согласно более позднему свидетельству, в султанате Борно, располагавшемся на территории современной Нигерии, ученые при Великой мечети «изучали несколько научных трудов». Правитель соседнего султаната Кано приглашал к себе ученых со всего мусульманского мира для преподавания при дворе. В начале XV в. один такой ученый приехал из Медины и привез с собой богатое собрание арабских рукописей, в том числе по астрономии и математике. Как и в Тимбукту, африканские ученые в Кано читали арабские переводы древнегреческих текстов и труды авторитетных мусульманских мыслителей – Ибн аль-Хайсама и не только{126}.
Как мы с вами уже знаем, составление ежегодного календаря было едва ли не важнейшей обязанностью астрономов при дворе султана Кано. Один из них, ученый по имени Абдулла бин Мохаммед, даже составил объемный манускрипт, где подробно рассказал о традиционном исламском астрологическом календаре, отражавшем прохождение Луны через различные созвездия в течение года. Помимо этого, он также описал «вращения планет» и привел соответствующие астрологические толкования. Что особенно важно, это сочинение было написано на языке хауса – этнической группы, которая составляла большинство населения Кано. Абдулла бин Мохаммед указывал названия звезд и планет на языке хауса наряду с их традиционными арабскими названиями. Например, Меркурий на хауса назывался «Магатакард», что означает «писец», а Солнце – «Сарки», то есть «царь». Это еще одно важное свидетельство того, что в Африке существовала своя доисламская астрономическая традиция, которая подверглась трансформации с притоком новых арабских рукописей в XV–XVI вв.{127}
Развитие новых научных идей продолжалось в Западной Африке и в начале XVIII в. В 1732 г. математик из Кацины (еще одного государства на территории нынешней Нигерии) составил рукопись под названием «Трактат о магическом использовании знаков алфавита». Мохаммед ибн Мохаммед учился астрономии, астрологии и математике у виднейшего ученого из султаната Борно, расположенного почти в 1300 км на восток. Как и многие его африканские коллеги, он совершил паломничество в Мекку. Несмотря на несколько туманное название, рукопись Мохаммеда ибн Мохаммеда была посвящена математике. В ней подробно описывались принципы так называемых магических квадратов (возможно, вы изучали их в школе). Простейший магический квадрат представляет собой таблицу 3 × 3, которую нужно заполнить числами от 1 до 9 так, чтобы сумма чисел в столбцах, строках и диагоналях была одинакова. Несмотря на множество возможных вариантов расположения чисел, у каждого квадрата существует лишь одно возможное «магическое число». (В случае таблицы 3 × 3 это число равно 15.) Если вы разобрались с этой задачей, переходите к более сложным: например, каково «магическое число» у квадрата большего размера (скажем, 9 × 9) или даже произвольного размера n × n? Сколько существует вариантов расположения чисел для квадрата данного размера? Каков наилучший алгоритм решения этой задачи?{128}
Магические квадраты широко обсуждались средневековыми исламскими математиками, и Мохаммед ибн Мохаммед почти наверняка узнал о них из арабских рукописей, которыми торговали в Кацине. Судя по всему, он обожал магические квадраты, которыми испещрены страницы его труда; он даже предложил формулу для построения квадратов различного размера и доказал, что существует единственный вариант решения магического квадрата 3 × 3 с числами от 1 до 9, а все остальные варианты получаются благодаря либо вращению, либо отражению. Следует отметить, что Мохаммед ибн Мохаммед не только испытывал к магическим квадратам математический интерес, но и рассматривал их изучение как своего рода религиозный долг: они считались одним из даров Аллаха. «Знаки под защитой Всевышнего», – писал он. И действительно, магическим квадратам придавалось настолько особое значение, что Мохаммед ибн Мохаммед предписывал математикам «работать скрытно… дабы не разглашать тайн Творца всем без разбора». Тем самым он намекал на мистические свойства, которые традиционно приписывались магическим квадратам. Как и многие другие ученые того времени в Африке, Азии или Европе, Мохаммед ибн Мохаммед считал их своего рода талисманами, способными защищать от всего дурного. Именно поэтому в названии его рукописи говорилось о «магическом использовании» математики.

Рис. 11. Два магических квадрата из арабской математической рукописи, написанной в раннее Новое время. Аналогичные рукописи в XVII в. создавались в Тимбукту и Кано
Магические квадраты также применялись для предсказания будущего. Одной из услуг, оказываемой математиком Мохаммедом ибн Мохаммедом жителям Кацины, было гадание по магическим квадратам – обычно путем замены чисел определенными буквами или словами. Некоторые люди даже вшивали магические квадраты в одежду, чтобы отгонять злых духов{129}.
Долгое время субсахарскую Африку исключали из истории научной революции. Однако этот регион имел собственную богатую научную культуру, в которой при ближайшем рассмотрении обнаруживается множество параллелей с тем, что происходило в европейской науке того же периода. Как и в Европе, африканские ученые узнавали об идеях древнегреческих и древнеримских мыслителей, таких как Аристотель и Птолемей, благодаря арабским переводам и комментариям. Как и в Европе, африканские ученые начали критиковать древних мыслителей, опираясь на работы более поздних исламских астрономов и математиков, таких как Ибн аль-Хайсам. Как и в Европе, научная революция в Африке в раннее Новое время не полностью вытеснила древнюю традицию: астрономия, астрология и гадание по-прежнему были неразрывно связаны, а порой и неотличимы. Все это говорит о том, что Африка не оставалась в стороне во время зарождения современной науки, но была неотъемлемой частью этого глобального процесса – когда расширение торговли и путешествий (в том числе религиозных) по Шелковому пути привели к преобразованию науки в XV–XVI вв.
В Тимбукту и Кано, как и в Самарканде и Константинополе, ученых поддерживали богатые африканские правители, которые признавали ценность астрономии и математики с точки зрения религии. Как писал придворный астроном Сонгая, «одна из задач науки – определение времени молитв». В то же время астрономы помогали караванам пересекать Сахару, что способствовало дальнейшему росту торговли в регионе. Караваны шли по бескрайней пустыне, «словно по морю, а их проводники прокладывали путь по звездам», – объяснял один хронист. Таким образом, в субсахарской Африке в XV–XVI вв. происходила своя научная революция. Далее в этой главе мы двинемся по Шелковому пути на восток и разберем, как расширение торговых, религиозных и интеллектуальных связей привело к научной революции в Китае и Индии{130}.
V. Астрономия в Пекине
Маттео Риччи, облаченный в алый шелковый халат, вошел в Запретный город. Впервые европеец был допущен в эту святая святых – дворцовый комплекс китайского императора в самом сердце Пекина. Чтобы произвести на императора хорошее впечатление, Риччи облачился в традиционные конфуцианские одежды и даже отрастил для такого случая длинную бороду, типичную для китайских писателей. Пройдя в феврале 1601 г. по этому огромному двору, вымощенному мрамором, он исполнил свою мечту, которой посвятил почти 20 лет.
Риччи прибыл в Китай в 1582 г. как член Общества Иисуса. Из предыдущей главы мы знаем, что миссионерская деятельность иезуитов была тесно связана с развитием науки раннего Нового времени. Иезуиты рассматривали изучение небес как способ оценить мудрость Господа, а также как средство продемонстрировать могущество христианской веры потенциальным неофитам. Именно так подходил Риччи к своей миссионерской деятельности в Китае.
Риччи родился в 1552 г. в городе Мачерата (Папская область). В начале 1570-х гг. он изучал математику и астрономию в Римском коллегиуме под руководством знаменитого ученого-иезуита Христофора Клавиуса. Для астрономов это было удивительное время. Гелиоцентрическая модель Коперника подняла настоящую бурю, а в ноябре 1572 г. на небе появилась «новая звезда», что в очередной раз поставило под сомнение идею абсолютной неизменности небес. (Впоследствии установили, что это была вспышка сверхновой.) Окончив учебу, Риччи получил предложение отправиться с иезуитской миссией на Дальний Восток. В 1577 г. он покинул Рим, добрался до Лиссабона и сел на корабль до Китая. Путешествие вместе с остановкой в Индии заняло почти четыре года. В августе 1582 г. Риччи прибыл в Макао (в то время – португальский торговый порт) и провел всю оставшуюся жизнь в Китае, сыграв важнейшую роль в развитии как христианства, так и науки в Азии{131}.
Риччи был убежден, что именно астрономия и математика помогут иезуитам закрепиться в Китае. Правители династии Мин, пришедшей к власти в середине XIV в., долгое время опасались европейских гостей. Император Ваньли, принявший бразды правления в 1572 г., терпел присутствие португальцев в Макао, но разрешал заходить по рекам вглубь страны всего нескольким кораблям в год. Поначалу иезуитские миссионеры, как и португальские торговцы, столкнулись в материковом Китае с трудностями. Их называли «чужеземными демонами» и зачастую встречали враждебно. Риччи не раз сажали в тюрьму и забрасывали его дом камнями. В конце концов ему удалось основать небольшую миссию в городе Чжаоцин на юге Китая. Но и этот успех оказался временным: в 1589 г. новые городские власти изгнали иезуитов. Риччи решил, что единственная возможность обеспечить будущее иезуитской миссии в Китае – подать прошение самому императору. С этой целью Риччи и отправился в Пекин в 1601 г. С собой он привез множество даров, включая картину с изображением Девы Марии, украшенное жемчугом и стеклянными бусинами распятие, а также двое механических часов – большие, с железными гирями, и поменьше, с пружинным механизмом.
Картина и распятие не произвели на императора Ваньли впечатления, но часы («колокольца, которые звонят сами собой», как он их назвал) поразили его. Большие часы он приказал поставить в своем личном саду, а часы поменьше – у себя в резиденции. Наблюдая за сжимающимися пружинами и вращающимися шестеренками, император пытался понять, как устроен механизм. Но вскоре часы остановились. Встревоженный император пригласил во дворец Риччи, чтобы тот наладил чудо техники. Выбор подарка оказался поистине судьбоносным. Итальянские механические часы впечатлили правителя Поднебесной, но для бесперебойной работы они нуждались в ежедневном подзаводе и регулярной настройке, а обращение с ними требовало знания европейской математики. Вскоре император осознал: если он хочет, чтобы часы продолжали звонить, ему придется допустить Риччи в Запретный город. Он велел иезуиту приезжать четыре раза в год, чтобы заниматься обслуживанием часов, а в качестве награды разрешил Риччи жить в Пекине и основать постоянную миссию{132}.
Вера Риччи в науку оправдалась. В своем донесении в Рим от 1605 г. он писал, что астрономия и математика оказались лучшими средствами завоевать благосклонность китайской знати. «Благодаря моим картам мира, часам, сферам, астролябии и прочим вещам, кои я делаю и коим учу, я приобрел репутацию величайшего математика в мире», – писал Риччи. Он предлагал расширить этот подход: «Ничто не принесет нам большей пользы, нежели отправка ко двору знающего астролога из числа наших братьев или отцов». По словам Риччи, это «укрепит нашу репутацию, облегчит доступ в Китай и обеспечит нам безопасность и свободу в большей мере, нежели теперь». К мнению Риччи прислушались, и в течение следующих 50 лет иезуиты отправили в Китай множество блестящих астрономов и математиков. Это положило начало новой эпохе широкого обмена научными знаниями между Европой и Восточной Азией. Многочисленные споры о природе небес и роли древних знаний велись теперь совсем в другой обстановке, а европейский и китайский подходы к астрономии и математике, вступив в контакт, подверглись взаимной трансформации{133}.
Вскоре у иезуитов появился первый влиятельный новообращенный. Сюй Гуанци принял христианство некоторое время спустя после основания Пекинской миссии в 1601 г. Он был выходцем из бедной крестьянской семьи, обучался в небольшом буддистском монастыре и сумел стать цзиньши – высокопоставленным чиновником китайской императорской бюрократии. «Доктор Павел», как называли его иезуиты (это имя он взял после крещения), обладал значительным влиянием и мог способствовать продвижению дела иезуитов при императорском дворе: о таких новообращенных и мечтал Риччи. Сюй Гуанци также придавал большое значение наукам. Работая вместе с Риччи и другими иезуитами, он помог перевести на китайский язык важнейшие древнегреческие источники и работы европейских ученых эпохи Возрождения, а также участвовал в подготовке первого китайского перевода «Начал» Евклида – древнегреческого текста, который лег в основу европейской математики.
Риччи считал, что перевод Евклида на китайский язык будет способствовать усилению иезуитского влияния, «поскольку у китайцев математические дисциплины пользуются, пожалуй, бо́льшим уважением, чем среди прочих народов». Риччи и Сюй Гуанци располагали не древнегреческим оригиналом, а латинским переводом с комментариями Христофора Клавиуса, наставника Риччи в Римском коллегиуме. К тому времени Риччи хорошо владел разговорным китайским языком, но писал не слишком уверенно, поэтому нуждался в помощнике. Риччи устно переводил с латыни на китайский, а Сюй Гуанци записывал перевод и затем перерабатывал его в стиле классического китайского – чего и ожидали от конфуцианского ученого. Вскоре последовали и другие переводы, в том числе основной работы Клавиуса «Астролябия» (1593). К моменту смерти Риччи в 1610 г. на китайский язык были переведены многие из важнейших древнегреческих текстов, а также ряд европейских научных трудов Средних веков и эпохи Возрождения{134}.
В этих переводах часто видят простой перенос в Китай европейских научных знаний. Но подлинная история гораздо сложнее. Как мы уже увидели на примере исламского мира, ренессансный идеал – возрождение древних знаний – не был исключительно европейским. Так же рассматривали этот процесс и китайские ученые. Сюй Гуанци считал, что, работая с Риччи над переводами, он помогает восстановить утраченное – мир китайской науки. Как Европа начала открывать для себя собственное прошлое через посредничество исламского мира, так и Китай опирался на Европу. Свое представление о возрождении древних знаний Сюй Гуанци изложил в предисловии к китайскому переводу Евклида. «До наступления эпохи Троецарствия математика процветала, и наши учителя передавали совершенные знания», – писал он. По его словам, к III в. до н. э. китайская философия и математика достигли расцвета. Именно тогда были написаны многие тексты, впоследствии вошедшие в «Четверокнижие» и «Пятиканоние» – своды канонических конфуцианских текстов, знание которых было обязательным для китайского чиновничества. К тому же периоду относятся такие классические математические труды, как «Математика в девяти книгах» и «Книга о числах и вычислениях». Но, как и в случае с древнегреческой наукой, эти знания были утеряны – «полностью уничтожены в пламени Дракона нашего прошлого». Сюй Гуанци утверждал, что эти знания можно восстановить с помощью европейцев, и Риччи был тому примером. «Почему бы нам не вернуть эти утерянные ритуальные знания через варваров?» – риторически вопрошал китайский ученый{135}.
Поэтому китайские ученые, такие как Сюй, подходили к переводам во многом так же, как и их европейские ученые-гуманисты. Они переводили древнегреческие тексты, но делали это с целью заново открыть утраченный мир знаний. И, подобно европейцам, они снабжали переводы комментариями и критикой, чтобы не только восстановить, но и улучшить оригиналы. Сюй Гуанци даже написал работу под названием «Сходства и различия в измерениях» (1608), где сравнил китайские и европейские математические методы. Он сетовал, что ранее китайская математика «излагала лишь методы, но не сумела изложить принципы», и совершенно верно указал на фундаментальный недостаток: большинство китайских математических рукописей были посвящены решению конкретных практических проблем, а не развитию обобщающих теорий. Однако без общей математической теории было трудно применять уже существующие знания к новым ситуациям и, как следствие, генерировать новые знания. Согласно замечанию одного из современников, «китайские математические тексты содержат только примеры, но никаких доказательств»{136}.
Польза древнегреческих трудов, как считал Сюй Гуанци, состояла в том, что они обеспечивали теоретический фундамент, которого недоставало китайской математике. Например, в «Началах» Евклида приводилось доказательство теоремы Пифагора, которая связывала длины сторон прямоугольного треугольника формулой a2 + b2 = c2. Сюй Гуанци отметил, что древние китайские математические тексты, в том числе «Математика в девяти книгах», содержали примеры использования этой теоремы на практике – но без доказательства. Читая Евклида, утверждал он, китайские математики смогут не только восстановить утраченные знания, но и усовершенствовать их. «Через обучение у западных людей мы возвращаемся к "Девяти книгам"», – писал еще один современник. Одним словом, Китай вступил в свой собственный Ренессанс{137}.
Тяжелая работа, которую проделал Сюй Гуанци, принесла свои плоды. В 1629 г. он был назначен заместителем министра по обрядам – это была одна из самых высоких должностей в китайской бюрократии. Так у иезуитов появился «свой человек» в китайской власти. Министерство обрядов отвечало за придворные и религиозные церемонии, а также за государственные экзамены. Кроме того, оно курировало одно из главных научных учреждений в Китае раннего Нового времени – Астрономическое бюро. В 1601 г. Маттео Риччи в своем дневнике красочно описал эту обсерваторию, которую можно посетить в Пекине и сегодня:
В одной стороне города, но в пределах его стен, есть высокий холм. Наверху холма построена просторная терраса, превосходно приспособленная для астрономических наблюдений. Вокруг стоят великолепные здания, возведенные в прежние времена. Каждую ночь несколько астрономов занимают здесь свои места, чтобы наблюдать за происходящим на небесах, будь то метеоритные огни или кометы, и затем подробно докладывают об этом императору.
Как следует из описания Риччи, деятельность Астрономического бюро имела не только научное, но и большое политическое значение. В Китае император считался «Сыном Неба»: он служил посредником между земным миром и небесным, обеспечивая гармонию между человеком, природой и Вселенной. На практике это означало, что император должен был выпускать ежегодный календарь, устанавливающий даты основных религиозных праздников, а также определяющий начало и окончание сельскохозяйственных сезонов. Таким образом, календарь был инструментом политической власти. Вассальные государства, такие как Корея, принимали китайский календарь, чтобы продемонстрировать верность императору Поднебесной. Но в то же время император, не сумевший предсказать какое-либо значимое небесное событие (например, затмение), был вынужден извиняться, а это ослабляло его позиции. Вот почему почти каждый новый властитель Поднебесной проводил реформу календаря, чтобы закрепить свое право на престол{138}.

Рис. 12. Астрономическое бюро в Пекине в XVII в. Многие научные инструменты украшены традиционными китайскими мотивами, включая драконов. Другие инструменты, такие как секстант (в верхнем ряду крайний слева), совмещают китайские и исламские элементы декора
Точно так же поступил и император Чунчжэнь (Чжу Юцзянь), заняв трон в 1627 г. Его сильно беспокоили предыдущие неудачи в предсказании важных небесных событий, включая серию затмений. В 1610 г. Астрономическое бюро неверно предсказало время солнечного затмения, ошибившись на полчаса. (Это может показаться несущественной ошибкой, но европейским и китайским астрономам удавалось рассчитать время затмения с точностью до минуты.) В последующие годы бюро не смогло правильно предсказать еще 10 затмений. Согласно конфуцианской философии, небесные неурядицы порождали беды на Земле. Предыдущие два императора недолго продержались на троне – один был отравлен менее чем через месяц после восхождения на престол, другой процарствовал всего семь лет. С севера на Поднебесную надвигалась серьезная угроза: маньчжуры вплотную приблизились к Великой стене. Встревоженный Чунчжэнь приказал Астрономическому бюро реформировать календарь{139}.
Сюй Гуанци ухватился за эту возможность и, воспользовавшись своей высокой должностью, обратился к императору с прошением назначить его руководителем реформы календаря. Он настаивал, что пекинским астрономам нужно учиться у иезуитов, а не только полагаться на существующие традиции. К тому времени проявилась фундаментальная проблема китайского календаря. Это был «лунно-солнечный» календарь: он требовал согласования продолжительности солнечного года и лунного месяца. Земле требуется около 365 дней, чтобы сделать оборот вокруг Солнца, а Луна тратит на оборот вокруг Земли 29 с небольшим дней, поэтому лунные месяцы, к сожалению, не складываются в солнечный год. Можно взять 12 лунных месяцев – это совсем близко, но для согласования этих двух календарей все равно придется время от времени вставлять дополнительные дни, иначе солнечный и лунный календарь со временем будут расходиться. Именно по этой причине при династии Мин астрономам становилось все сложнее предсказывать точное время небесных событий – затмений и не только{140}.
С этой проблемой столкнулись не только в Китае. В 1582 г. папа Григорий XIII обратился к иезуитам за помощью в реформировании христианского европейского календаря. Будучи опытными астрономами и служителями церкви, иезуиты как нельзя лучше подходили для выполнения этой задачи. Реформу возглавил уже знакомый нам Христофор Клавиус, наставник Риччи в Римском коллегиуме. Объединив новейшие математические методы и данные из астрономических таблиц Коперника, он закончил разработку григорианского календаря, который с тех пор используется во многих частях света. Как и в Китае, принятие григорианского календаря было возможностью продемонстрировать верность католической церкви – и, напротив, многие протестантские страны отказывались переходить на календарь Клавиуса вплоть до XVIII в. Иезуиты втайне надеялись, что император Чунчжэнь примет григорианский календарь, тем самым показав свою приверженность католицизму{141}.
