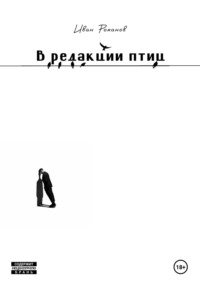Buch lesen: "В редакции птиц"
Авторское предуведомление.
Несмотря на то, что все рассказанное в этой книге – чистая правда, всякое совпадение с реальными событиями и людьми следует считать трагическим и, в то же время, нелепым совпадением.
Иван Романов.

Первая глава
Как-то раз в своем многотрудном пути по мирозданию случилось мне поработать ответсеком одного муниципального журнала о здоровой жизни. Это время вспоминается мне полным ярких впечатлений, событий, знакомств, кромешного идиотизма, человеческой низости и всего того, что вмещает в себя емкое слово «бардак».
Редакция наша была небольшой, недружной и состояла из людей с птичьими фамилиями. Был журналист Коршунов, стажерка Соколова, корректор Кречетова, верстальщик Снегирев, которого после увольнения сменила верстальщица Синицына. Месяц, перед депортацией в Эстонию, успела отработать выпредактор Гагарина. Еще был сисадмин Бекасов и литературный редактор Орлова. Глядя, как собачится эта птичья стая, я периодически угрожал взять себе псевдоним Иоанн ОрнитолОг (или Иштван Авгур, или Иоганн Ауспиций, или, на сербский манер, Йован Птицебей), но так ни разу не решился.
Каждый из этой стаи заслуживает отдельного рассказа, но сначала мы поговорим про Габриеллу Алевтиновну Орлову, женщину настолько своеобразную и противоречивую, что меня до сих пор при мысли о ней оторопь берет.
Габриелла Алевтиновна была кандидатом филологических наук и специалистом по серебряному веку, последнее выражалось главным образом в том, что Ходасевича она считала неудачником, Гуро – потаскухой, а стихи Хлебникова называла халдейской грамотой. Зато самозабвенно восхищалась Лившицем и, непонятно зачем, намекала, что у ее матери был с Бенедиктом Константиновичем страстный роман.
Выглядела Орлова под стать своему имени – вычурно и старомодно. Высокое и плоское тело ее было всегда облачено во что-то черное, при этом она никогда не носила брюк – только длинные (до пола) юбки. На голове у нее была копна рыжих с проседью волос, очень напоминавшая гнездо из медной проволоки. Речь Габриеллы Алевтиновны изобиловала словами навроде «бонвиван», «вакация», «адоратер» и даже «иеремиада».
Иеремиадами она называла жалобы, которые высказывал начальству ее заклятый враг – Вова Коршунов. Орлова и Коршунов ненавидели друг друга искренне и с удивительной самоотдачей – каждый из них (с полным на то основанием) считал другого бездельником, и малейшая трудность в процессе сдачи номера приводила к кратковременному, но бурному и нелепому скандалу. Вова обыкновенно называл Алевтиновну старой сукой, она, в свою очередь, апострофировала его хуями.
Служебные обязанности Габриеллы Алевтиновны заключались в литературном редактировании текстов, которые сдавали ей разного рода бездарности, т.е. я и Вова. Как правило, основной объем номера мы набирали за первые две недели месяца, и тогда, собрав все тексты, Габриелла Алевтиновна объявляла, что поработает над ними в тишине родного дома. В такие дни пить она начинала в обед и где-то в четвертом часу, уже хорошо поддатая, звонила мне:
– Иван, вы хам! Кто тот мерзавец, который внушил вам вашу нелепую уверенность, что вы – журналист? То, что вы мне прислали – просто позорище! У нас, конечно, не «Новый мир», но этот ваш опус – просто оскорбление для публицистики и русской словесности. Ехали бы вы к себе в Сибирь пасти ваших оленей. Ваш сахалинский слог только им и можно слушать. Ничтожество! Я умею править плохих авторов, но если у них есть талант. Вы безнадежный хам, ни единого проблеска! Вы слышите, гужеед?
Продолжать в таком духе она могла довольно долго и, иной раз, мне прямо хотелось конспектировать – так красиво она меня костерила. Но в большинстве случаев я не слушал и вовсе не из-за своей хамской натуры, а только потому, что утром следующего дня, она обыкновенно звонила мне с похмелья и про тот же самый текст говорила что-то вроде:
– Удивительно! Это просто удивительно, Иван. Такой талант и в нашем скромном издании. На вашей статье я отдохнула и глазами, и душой. Очень талантливо, глубоко, преисполнено любви к слову. В лучших традициях серьезной русской публицистики. И вы знаете, то, о чем вы пишите – действительно вдохновляет! Вот, например: «новые турники появятся на всех детских площадках района Хамовники». Это же означает, что заняться спортом сможет каждый! Как мало нужно, чтобы воссияло лицо добродетели! Очень, очень хвалю Иван, рука не поднимается вас править.
– Спасибо, спасибо Габриелла Алевтиновна. В краску меня вгоняете. Я вам еще один текстик отправил, не сочтите за труд…
– Конечно-конечно! С превеликим удовольствием!
А в начале четвертого опять звонок:
– Нет! Это невозможно! Вы просто хамский хам!..

Вторая глава
По своей комплекции Вова Коршунов был весьма тучным и округлым, да и по складу характера – обтекаемым и мечтательным. Обычно, не растрачиваясь на вредные привычки, он с каждой своей (надо сказать, очень маленькой) зарплаты покупал себе мерзавчик коньяку и сигару. Когда я спросил – зачем, он сказал, что проводит вечер как лорд.
Трудно сказать, как он стал журналистом, но став им, о большем, кажется, не мечтал. Писал он много и медленно, часто скатываясь в стилистику перестроечных аналитиков: «Вот студент в клетчатых штанах идет по бульвару. Что ждет его завтра? Неизвестно…» Чаще всего ему выпадало писать про инвалидов, которых он в своих статьях неизменно называл «людьми с неограниченными возможностями», а в редакции жаловался, что все они плохо пахнут и разводят дома бардак. Что он действительно любил, так это репортажи с утренников и семейных праздников (типа «Мама, папа, я – самая спортивная 7Я района Зюзино-Мурзюзино (ЮЗАО»), там он находил кучу тем и расходился в тексте так, что залезал на чужие полосы.
Вообще, Вова в любой момент мог устроиться в пресс-службу того министерства, по заказу которого мы выпускали журнал о здоровом образе жизни, но единственной его карьерной амбицией была моя должность. Вернее нет, свою должность я себе сам придумал, а Вова и до моего прихода хотел стать главным, чтобы командовать Орловой. Впрочем, никаких реальных шагов для достижения мечты он не делал.
Интриговать он совершенно не умел, потому что всегда соглашался с собеседником. Например, я говорю: «Как же мне надоел наш системный администратор Бекасов! Отчего он вечно с бодуна и пахнет «Беломором»? Чем он вообще занят, кроме нытья о возрасте наших компьютеров?» Вова тут же соглашается со мной относительно своего старого приятеля: «Он же алкаш, каких мало! Он две семьи бросил! Совершенно неорганизованный человек! В своей жизни все сломал и у нас порядка не наведет!» Тогда я говорю: «Ну, он же инженер с высшим образованием. Ну и что, что он не знает, что такое «гуглхром» – с нашей рухлядью должен работать спец от старой школы!» И Вова тут же откликается: «Да, он настоящий мастер своего дела! Он в компьютерных деталях разбирается!» Я: «Но вообще, он мудак!» Вова: «Конечно мудак! И пьянь настоящая!» Я: «Но человек он все-таки хороший», Вова: «Свой парень, что и говорить!»
В таком ключе Вова мог поддерживать беседу на любую тему бесконечно долго, если, конечно, не засыпал. А засыпал он часто. Его вес вовсе не выглядел лишним (он казался естественно толстым), но очевидно сказывался на подвижности и бодрости. В дни летнего зноя он то и дело, против своей воли, скатывался в сон прямо за компьютером. Выглядело это так: склонившись над клавиатурой, Вова мучительно гнал листаж по итогам какой-нибудь пресс-конференции. «100 школьников Центрального административного круга нашей столицы отправятся этим летом на побережье Черного моря, – писал Вова, и буквы начинали расплыться перед ним, – Как проведут они короткие каникулы? Будем надеяться весело и с пользой для…» И все, – веки смыкались, голова медленно запрокидывалась, грузная спина надавливала на хрупкую спинку офисного кресла. И вот он уже в душном автобусе, стремящемся по серпантину из Туапсе в Шепси. Далекое еще море слепит глаза нестерпимо яркими бликами и совершенно невозможно дышать горячим воздухом, но внутри трепещет волнение от скорого начала другой, отпускной жизни и гордость за самого себя, что вот, мол, выбрался, сумел, заслужил и вообще краса… Но тут придавленная спинка кресла обиженно (и в тоже время предательски) вскрикивает и Вова снова оказывается в пыльной, заваленной макулатурой редакции, а напротив сидит нагло-рыжая Орлова и ехидно ржет.
– У меня давление пониженное! На такой жаре мне… – Начинал оправдываться Коршунов, но бывал тут же перебиваем Габриеллой Алевтиновной:
– У вас леность повышена, Владимир! В конце концов, это просто неприлично! Люди заняты творчеством, а вы храпите как татарская лошадь. Примите какие-нибудь меры к повышению давления. Мне же потом читать эти ваши, в бессознательном состоянии сочиненные, извития словес… Нет, Иван, ну полюбуйтесь – он опять уснул! Невозможный охламон…
В целом же Вова был человеком инфантильным и незлобивым, отчего регулярно притягивал к себе человеческую подлость. Как-то раз судьба и вышестоящее руководство отправили Вову (в репортерских целях) сопровождать юных послушников какого-то пионерского лагеря в экскурсионной поездке в старинную усадьбу Большие Козлины.
Вместе с подростками Вова несколько часов бродил по усадьбе, слушал и дополнял экскурсовода, активно фотографировал, записывая на диктофон, расспрашивал школьников о впечатлениях. Когда же всем дали 20 минут прогулки перед обратной дорогой, он, решив дать отдых ногам, присел на скамейке и вдруг заметил, что при таком послеполуденном солнце белый камень барского дома цветом своим удивительно напоминает мелкую гальку, которая покрывает самый желанный и самый далекий на свете пляж. Там нестерпимо жарко, но с моря набегает соленый ветер и заставляет придерживать соломенную шляпу. И вроде бы нет уже смысла шататься в поисках места получше – кругом хорошо, но и остановиться нет сил – что-то манит в длящемся, сколько есть взгляда, пейзаже, разделенном на берег и море. А вот и торговец холодным лимонадом, загорелый и любезный. А сколько интересного в чайках, важно оседлавших облепленные водорослями валуны. Но самое волнительное, что это не конец не последнего дня, что можно еще… Короче, проспал он той скамейке часа два.
Экскурсия, естественно, уехала без него. Обиженный, растерянный и смущенный он отправился домой своим ходом – выспросил номер маршрутки до вокзала, там сел на электричку и сорок минут в ней трясся, досадуя от своей рассеянности и неустроенности. Только на Белорусском вокзале, зайдя в туалет, он обнаружил, что на лбу у него красным маркером написано «Кот*», а на щеках нарисованы довольно длинные усы. Он, конечно, все это смыл (вернее, размазал по роже), но от статей на детские темы с тех пор стал уклоняться.
*конечно же там было написано «хуй», но кошачьи усы ему тоже зачем-то нарисовали.

Третья глава
Однажды у Габриеллы Алевтиновны случился запой. Не такой запой, который я описывал ранее – пару дней не просыхать – это ничего страшного, у всех бывало. В тот раз она реально ушла в автономку недели на три. Поначалу не отвечала на звонки, потом стала сама, вдрызг пьяная, названивать всем сотрудникам и рассказывать, что ее второй муж выгодно отличается от первого наличием криминального прошлого. Но где-то через неделю снова пропала, и связаться с ней уже было совсем невозможно. В чем уж там была причина, я не знаю, и вообще не уверен, что для запоя непременно нужны какие-то весомые оправдания, и я бы может вообще об этом не упоминал, да только именно в этот период в нашем маленьком и никому не нужном журнале появилась (и заняла позицию выпредактора) Ольга Гагарина.
Внешности она была вполне рядовой, во всяком случае, я не запомнил каких-то ярких черт – (невысокая, стандартной полноты, короткое каре, очки, любовь к цветочным орнаментам на жакетах), а вот ее голос с вечно сожалеющей интонацией помню четко. Журналистский опыт ее был бессистемен, но богат. В 90-е годы немного работала в редакции новостей на эстонском телевидении, потом редактировала «Молодежь Эстонии», выпускала какую-то заводскую многотиражку. И нигде, как мне кажется, не преуспела, поскольку сумела сохранить весьма туманное и наивное представление о профессии.
Ольга была негражданкой Эстонии и очень этого стеснялась, а потому преподносила как предмет гордости. Полагая (не без оснований), что этот факт возбуждает интерес окружающих. По моим наблюдениям интерес окружающих к ее статусу был в основном связан с вопросом наличия у нее разрешения на работу, она же была уверена, что все вокруг обеспокоены положением русскоязычного населения Прибалтики и спешила развенчать укорененные в сознании обывателей мифы.
– Так у вас, получается, гражданства нет? Ни российского, ни эстонского?
– Да. Нет. Я негражданка Эстонии – это особый статус, но вы знаете, он совсем не мешает жить. У вас пишут, что это притеснение и поражение в правах – это не правда. У меня нет политических амбиций, я не собираюсь в депутаты и нормально живу, купила дом. У меня просто времени нет натурализацию проходить, но вообще, это совсем не сложная процедура. Те, кто переживают из-за статуса не граждан, или знаете, как еще говорят – негров – они больше сами себе проблемы создают. Давно бы могли получить гражданство. Эстонский язык совсем не…
– Женщина! Я пропуск оформляю! Для граждан других государств особый порядок. Люда?!! Если негражданка Прибалтики, как писать?.. Российского нету!.. В Прибалтике она не гражданка!.. Да еб твою мать!!! Нету российского, говорю же!
В столицу Ольга приехала не на заработки, а чтобы быть поближе к сыну, который приехал на заработки и пригласил безработную мать погостить на лето. Несмотря на то, что гостила у сына она, снимая отдельную комнату в другом районе столицы, положение собственных дел ее в целом устраивало. Говорила, что кровинушка ее хорошо устроился – стал инженером по охлаждению чего-то в Яндексе, вот-вот получит российское гражданство (без которого вполне можно прожить) и даже скоро женится. Или наоборот…
С коллективом Ольга сошлась довольно быстро. Коршунов поначалу был с ней удивительно осторожен и деликатен в формулировках, но вскоре понял, что Ольга, в отличие от всех остальных, действительно слушает, что он говорит – и растаял. Верстальщик Снегирев, тоже недавно влившийся в наш небольшой недружный коллектив, предпринимал в отношении своей начальницы, не то, чтобы робкие, скорее неумелые попытки ухаживания, от которых она безболезненно отшучивалась. Со мной Ольга, вроде, пыталась сдружиться, но поняв, что я не представляю для нее опасности, успокоилась и перестала предлагать мне домашние салатики и бутерброды. Вообще, мне в тот период жизни было решительно насрать на окружающих и тем более на журнал, в самом факте существования которого я чувствовал некий подвох. И ведь как прав оказался! Но об этом потом…
Для того чтобы понять, почему столь любезный всем человек так мало протянул в нашем издании, нужно понять, что именно мы издавали. Журнал, назовем его «Образование в здоровом образе жизни» (степень нелепости настоящего названия была приблизительно такой же) выполнял функции печатного органа одного министерства и был, по сути, сборником расширенных и дополненных пресс-релизов, сдобренных кучей дрянных фотографий. Формально не принадлежавший государству, но выпускаемый за счет казны, журнал строго контролировался высокопоставленной министерской пресс-секретаршей по имени Жасмин. Она просматривала каждый выпуск перед публикацией, внимательно следя за тремя вещами: 1. Любая фотография министра должна была располагаться вверху страницы (выше любой другой). 2. На фотографиях не должно быть затылков. 3. Все остальное должно нравиться.
Индивидуальные заскоки девочки, которая мается от бессмысленности собственного труда, Ольга была склонна распространять на все население России:
– Сколько же в русских раболепства. У нас в Эстонии такого чинопочитания нет, хотя у нас была советская оккупация, а у вас – нет.
– Парадокс, ага. Но вообще, она заказчик. Имеет, я думаю, право фотку выбрать.
– Но ведь это вмешательство в редакционную политику!
– Во что вмешательство?
И вот как-то раз выпало Ольге идти на пресс-конференцию одного важного для журнала чиновника, назовем его Аркадий Аксакович Хачатурян. Он был человеком в аппаратном плане сильным, а по части поддержки подопечных – непотопляемым. Общаясь с журналистами, Аркадий Аксакович обмолвился о том, что, как и тысячи жителей столицы, получает пособие для многодетных семей.
– А на каком основании вы его получаете?! – Преисполненная репортерского азарта, продемонстрировала Ольга свою журналистскую хватку.
– На том основании, что у меня шестеро несовершеннолетних детей. – Спокойно ответил Хачатурян, и хотел было уже продолжить оборванную мысль, но Ольга не унялась.
– Но вы же чиновник! Пособия для бедных, а вы ведь зарплату получаете.
– Пособия для многодетных семей выдаются не бедным, а многодетным семьям. У меня многодетная семья и я получаю пособие для многодетных семей.
– Но у вас ведь есть зарплата! Откажитесь от пособия в пользу малоимущих.
– Да, у меня есть зарплата. А малоимущие семьи получают пособие для малоимущих семей. – Отвечал Аркадий Арсакович, на глазах превращаясь в эталонный образец смирения. Коллеги-журналисты смотрели на Ольгу с неодобрением, а некоторые даже фыркали.
Уже вернувшись в редакцию, Ольга все продолжала наигранно удивляться:
– Ну, послушайте – он же чиновник, он же ворует! Куда ему еще и пособие? Чудно у вас в России, чудно…
Но было уже поздно – фрагмент этих препирательств показали по каким-то столичным новостям, и его собственными глазами наблюдала похмельная Орлова, тут же позвонившая начальству. И вот тут-то и выяснилось, что разрешения на работу у Ольги нет. Правда, бухгалтерша Журавлева никого официально не оформляла, чтобы налоги не платить, но это уже детали. Главный редактор (и муж бухгалтерши) Виталий Игоревич Журавлев, сделал вид, что возмущен выходкой Гагариной и выгнал ее. Тут же вернул счастливо оклемавшуюся Орлову и сказал, что все теперь будет по-новому, ибо у него появилась отличная мысль.
P.S. Примерно месяц спустя Ольга написала мне письмо, предложив сотрудничество. По ее задумке, я должен был стать выпредом корпоративного журнала какой-то канцелярской компании, а Ольгу нанять в качестве журналистского негра и платить ей гонорары из своей большой зарплаты. Я отказался и до сих пор не уверен, что правильно поступил.

Четвертая глава
Первой преградой на пути осуществления гениального плана Виталия Игоревича Журавлева стали три человека: я, Мишенька и Министр обороны.
Редакция нашего никому ненужного журнала располагалась на антресолях большого старинного здания в центре столицы. Из окна просторного, но изрядно захламленного кабинета была очень хорошо видна близкая стена соседнего здания, а из карниза рос молодой тальник. В самом кабинете было шесть столов с компьютерами, штук восемь шкафов и стеллажей, до предела забитых невостребованными журналами и, конечно же, маленький холодильник, который запрещено было открывать – такой рано или поздно появляется в любой редакции.
Отдельный угол занимали обильные остатки тиража книг и брошюр Виталия Игоревича. О, это было сильно впечатляющее чтиво на темы воспитания детей и развития мировой культуры. При полном отсутствии дефиниций, автор умудрялся дерзко противоречить формальной логике и временами поражал внимательного читателя полным отсутствием структуры повествования. Но к его трудам мы еще вернемся.
В другом углу кутался в пыль картотечный шкаф, на котором стоял бронзовый бюстик академика Чебышева (Виталий Игоревич упорно называл его Вернадским, а Орлова – Герценым) и треснувшая ваза с гербарием из стеблей гвоздики.
Еще была свалка компьютерных корпусов и деталей, которую Бекасов обещал разобрать, но только пополнял. И всюду журналы, журналы, журналы – выпуски лет за 5-7, пачками и в одиночку разбросанные, сбитые в стопки или упрятанные в тумбочки.
И вот все это нам предстояло перевезти, ибо министр обороны забирал все здание целиком в пользу какого-то военного училища. Так что мы (я, Вова и сисадмин Бекасов) готовились к переезду – складывали все поближе к двери, когда мне вдруг позвонил Журавлев и попросил зайти к Мишеньке, чтобы тот дал фото на обложку уже готового к печати номера.
Мишенька промышлял чем-то вроде арт-дилерства и, не понятно зачем, арендовал соседний кабинет. Вообще Михаил Иосифович был довольно колоритным персонажем. Лет за 10 до нашего знакомства он женился на весьма посредственной и малоизвестной, но трудолюбивой и непривередливой художнице, назовем ее София Любомировна Хрустальная, работы которой стал продавать всеми правдами и неправдами. Чтобы вы понимали, картины Хрустальной выглядели так, как если бы Глазунов решил подделать Шилова – салонный елей, обескураживающая прямолинейность подачи и всегда неуместный, почти трагический пафос. Вы замечали, что на портретах кистей Шилова у всех персонажей глаза одинаковые? У него, видимо, шаблон есть, вокруг которого он лица малюет. Но мы отвлеклись.
Хрустальная тоже часто писала портреты разных знаменитостей и общественных деятелей и Мишенька их дарил, втягивая супругу в светскую тусовку. Лестничный пролет, ведший на наш последний этаж, был сплошняком залеплен фотографиями Софии Любомировны, вручающей картину кому-нибудь. Там были все – от Долиной и Жириновского, до Михалкова и патриарха Алексия II. Но основную часть репертуара Хрустальной составляла жанровая живопись интерьерно-салонного посола. Например, сюжет про старого хасида, который слушает мальчика скрипача, я видел у нее не менее шести раз – видимо хорошо продавался.
Уже много лет Хрустальная жила где-то в Америке, кажется, вместе с сестрой, а Мишенька тусовался в столице, мошенствуя где только можно.
Тут надо пояснить, что у нашего журнала был еще и так называемый федеральный выпуск, не имевший отношения к государственным деньгам и распространявшийся сугубо по подписке. Подписчиков было 302 человека, тираж журнала редко превышал 315 экземпляров. Печатались там преимущественно статьи Орловой о памятниках и композиторах и непонятные длинные рассуждения Журавлева о чем-то.
– Иван, Ваня, Ванечка, Ва-ню-ша! – Приветствовал меня Мишенька, встал из-за фортепиано, залихватски тряхнул патлами, хлопнул рюмку коньяку, стоявшую на крышке инструмента, и широким жестом указал мне присаживаться к письменному столу, на котором стояла скудная, но респектабельная закусь и пузатая бутылка.
– Что это вы Михаил Иосифович в середине дня и в одиночку? – спросил я, делая вид, что мне не хочется выпить.
– Почему в одиночку? – удивился Мишенька и налил мне. – Журавлев сегодня будет? Нет? Ну и Бог с ним! Давай за… А хотя Журавлев же в Бога не верит. Он в каких-то индусских духов верит, брахманов всяких. А ты веришь? Православный? Ну вот! За много-кон-фе-сси-о-нальность!
Я закусил шпротинкой, а Мишенька сел к фортепиано, коротко наиграл что-то веселое и торжественное и снова вернулся к столу.
– Ваня, а Орлова доступна сейчас? – тоном нервного заговорщика поинтересовался он. – Возьми у нее статью про Хрустальную, она выходила уже в прошлом году, вот прям как есть возьми. Возьми и поставь в номер, очень тебя прошу с Журавлевым договорились, а на обложку…
Мишенька, встал и отвернул от стены средних размеров полотно. Оно изображало мужчину восточной внешности в халате и тюрбане, держащего в руках книгу. Он стоял на фоне белокаменной стены, по которой струилась арабская вязь. Взгляд мужчины был устремлен вдаль и преисполнен решимости.
– Кто это? – Спросил я, представляя, как будет смотреться этот мусульманин под нашей шапкой «Образование в здоровом образе жизни».
– Это очень известный муфтий. В большом авторитете! Богослов почти как Шнеерсон! – С улыбкой сказал Мишенька и разлил. – Я тут с дагестанским бизнесменом познакомился, планирую, что он захочет этот портрет муфтию в подарок преподнести, понимаешь? Клиент сам должен решить расстаться с деньгами. Давай за обложку, чтоб хорошо напечаталась!
Подняв стопку, он вдруг осекся, вернул ее на стол и, прежде чем выпить, снова поставил муфтия лицом к стенке.
Переезд наш проходил медленно и неправильно. Вместо того, чтобы все сжечь и начать с чистого листа, мы методично выгребали мусор и хлам из всех углов, и Вова тут же заявлял, что все это обязательно нам пригодится. Бекасов ему хрипло поддакивал. Кроме того, они настаивали, на том, что все журналы нужно перевезти в новое помещение, ибо вдруг за ними придет какой-нибудь воображаемый читатель-коллекционер.
Оказалось, что кабинет хранил много странных вещей, нашлось: 4 пары женских туфель (все разных размеров), светло-зеленый детский плащ, сломанный утюг, дуршлаг, колесо от швейной машинки. Но самой странной находкой была непрозрачная, матово-черная и непочатая бутылка водки, обнаружившаяся в столе у Вовы.
– Мы разопьем ее, отмечая переезд! – Предрек я. Однако Вова испуганно возразил:
– Нет, я берегу ее для особого случая, например для Нового года!
– Ты заставляешь коллег таскать никому ненужные журналы и даже не готов поделиться с ними водкой!
– Журналы очень нужны! Бывает, так что кто-нибудь приходит и просит старый экземпляр – и мы раздаем!
– Нам не нужно тащить 50 экземпляров, чтобы отдать один, тем более, если за ним никто не придет. А водку ты просто зажимаешь самым не товарищеским образом.
– Давай так, если в течение месяца мы никому не отдадим ни одного экземпляра, то разопьем эту бутылку! Так и быть!
Каморка, в которой нам теперь предстояло работать, была спрятана внутри изящного кирпичного домика, некогда принадлежавшего какой-то иезуитской школе. Теперь же там теснились сомнительные организации без вывесок. Весь второй этаж непонятно у кого арендовал мужчина, торговавший какими-то присадками для дизельного топлива. Сам он занимал один небольшой кабинет, а все остальные небольшие кабинеты сдавал за сущие гроши проходимцам вроде нас.
Новая редакция была приблизительно на три четверти меньше прежней. Кое-как расставив столы вдоль стен и распихав пожитки в стенной шкаф, обрамлявший дверь, мы обнаружили очевидное – вещей у нас было гораздо больше, чем сводного места. Поняв, что вот сейчас я точно выброшу не поместившиеся в шкаф журналы, Вова проявил несвойственную ему предприимчивость и опасную в тесном помещении расторопность. Поговорив с арендодателем, он выпросил у него аж шесть подвесных ящиков, от какого-то советского гарнитура типа «стенка». Откуда они там взялись, я не знаю, там вообще всякого хлама было в избытке, но только, вступив в сговор с сисадмином Бекасовым, Вова принялся карандашом размечать на стенах линии, вдоль которых повиснут эти самые ящики.
Я же усадил Снегирева верстать обложку. Поставить фотографию картины под шапку журнала дело, прямо скажем, не пыльное, вот только статья про Софию Хрустальную, к которой это фото относилось, была озаглавлена: «Искры Небесного огня», а на обложке был муфтий, а верстальщик Снегирев был идиотом который отчаянно пытался показать окружающим богатство своего внутреннего мира. Жена его тоже увлекалась подобными вещами и именно на этой почве они и развелись и с тех пор… впрочем, об этом в другой раз. Короче он поставил фото, скинул верстку на хард и я отправился в типографию, перед уходом уточнив у остававшихся:
– Коллеги, а вы отдаете себе отчет в том, что вкручиваете саморезы в декоративную деревянную панель, установленную в начале прошлого века?
– Иван! – Ответили они мне едва не хором, – мы старше тебя, кое-какой опыт в ремонте имеем. Все-таки, Иван, мы постарше, и не везде тебе нужно командовать, ведь у нас есть опыт, поскольку мы постарше тебя.
В типографии выяснилось, что верстальщик Снегирев, в порыве творческого идиотизма, отразил картинку на обложке, в результате чего отзеркалилась и арабская вязь на стене за спиной муфтия. Чтобы не ставить жизнь Мишеньки под угрозу я матом пригласил Снегирева приехать к нам с новой полосой, а сам стал возвращаться в редакцию.
Die kostenlose Leseprobe ist beendet.