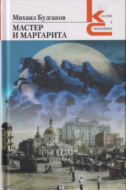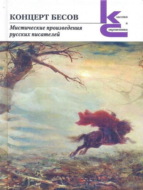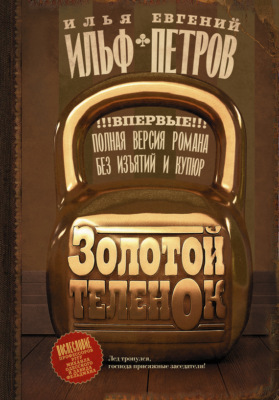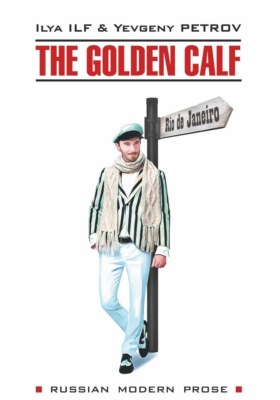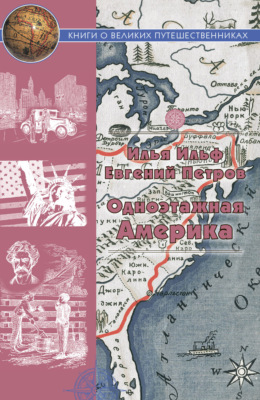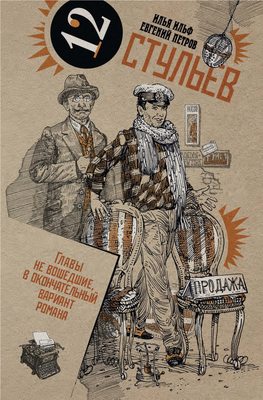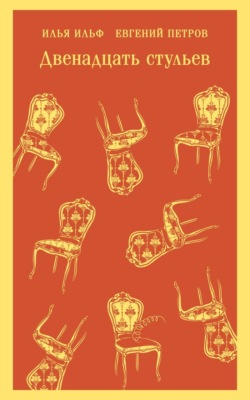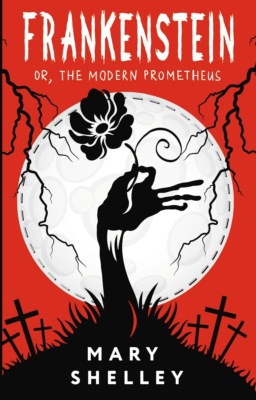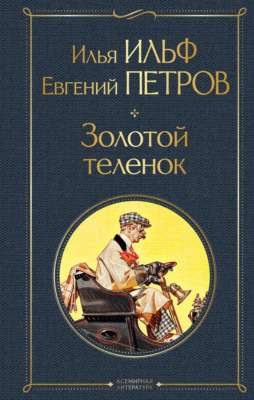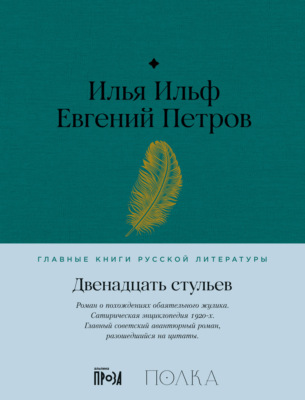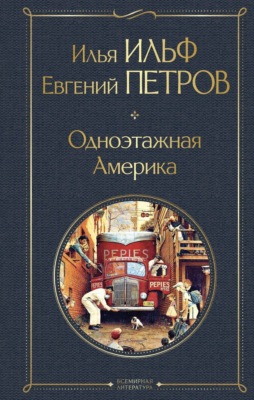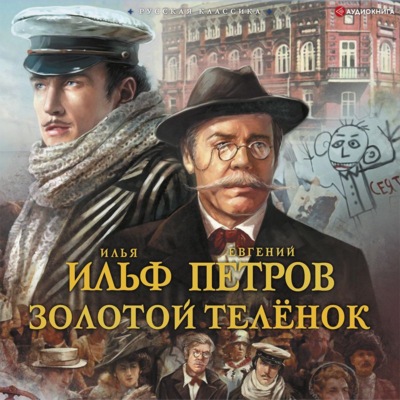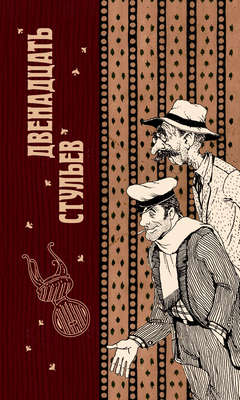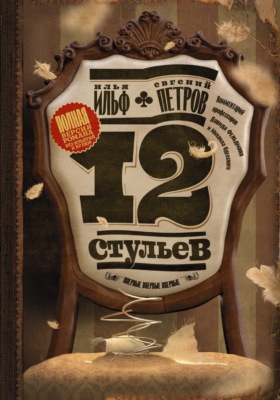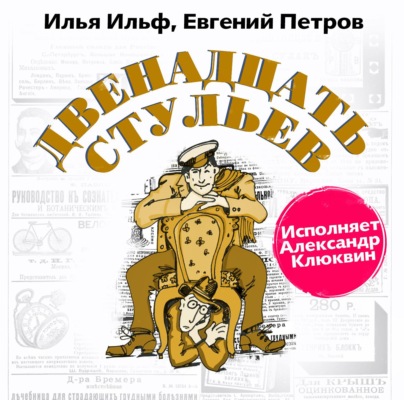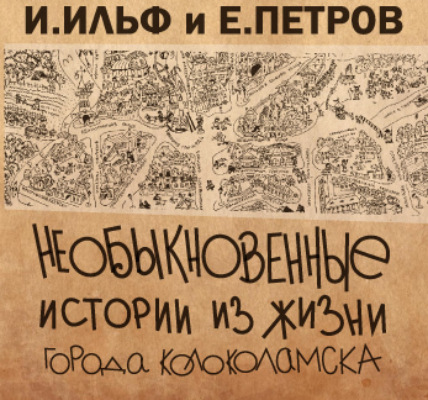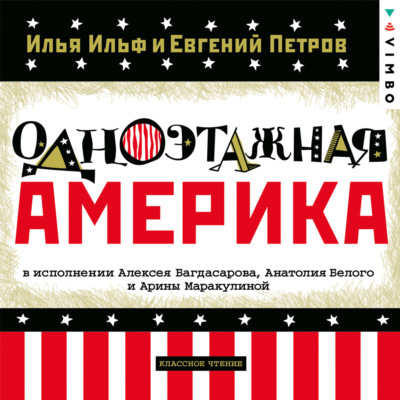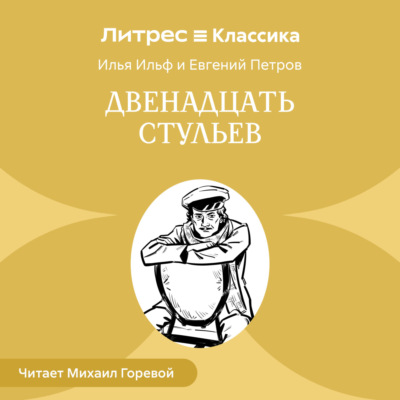Buch lesen: "Золотой теленок"

© Оформление Т. Костерина, 2025
© Издательство «Художественная литература», 2025
© Киноконцерн «Мосфильм», 1968.
«Дышите глубже: вы взволнованы!..»
Писателей, самых знаменитых сатириков советской эпохи, написавших в соавторстве прославленные произведения «Двенадцать стульев», «Золотой теленок», «Одноэтажная Америка», связывало не только совместное творчество: оба родились в столице юмора Российской империи Одессе – Илья Ильф в 1897 году, а Евгений Петров на 5 лет позже, в 1902-м. Хотя в родном городе они ни разу не пересекались, будущие писатели прибыли в Москву практически в одно и то же время и познакомились именно там.
Настоящее имя Ильи Ильфа – Иехиель-Лейб Файнзильберг. По воспоминаниям Юрия Олеши, свой псевдоним Илья составил из первых букв фамилии и имени и начал под ним печататься задолго до сотрудничества с Петровым.
Фамилия Евгения Петрова тоже псевдоним. Его родным братом был Валентин Катаев – тот самый писатель, который подарил нам сказку «Цветик-семицветик», повести «Сын полка» и «Белеет парус одинокий». После некоторых раздумий Евгений Катаев решил, что раз уж брат стал достаточно именитым писателем, то ему придется придумать себе другое имя, чтобы подписывать свои произведения… и назвался… Евгением Петровым. Правда, потом пожалел, что не сообразил взять что-нибудь более звучное в качестве вымышленного имени.
Иехиель-Лейб – третий из четверых сыновей Арье и Миндль Файнзильбергов. Глава семьи, скромный служащий Сибирского торгового банка, мечтал дать сыновьям приличное образование. Старшего отпрыска Саула видел бухгалтером, но тот после учебы в коммерческом училище назвался Сандро Фазини и стал художником-кубистом (позже переехал во Францию, погиб в Освенциме). Второй сын – Мойше-Арон – тоже ушел в искусство, подписывая полотна творческим псевдонимом Ми-Фа.
Горький опыт и напрасно потраченные деньги подсказали Арье не вкладывать сбережения в обучение третьего сына в дорогом коммерческом училище, поэтому Иехиель-Лейб стал студентом ремесленного училища, где не было «лишних» (по мнению старого Арье) предметов, вроде рисования или занятий музыкой.
16-летний юноша, получив образование, порадовал отца: прошел путь от токаря до мастера кукольной мастерской, а в 1919 году сел за бухгалтерские отчеты в финансовом отделе губернской продкомиссии, ведавшей снабжением Красной армии. Позже опыт работы в этой организации Илья Ильф использует, описывая события в конторе «Геркулес» в «Золотом теленке». Параллельно писал стихи и постепенно приобрел некоторую популярность среди одесских поэтов.
Но мечты отца разбились, когда 23-летний Иехиель заявил, что службу он бросает, теперь его призвание – литература, и он уже вступил в «Коллектив поэтов», самообразованный кружок одесских поэтов, некоторые из которых помимо стихов писали и прозу, впоследствии прославившись именно как прозаики (Юрий Олеша, Валентин Катаев). БоLльшую часть дня Иехиель-Лейб отныне лежал на кровати и мечтал, теребя жесткий завиток волос на лбу. Писать ничего не писал – разве что сочинил себе псевдоним: Илья Ильф.
Во время Гражданской войны, летом 1919 года, из-за наступления деникинцев под ружье поставили даже негодных к строевой службе. Тогда в составе красноармейского караульного полка, сформированного из призывников (у всего личного состава, как и у Ильфа, было слабое зрение, солдаты носили очки, блестевшие на солнце, – поэтому полк прозвали «стеклянным батальоном»), Ильф принимал участие в боях с частями вооруженных сил Юга России (главнокомандующий – генерал-лейтенант Антон Деникин).
В 1923-м сбылась мечта провинциала: он добрался до Москвы. С первой работой помог Валентин Катаев: став именитым литератором, он устроил коллегу по одесскому поэтическому сообществу в газету «Гудок».
Илью Ильфа взяли правщиком никем не читаемой 4-й полосы, где он переделывал письма малограмотных трудящихся в острые заметки с мест. За первые недели работы Илья превратил полосу в самую популярную, наполнив ее едкими фельетонами на злобу дня. Под рабкоровскими заметками стояли подписи авторов, но, обработанные Ильфом, по выразительности и насмешливой язвительности они узнавались мгновенно.
А потом тот же Катаев познакомил Ильфа со своим родным братом Евгением, носившим к тому времени псевдоним Петров.
Евгений – второй ребенок в семье Петра Васильевича и Евгении Ивановны Катаевых. Отец служил преподавателем в епархиальном и юнкерском училищах, мать – пианистка, выпускница Одесской консерватории, умерла от воспаления легких через несколько месяцев после рождения второго сына. Маму осиротевшим мальчикам и хозяйку в доме заменила ее старшая незамужняя сестра Елизавета Ивановна.
Юность Евгения пришлась на лихолетье Гражданской войны. В 1918–1920 годах власть в Одессе менялась как в калейдоскопе картинки. Весной 1920 года братьев Катаевых арестовывают чекисты, подозревая в участии в белогвардейском заговоре. Старший брат Валентин посоветовал младшему на год уменьшить возраст, чтобы избежать смертной казни. С тех пор Евгений еще долго писал в анкетах неверную дату рождения – 1903 год. Их спас чекист Яков Бельский, который работал художником в советских учреждениях Одессы, рисовал революционные плакаты. Параллельно служил в военной контрразведке. После занятия деникинцами Одессы перешел на нелегальное положение. В 1920 году, после возвращения большевиков, начал службу в Одесской ЧК в качестве разведчика, дослужился до должности начальника губернской разведки.
Он запомнил Валентина Катаева, участвовавшего ранее в большевистских митингах 1919 года. Благодаря вмешательству Бельского, после полугодового заключения, в сентябре 1920-го, Катаевы вышли на свободу.
Старший Катаев вскоре уезжает в Харьков (тогда столицу советской Украины), затем в Москву, чтобы кормиться литературным и журналистским трудом. Перебравшись в Москву, он стал перетаскивать туда друзей и вскоре перетянул весь южнорусский одесский литературный кружок – Эдуарда Багрицкого, Илью Ильфа, упомянутого уже Юрия Олешу. В Москве он не оставлял своих протеже без внимания, всячески помогая им обустроиться.
Младший брат Евгений остается в Одессе. И голодает вместе со всей Украиной. От литературного творчества он все еще далек – идет работать в уголовный розыск. Нравы той бурной эпохи еще позволяли такое – выйти из чекистской тюрьмы и стать сотрудником угрозыска. Позже, уже став Петровым, Евгений Катаев шутил, что его «первым литературным произведением был протокол осмотра трупа неизвестного мужчины». Жизнь его опасна и беспокойна. Как-то брали банду. Евгений распахнул дверь на чердак и замер – главарь целился прямо в него. В бандите Женя узнал своего однокашника, восходящую звезду одесского футбола Сашу Козачинского. Козачинский не выстрелил в друга – сдался. А Евгений потом добился, чтобы смертный приговор для Козачинского заменили тюремным заключением.
Валентин, живя в спокойной и относительно сытой Москве, с ума сходил от тревоги, по ночам видел страшные сны о брате, сраженном из бандитского обреза, и всячески уговаривал того приехать, пообещав поспособствовать с устройством в Московский уголовный розыск. В 1923-м младший Катаев прибыл в Москву и устроился на работу надзирателем в тюремной больнице в Бутырке. Первое время жил у брата, иногда ночевал у друзей, где и познакомился с соседом по коммуналке Ильей Ильфом. Позже Валентин хитростью заставил брата написать юмористический рассказ, который назывался «Гусь и украденные доски», пробил его в печать и путем невероятных интриг добился весьма высокого гонорара. Так Евгений попался на «литературную удочку». Сдал казенный наган, приоделся, пополнел и завел приличных знакомых. Вот тут-то Катаеву и пришла в голову великолепная мысль – объединить двух начинающих писателей, заставив оттачивать писательское мастерство в качестве «литературных негров». Предполагалось, что они будут разрабатывать для Катаева сюжеты, а он потом, хорошенько отредактировав написанное, на титульном листе поставит свое имя. Сюжетом, который предложил Ильфу с Петровым Катаев, стала авантюрная история спрятанных в стуле сокровищ.
Молодые люди с энтузиазмом согласились. Обычный рассказ превратился в роман с захватывающим сюжетом. Они показали рукопись Катаеву, который был поражен написанным и порекомендовал издать роман «Двенадцать стульев» под собственным их авторством. Так друзья проснулись знаменитыми.
Но писательский труд оказался невероятно тяжелым. Петров вспоминал: «Мы знали с детства, что такое труд. Но никогда не представляли себе, как трудно писать роман. Если бы я не боялся показаться банальным, я сказал бы, что мы писали кровью. Мы уходили из Дворца Труда (там располагалась редакция «Гудка») в два или три часа ночи, ошеломленные, почти задохшиеся от папиросного дыма. Мы возвращались домой по мокрым и пустым московским переулкам, освещенным зеленоватыми газовыми фонарями, не в состоянии произнести ни слова. Иногда нас охватывало отчаяние».
В 1931 году, два года спустя, в журнале «30 дней», был опубликован роман «Золотой теленок». Его предсказуемо ожидал грандиозный успех. Впрочем, не всем роман пришелся по вкусу. Критиковать советскую власть в то время было не модным. А уж высмеивать? А тогда, напомню, шел 1931 год… Передовицы запестрели разгромными статьями, но народную любовь к творчеству двух знаменитых сатириков это остановить не могло. К слову, второй роман помог опубликовать лично Максим Горький, и скорее всего без его протекции ничего бы не вышло.
В середине 30-х годов Ильф и Петров – корреспонденты «Правды» – совершили невероятное: они отправились в четырехмесячную поездку по Америке. Итогом стал сборник очерков «Одноэтажная Америка». Книга вышла в 1936 году и стала первым совместным сочинением, написанным литераторами порознь. Из-за болезни Ильи Арнольдовича друзья писали главы, не встречаясь, но за 10 лет совместного труда у них выработался единый стиль. Через год после выхода книги Илья Ильф умер от туберкулеза. Петров ненамного пережил друга: погиб на фронте, разбившись в самолете в 1942 году.
А что же личная жизнь? Успели писатели создать семьи?
С будущей супругой Машей – Марией Тарасенко – Ильф встретился еще в родной Одессе. Его брат-художник Ми-Фа (его еще звали Рыжий Миша) до того как перебраться в Петроград, преподавал в одесской женской школе живописи, и Маруся была одной из его учениц. И, как бывает, сгорала от тайной любви к учителю. Ильфа девушка поначалу воспринимала только как брата преподавателя. Но со временем под напором волны обожания и трогательных писем (в особенности именно писем!) Маруся забыла Рыжего Мишу, не обращавшего на нее ни малейшего внимания, и полюбила Илью.
После отъезда Ильи Ильфа в Москву пара два года переписывалась – сохранились сотни трогательных, пронизанных нежностью писем. В один из приездов Марии в столицу они поженились, почти случайно. Просто билеты на поезд стоили дорого, а став женой сотрудника газеты железнодорожников, она получала право на бесплатный проезд. Их соседом по квартире стал Юрий Олеша, тоже молодожен. Чтобы хоть как-то обставиться, молодые писатели продали на толкучке почти всю одежду, оставив одни на двоих приличные брюки. Сколько же было горя, когда жены, наводя в квартире порядок, случайно вымыли этими брюками пол! После выхода «Двенадцати стульев» у Ильфа появились и новые брюки, и слава, и деньги, и отдельная квартира со старинной мебелью, украшенной геральдическими львами. И еще – возможность баловать Марусю. С тех пор из домашних обязанностей у нее осталось только руководить домработницей и няней, когда на свет появилась дочь Сашенька. Сама же Маруся играла на рояле, рисовала и заказывала мужу подарки. Семейному счастью помешала болезнь Ильи Ильфа. Он был удивительно нежным отцом, но не мог даже лишний раз обнять дочь, боясь заразить туберкулезом. Его не стало, когда Александре было всего два года.
После смерти Ильфа Петров начинает писать повести, пьесы и сценарии для кино. Самые известные из них – «Светлая личность», «1001 день, или Новая Шахерезада», «Воздушный извозчик», «Остров мира» и «Фронтовой дневник».
Евгений Петров женился позже, в 1929 году. Его женой стала Валентина Леонтьевна Грюнзайд (1910–1991). Она была дочерью купца с немецкими корнями, чаеторговца, поставщика Императорского двора, расстрелянного в 1938 году. Как вспоминал Валентин Катаев, его брат с самого начала имел самые «серьезные намерения»: он приглашал Валентину в театры, кафе, провожал домой на извозчике. Валентина стала прекрасной матерью и женой, всячески поддерживала мужа, даже когда тот работал корреспондентом на фронте. Однажды он сказал ей: «Переноси страдания стойко… Лучше жить плохо, чем иметь мужа негодяя. Если ты этого не понимаешь, тогда мне остается одно – повеситься…» И она была стойкой – до последнего вздоха своего супруга. Валентина больше не вышла замуж, хотя пережила Евгения на целых 50 лет. Все эти годы она бережно носила на пальце кольцо с крохотным бриллиантом – подарок мужа. У Евгения Петрова родилось двое сыновей. Младшего, в честь Ильфа, назвали Ильей.
После смерти Ильи Ильфа, Евгений прожил всего пять лет. Жизнь Евгения Катаева (Петрова) трагически оборвалась в Ростовской области. 2 июля 1942 года, во время Великой Отечественной войны, самолет, на котором из Севастополя в Москву возвращался фронтовой корреспондент Петров, начали преследовать вражеские «мессершмидты», и пилот, спасаясь от атаки, снизил высоту. В результате самолет врезался в курган среди бескрайних донских степей. На борту находились несколько человек, и все они спаслись, кроме Петрова.
Произведения Ильфа и Петрова стали бестселлерами советского времени, принеся авторам невероятную славу. Их перу принадлежат десятки рассказов, фельетонов и очерков. По их комедии «Под куполом цирка» в 1936 году вышел снятый режиссером Григорием Александровым фильм под названием «Цирк». В главной роли блистала знаменитая Любовь Орлова, но Ильф и Петров потребовали убрать их фамилии из титров: сценарий подвергся изменениям, которые авторы не одобрили.
Илья Ильф подарил читателям замечательные «Записные книжки» – дневник, состоящий из сотен афоризмов, очерков, наблюдений, смешных фраз и горестных размышлений, записанных за двенадцать лет. «Записные книжки» увидели свет после основательного сокращения и цензуры, но и в сокращенном виде афоризмы Ильфа стали крылатыми.
Надо признать, что Илья Ильф и Евгений Петров были убежденными советскими патриотами. Если бы туберкулез пощадил Ильфа, а Петров не погиб в автокатастрофе в 1942-м, и им удалось дожить до 1948 года, прозаики узнали бы, что Союз писателей принял решение, согласно которому переиздание «Двенадцати стульев» и «Золотого теленка» объявлялось «грубой политической ошибкой». Романы назвали «клеветой на советское общество», что «вызывает возмущение со стороны советских писателей…» Прошло двенадцать лет, прежде чем «Двенадцать стульев» вновь увидели свет. Исследователи творчества Ильфа и Петрова предполагают, что судьба писателей, проживи они дольше, могла оказаться трагичной.
От авторов
Обычно по поводу нашего обобществленного литературного хозяйства к нам обращаются с вопросами вполне законными, но весьма однообразными: «Как это вы пишете вдвоем?»
Сначала мы отвечали подробно, вдавались в детали, рассказывали даже о крупной ссоре, возникшей по следующему поводу: убить ли героя романа «12 стульев» Остапа Бендера или оставить в живых? Не забывали упомянуть о том, что участь героя решилась жребием. В сахарницу были положены две бумажки, на одной из которых дрожащей рукой был изображен череп и две куриные косточки. Вынулся череп и через полчаса великого комбинатора не стало. Он был прирезан бритвой.
Потом мы стали отвечать менее подробно. О ссоре уже не рассказывали. Еще потом перестали вдаваться в детали. И, наконец, отвечали совсем уже без воодушевления:
– Как мы пишем вдвоем? Да так и пишем вдвоем. Как братья Гонкуры. Эдмонд бегает по редакциям, а Жюль стережет рукопись, чтобы не украли знакомые.
И вдруг единообразие вопросов было нарушено.
– Скажите, – спросил нас некий строгий гражданин из числа тех, что признали советскую власть несколько позже Англии и чуть раньше Греции, – скажите, почему вы пишете смешно? Что за смешки в реконструктивный период? Вы что, с ума сошли?
После этого он долго и сердито убеждал нас в том, что сейчас смех вреден.
– Смеяться грешно! – говорил он. – Да, смеяться нельзя! И улыбаться нельзя! Когда я вижу эту новую жизнь, эти сдвиги, мне не хочется улыбаться, мне хочется молиться!
– Но ведь мы не просто смеемся, – возражали мы. – Наша цель – сатира именно на тех людей, которые не понимают реконструктивного периода.
– Сатира не может быть смешной, – сказал строгий товарищ и, подхватив под руку какого-то кустаря-баптиста, которого он принял за стопроцентного пролетария, повел его к себе на квартиру.
Повел описывать скучными словами, повел вставлять в шеститомный роман под названием: «А паразиты никогда!»
Все рассказанное – не выдумка. Выдумать можно было бы и посмешнее.
Дайте такому гражданину-аллилуйщику волю, и он даже на мужчин наденет паранджу, а сам с утра будет играть на трубе гимны и псалмы, считая, что именно таким образом надо помогать строительству социализма.
И все время, покуда мы сочиняли «Золотого теленка», над нами реял лик строгого гражданина.
– А вдруг эта глава выйдет смешной? Что скажет строгий гражданин?
И в конце концов мы постановили: а) роман написать по возможности веселый, б) буде строгий гражданин снова заявит, что сатира не должна быть смешной, – просить прокурора республики привлечь помянутого гражданина к уголовной ответственности по статье, карающей за головотяпство со взломом.
И. Ильф, Е. Петров
Часть первая
Экипаж «Антилопы»
Переходя улицу, оглянись по сторонам.
(Правило уличного движения)
Глава I
О том, как Паниковский нарушил конвенцию
Пешеходов надо любить. Пешеходы составляют боLльшую часть человечества. Мало того – лучшую его часть. Пешеходы создали мир. Это они построили города, возвели многоэтажные здания, провели канализацию и водопровод, замостили улицы и осветили их электрическими лампами. Это они распространили культуру по всему свету, изобрели книгопечатание, выдумали порох, перебросили мосты через реки, расшифровали египетские иероглифы, ввели в употребление безопасную бритву, уничтожили торговлю рабами и установили, что из бобов сои можно изготовить сто четырнадцать вкусных питательных блюд.
И когда все было готово, когда родная планета приняла сравнительно благоустроенный вид, появились автомобилисты.
Надо заметить, что автомобиль тоже был изобретен пешеходами. Но автомобилисты об этом как-то сразу забыли. Кротких и умных пешеходов стали давить. Улицы, созданные пешеходами, перешли во власть автомобилистов. Мостовые стали вдвое шире, тротуары сузились до размера табачной бандероли. И пешеходы стали испуганно жаться к стенам домов.
В большом городе пешеходы ведут мученическую жизнь. Для них ввели некое транспортное гетто. Им разрешают переходить улицы только на перекрестках, то есть именно в тех местах, где движение сильнее всего и где волосок, на котором обычно висит жизнь пешехода, легче всего оборвать.
В нашей обширной стране обыкновенный автомобиль, предназначенный, по мысли пешеходов, для мирной перевозки людей и грузов, принял грозные очертания братоубийственного снаряда. Он выводит из строя целые шеренги членов профсоюзов и их семей. Если пешеходу иной раз удается выпорхнуть из-под серебряного носа машины – его штрафует милиция за нарушение правил уличного катехизиса.
И вообще авторитет пешеходов сильно пошатнулся. Они, давшие миру таких замечательных людей, как Гораций, Бойль, Мариотт, Лобачевский, Гутенберг и Анатоль Франс, принуждены теперь кривляться самым пошлым образом, чтобы только напомнить о своем существовании. Боже, боже, которого в сущности нет, до чего ты, которого на самом деле-то и нет, довел пешехода!
Вот идет он из Владивостока в Москву по сибирскому тракту, держа в одной руке знамя с надписью: «Перестроим быт текстильщиков», и перекинув через плечо палку, на конце которой болтаются резервные сандалии «Дядя Ваня» и жестяной чайник без крышки. Это советский пешеход-физкультурник, который вышел из Владивостока юношей и на склоне лет у самых ворот Москвы будет задавлен тяжелым автокаром, номер которого так и не успеют заметить.
Или другой, европейский могикан пешеходного движения. Он идет пешком вокруг света, катя перед собой бочку. Он охотно пошел бы так, без бочки; но тогда никто не заметит, что он действительно пешеход дальнего следования, и про него не напишут в газетах. Приходится всю жизнь толкать перед собой проклятую тару, на которой к тому же (позор, позор!) выведена большая желтая надпись, восхваляющая непревзойденные качества автомобильного масла «Грезы шофера».
Так деградировал пешеход.
И только в маленьких русских городах пешехода еще уважают и любят. Там он еще является хозяином улиц, беззаботно бродит по мостовой и пересекает ее самым замысловатым образом в любом направлении.
Гражданин в фуражке с белым верхом, какую по большей части носят администраторы летних садов и конферансье, несомненно принадлежал к большей и лучшей части человечества. Он двигался по улицам города Арбатова пешком, со снисходительным любопытством озираясь по сторонам. В руке он держал небольшой акушерский саквояж. Город, видимо, ничем не поразил пешехода в артистической фуражке.
Он увидел десятка полтора голубых, резедовых и бело-розовых звонниц; бросилось ему в глаза облезлое американское золото церковных куполов. Флаг трещал над официальным зданием.
У белых башенных ворот провинциального кремля две суровые старухи разговаривали по-французски, жаловались на советскую власть и вспоминали любимых дочерей. Из церковного подвала несло холодом, бил оттуда кислый винный запах. Там, как видно, хранился картофель.
– Храм спаса на картошке, – негромко сказал пешеход.
Пройдя под фанерной аркой со свежим известковым лозунгом: «Привет 5-й окружной конференции женщин и девушек», он очутился у начала длинной аллеи, именовавшейся Бульваром Молодых Дарований.
– Нет, – сказал он с огорчением, – это не Рио-де-Жанейро, это гораздо хуже.
Почти на всех скамьях Бульвара Молодых Дарований сидели одинокие девицы с раскрытыми книжками в руках. Дырявые тени падали на страницы книг, на голые локти, на трогательные челки. Когда приезжий вступил в прохладную аллею, на скамьях произошло заметное движение. Девушки, прикрывшись книгами Гладкова, Элизы Ожешко и Сейфуллиной, бросали на приезжего трусливые взгляды. Он проследовал мимо взволнованных читательниц парадным шагом и вышел к зданию исполкома – цели своей прогулки.
В эту минуту из-за угла выехал извозчик. Рядом с ним, держась за пыльное, облупленное крыло экипажа и размахивая вздутой папкой с тисненой надписью «Musique», быстро шел человек в длиннополой толстовке. Он что-то горячо доказывал седоку. Седок, пожилой мужчина с висячим, как банан, носом, сжимал ногами чемодан и время от времени показывал своему собеседнику кукиш. В пылу спора его инженерская фуражка, околыш которой сверкал зеленым диванным плюшем, покосилась набок. Обе тяжущиеся стороны часто и особенно громко произносили слово «оклад». Вскоре стали слышны и прочие слова.
– Вы за это ответите, товарищ Талмудовский! – крикнул длиннополый, отводя от своего лица инженерский кукиш.
– А я вам говорю, что на такие условия к вам не поедет ни один приличный специалист, – ответил Талмудовский, стараясь вернуть кукиш на прежнюю позицию.
– Вы опять про оклад жалованья? Придется поставить вопрос о рвачестве.
– Плевал я на оклад! Я даром буду работать! – кричал инженер, взволнованно описывая кукишем всевозможные кривые. – Захочу – и вообще уйду на пенсию. Вы это крепостное право бросьте. Сами всюду пишут: «Свобода, равенство и братство», а меня хотят заставить работать в этой крысиной норе.
Тут инженер Талмудовский быстро разжал кукиш и принялся считать по пальцам:
– Квартира – свинюшник, театра нет, оклад… Извозчик! Пошел на вокзал!
– Тпру-у! – завизжал длиннополый, суетливо забегая вперед и хватая лошадь под уздцы. – Я, как секретарь секции инженеров и техников… Кондрат Иванович! Ведь завод останется без специалистов… Побойтесь бога… Общественность этого не допустит, инженер Талмудовский… У меня в портфеле протокол.
И секретарь секции, расставив ноги, стал живо развязывать тесемки своей «Musique».
Эта неосторожность решила спор. Увидев, что путь свободен, Талмудовский поднялся на ноги и что есть силы закричал:
– Пошел на вокзал!
– Куда? Куда? – залепетал секретарь, устремляясь за экипажем. – Вы – дезертир трудового фронта!
Из папки «Musique» вылетели листки папиросной бумаги с какими-то лиловыми «слушали-постановили».
Приезжий, с интересом наблюдавший инцидент, постоял с минуту на опустевшей площади и убежденным тоном сказал:
– Нет, это не Рио-де-Жанейро.
Через минуту он уже стучался в дверь кабинета пред-исполкома.
– Вам кого? – спросил его секретарь, сидевший за столом рядом с дверью. – Зачем вам к председателю? По какому делу?
Как видно, посетитель тонко знал систему обращения с секретарями правительственных, хозяйственных и общественных организаций. Он не стал уверять, что прибыл по срочному казенному делу.
– По личному, – сухо сказал он, не оглядываясь на секретаря и засовывая голову в дверную щель. – К вам можно?
И, не дожидаясь ответа, приблизился к письменному столу:
– Здравствуйте, вы меня не узнаете?
Председатель, черноглазый большеголовый человек в синем пиджаке и в таких же брюках, заправленных в сапоги на высоких скороходовских каблучках, посмотрел на посетителя довольно рассеянно и заявил, что не узнает.
– Неужели не узнаете? А между тем многие находят, что я поразительно похож на своего отца.
– Я тоже похож на своего отца, – нетерпеливо сказал председатель. – Вам чего, товарищ?
– Тут все дело в том, какой отец, – грустно заметил посетитель. – Я сын лейтенанта Шмидта.
Председатель смутился и привстал. Он живо вспомнил знаменитый облик революционного лейтенанта с бледным лицом и в черной пелерине с бронзовыми львиными застежками. Пока он собирался с мыслями, чтобы задать сыну черноморского героя приличествующий случаю вопрос, посетитель присматривался к меблировке кабинета взглядом разборчивого покупателя.
Когда-то, в царские времена, меблировка присутственных мест производилась по трафарету. Выращена была особая порода казенной мебели: плоские, уходящие под потолок шкафы, деревянные диваны с трехдюймовыми полированными сиденьями, столы на толстых бильярдных ногах и дубовые парапеты, отделявшие присутствие от внешнего беспокойного мира. За время революции эта порода мебели почти исчезла, и секрет ее выработки был утерян. Люди забыли, как нужно обставлять помещения должностных лиц, и в служебных кабинетах показались предметы, считавшиеся до сих пор неотъемлемой принадлежностью частной квартиры. В учреждениях появились пружинные адвокатские диваны с зеркальной полочкой для семи фарфоровых слонов, которые якобы приносят счастье, горки для посуды, этажерочки, раздвижные кожаные кресла для ревматиков и голубые японские вазы. В кабинете председателя арбатовского исполкома, кроме обычного письменного стола, прижились два пуфика, обитых полопавшимся розовым шелком, полосатая козетка, атласный экран с Фудзиямой и вишней в цвету и зеркальный славянский шкаф грубой рыночной работы.
«А шкафчик-то типа “Гей, славяне!” – подумал посетитель. – Тут много не возьмешь. Нет, это не Рио-де-Жанейро».
– Очень хорошо, что вы зашли, – сказал наконец председатель. – Вы, вероятно, из Москвы?
– Да, проездом, – ответил посетитель, разглядывая козетку и все более убеждаясь, что финансовые дела исполкома плохи. Он предпочитал исполкомы, обставленные новой шведской мебелью ленинградского древтреста.
Председатель хотел было спросить о цели приезда лейтенантского сына в Арбатов, но неожиданно для самого себя жалобно улыбнулся и сказал:
– Церкви у нас замечательные. Тут уже из Главнауки приезжали, собираются реставрировать. Скажите, а вы-то сами помните восстание на броненосце «Очаков»?
– Смутно, смутно, – ответил посетитель. – В то героическое время я был еще крайне мал. Я был дитя.
– Простите, а как ваше имя?
– Николай… Николай Шмидт.
– А по батюшке?
«Ах, как нехорошо!» – подумал посетитель, который и сам не знал имени своего отца.
– Да-а, – протянул он, уклоняясь от прямого ответа, – теперь многие не знают имен героев. Угар нэпа. Нет того энтузиазма. Я, собственно, попал к вам в город совершенно случайно. Дорожная неприятность. Остался без копейки.
Председатель очень обрадовался перемене разговора. Ему показалось позорным, что он забыл имя очаковского героя.
«Действительно, – думал он, с любовью глядя на воодушевленное лицо героя, – глохнешь тут за работой. Великие вехи забываешь».
– Как вы говорите? Без копейки? Это интересно.
– Конечно, я мог бы обратиться к частному лицу, – сказал посетитель, – мне всякий даст, но, вы понимаете, это не совсем удобно с политической точки зрения. Сын революционера – и вдруг просит денег у частника, у нэпмана…
Последние слова сын лейтенанта произнес с надрывом. Председатель тревожно прислушался к новым интонациям в голосе посетителя. «А вдруг припадочный? – подумал он. – Хлопот с ним не оберешься».
– И очень хорошо сделали, что не обратились к частнику, – сказал вконец запутавшийся председатель.
Затем сын черноморского героя мягко, без нажима перешел к делу. Он просил пятьдесят рублей. Председатель, стесненный узкими рамками местного бюджета, смог дать только восемь рублей и три талона на обед в кооперативной столовой «Бывший друг желудка».
Сын героя уложил деньги и талоны в глубокий карман поношенного серого в яблоках пиджака и уже собрался было подняться с розового пуфика, когда за дверью кабинета послышался топот и заградительный возглас секретаря.
Дверь поспешно растворилась, и на пороге ее показался новый посетитель.
– Кто здесь главный? – спросил он, тяжело дыша и рыская блудливыми глазами по комнате.
– Ну, я, – сказал председатель.
– Здоров, председатель, – гаркнул новоприбывший, протягивая лопатообразную ладонь. – Будем знакомы. Сын лейтенанта Шмидта.
– Кто? – спросил глава города, тараща глаза.
– Сын великого, незабвенного героя лейтенанта Шмидта, – повторил пришелец.
– А вот же товарищ сидит – сын товарища Шмидта, Николай Шмидт.