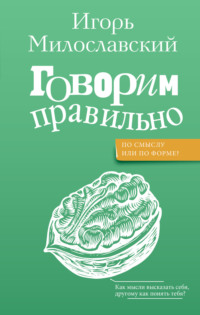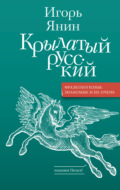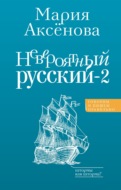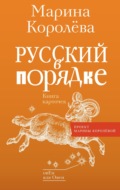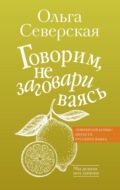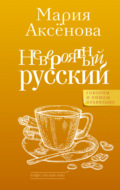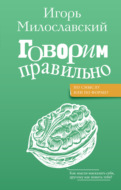Buch lesen: "Говорим правильно: по смыслу или по форме?"
© И.Г. Милославский, 2024
© ООО «Издательство АСТ», 2024
Введение
В русской культурной традиции всегда существовало внимательное и уважительное отношение к родному языку. Это отношение сопровождалось и высокой оценкой качеств русского языка. М.В. Ломоносов писал: «Карл V, римский император, говаривал, что испанским языком – с Богом, французским – с друзьями, немецким – с неприятелем, итальянским – с женским полом говорить прилично. Но если бы российскому языку искусен был, то, конечно, к тому присовокупил бы, что им со всеми оными говорить пристойно, ибо нашел бы в нем ВЕЛИКОЛЕПИЕ испанского, ЖИВОСТЬ французского, КРЕПОСТЬ немецкого, НЕЖНОСТЬ итальянского, а сверх того богатство и сильную в изображениях КРАТКОСТЬ греческого и латинского языков». Через 100 лет после М.В. Ломоносова И.С. Тургенев написал: «Во дни сомнений и тягостных раздумий о судьбах моей Родины ты ОДИН мне поддержка и опора, о ВЕЛИКИЙ, МОГУЧИЙ, ПРАВДИВЫЙ и СВОБОДНЫЙ русский язык». С тех пор словавеликий и могучий, правдивый и свободныймы часто употребляем вместо словосочетания «русский язык».
И в новейшее время традиционное отношение к русскому языку в нашем обществе не изменилось. Русский язык – среди главных школьных предметов и обязательный для ЕГЭ. В день рождения А.С. Пушкина, 6 июня, русский язык становится причиной специального праздника. Существуют международные и российские общественные организации, специально занимающиеся вопросами распространения и изучения русского языка. В Москве целых два института русского языка, имени академика Виктора Владимировича Виноградова в системе Российской академии наук и имени Александра Сергеевича Пушкина в системе министерства образования и науки. Всегда заполнены полки под вывеской «русский язык» в книжных магазинах.
В газетах и по радио систематически выступают различные специалисты по русскому языку… Темы этих выступлений самые разные, однако можно выделить три основных. Глобальные – о месте русского языка среди других языков в современном мире, о состоянии русского языка в текущий момент и общих тенденциях в его развитии, о величии и мощи русского языка. Этимологические – о происхождении русских слов и выражений. И – самые популярные – о том, «как правильно». Правильно – по отношению к существующим в русском языке нормам, определяющим слитные и раздельные написания или, например, место ударения в определенных словах и формах. При этом, как кажется, остается в тени всех этих важных вопросов самый главный вопрос: насколько точно все мы, говорящие по-русски, понимаем то, и только то, что стоит за словами, предложениями и текстами, которые мы читаем или слышим.
Затеняется также и вопрос о том, насколько эффективно все мы, говорящие по-русски, умеем выбирать именно то из разнообразнейших средств русского языка, чтобы выразить свою мысль в полном соответствии и с отражаемой реальностью, и с нашей ее оценкой, и с нашим отношением к читателю или собеседнику. Умеем ли приблизиться к тому идеалу, о котором писал Давид Самойлов: «Мое единственное богатство – это русская речь. Надо, чтобы слово так облекало мысль, будто бы это одно и то же?» Короче говоря, пользуемся ли мы русским языком «правильно», не только соблюдая формальные правила орфографии и орфоэпии, но «правильно» по отношению к действительности, стоящей за словами, которые мы видим или слышим. И «правильно» ли мы обозначаем эту действительность, выбирая слова, когда мы пишем и говорим.
Единственный угол зрения, который принят в этой книге – соотношение между современной реальностью, которая нас окружает, и русским языком, который эту реальность называет, фиксирует, отражает. При этом рассматриваются оба пути: от слов – к реальности, т. е. с позиции читающего или слушающего, и от реальности – к словам, т. е. с позиции пишущего или говорящего. Выбранный угол зрения базируется на мысли, что именно способность языка отражать реальную действительность выступает смыслом и оправданием самого существования языка. Ведь и пишущий, и говорящий в реальной жизни совершают соответствующие действия не ради демонстрации своего умения «писать без ошибок» или ставить ударение на нужный слог. А читающие и слушающие делают свое дело не ради того, чтобы «проверить» своих адресантов. Соблюдение правил, пусть и очень важное, но УСЛОВИЕ разумных речевых действий. Цель же этих действий – в ясном понимании того, какая реальность кроется за словами. Подобно тому, как поездка на автомобиле предполагает соблюдение правил дорожного движения, однако цель в том, чтобы быстро и безопасно добраться до места назначения.