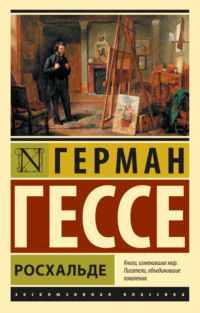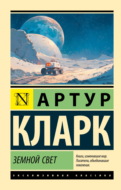Buch lesen: "Росхальде"
Hermann Hesse
ROSHALDE
© All rights reserved by Suhrkamp Verlag Berlin
© Перевод. Н. Федорова, 2020
© Издание на русском языке. ООО «Издательство АСТ», 2020
Глава первая
Десять лет назад, когда Йоханн Верагут купил Росхальде и переехал туда, то было заброшенное старое поместье с заросшими садовыми дорожками, замшелыми скамьями, ветхими лестницами и одичалым дремучим парком, и на участке примерно в восемь моргенов1 стояли тогда лишь красивый, несколько обветшалый господский дом с конюшней да чуть поодаль, в парке, похожий на храм маленький павильон, двери которого из-за погнутых петель перекосились, а стены, некогда обитые голубым штофом, обросли мхом и плесенью.
После покупки имения новый владелец тотчас снес пришедший в ветхость храм, сохранил только десяток старых каменных ступеней, что вели от порога этого любовного гнездышка к берегу озерца. На месте паркового павильончика построили тогда мастерскую Верагута, и на протяжении семи лет он писал там картины и проводил большую часть своих дней, жил, однако, в господском доме, пока растущие раздоры в семье не вынудили его отослать старшего сына в иногородние школы, оставить большой дом жене и прислуге, для себя же пристроить к мастерской две комнаты, где он с тех пор и жил холостяком. Жаль, конечно, красивый господский дом; госпожа Верагут с семилетним Пьером занимала лишь верхний этаж, она хотя и принимала посетителей и гостей, но многолюдное общество не собирала никогда, и целый ряд помещений год за годом пустовал.
Маленький Пьер был не только любимцем обоих родителей и единственным связующим звеном меж отцом и матерью, благодаря которому сохранялись хоть какие-то отношения между господским домом и мастерской; собственно говоря, он был также единственным хозяином и собственником Росхальде. Господин Верагут обитал исключительно в своей мастерской и вокруг лесного озерца, а также в давних лесных охотничьих угодьях, жена его хозяйничала в большом доме, ей принадлежали лужайка, липовая и каштановая рощи, и каждый из них появлялся на территории другого лишь изредка и как гость, если не считать трапез, которые художник вкушал большей частью в господском доме. Один лишь маленький Пьер не признавал это разграничение жизни и раздел территории, даже вряд ли о них догадывался. И в старом, и в новом доме он чувствовал себя одинаково беззаботно, в мастерской и в отцовской библиотеке – так же уютно, как в коридоре и картинной галерее господского дома или в комнатах маменьки; ему принадлежали земляника в каштановой роще, цветы под липами, рыбы в лесном озерке, купальня, гондола. Он ощущал себя хозяином и подопечным маменькиных горничных, а равно и папенькина камердинера Роберта, был сыном хозяйки дома для гостей матери и сыном художника для господ, которые порой приходили в папенькину мастерскую и говорили по-французски, а карандашные, живописные и фотографические портреты мальчика висели и в спальне отца, и в старом доме, в оклеенных светлыми обоями комнатах маменьки. Пьеру жилось очень хорошо, даже лучше, нежели детям, чьи родители живут в добром согласии; воспитание его не подчинялось никакой программе, и если на маменькиной территории у него иной раз земля горела под ногами, он находил надежное прибежище возле лесного озерца.
Мальчик давно уже спал, а после одиннадцати в большом доме погасло последнее освещенное окно. И вот в это время, за полночь, Йоханн Верагут один пешком возвращался из города, где провел со знакомыми вечер в ресторане. По пути, в тепловатой, облачной ночи начала лета, атмосфера вина и дыма, разгоряченного смеха и дерзких шуток развеялась, он глубоко вдыхал чуть упругий, влажный и теплый ночной воздух, сосредоточенно шагая по дороге, окаймленной уже высоко поднявшимися хлебами, навстречу Росхальде, деревья которого безмолвной недвижной массой высились на фоне блеклого ночного неба.
Он миновал ворота усадьбы, но входить не стал, взглянул на господский дом, чей фасад благородно и маняще светлел на фоне черной стены деревьев, всмотрелся в эту прекрасную картину с удовольствием и с отчужденностью случайного путника, затем прошел еще несколько сотен шагов вдоль высокой живой изгороди, до того места, где устроил себе проход и проложил тайную лесную тропинку к мастерской. В напряженных чувствах крепкий невысокий мужчина шел через мрачный, одичалый парк к своему жилищу, которое вдруг явилось его взору там, где темные кроны над водоемом как бы широко расступились, открыв тусклое серое небо.
Средь полной тишины озерцо виделось почти черным, слабый свет лежал на воде, будто бесконечно тонкая пленка или мельчайшая пыль. Верагут посмотрел на часы – без малого час ночи. Отпер боковую дверь маленькой постройки, ведшую в жилую комнату. Там он зажег свечу и быстро разделся, вышел нагишом на воздух и по широким отлогим каменным ступеням медленно спустился в воду, которая на миг взблеснула у его колен легкими мелкими кругами. Он нырнул, немного отплыл от берега, неожиданно почувствовал усталость после непривычного вечера, повернул обратно и, не вытираясь, вернулся в дом. Накинул мохнатый купальный халат, стряхнул воду с коротких волос и босиком поднялся по лесенке в мастерскую, просторное, почти пустое помещение, где несколькими нетерпеливыми движениями немедля включил все электрические лампы.
Он поспешил к мольберту, на котором стоял маленький холст, работа последних дней. Уперев руки в колени, наклонясь, стал перед картиной и устремил широко открытые глаза на поверхность, свежие краски которой отражали яркий свет. Постоял так две-три минуты, в безмолвном созерцании, пока вся работа вплоть до последнего мазка вновь не ожила перед его взором; за долгие годы он взял в привычку накануне рабочих дней ложиться в постель, непременно унося с собой в сон образ картины, над которой как раз работал. Затем погасил свет, взял свечу и пошел в спальню, где на двери висели грифельная дощечка и мел. «Разбудить в семь, в девять – кофе», – написал он четкой латиницей2, закрыл за собою дверь и лег в постель. Минуту-другую неподвижно лежал с открытыми глазами, усилием воли вызвав в памяти образ своей работы. Насытившись им, закрыл ясные серые глаза, тихонько вздохнул и быстро погрузился в сон.
Утром Роберт разбудил Верагута в назначенное время, он тотчас встал, в маленьком подсобном помещении умылся над раковиной с холодной проточной водой, надел грубый, изрядно застиранный костюм из серого полотна и прошел в мастерскую, где камердинер уже поднял тяжелые жалюзи. На небольшом столике стояли тарелка с фруктами, графин с водой и ломоть ржаного хлеба, который художник задумчиво взял в руку и надкусил, отойдя к мольберту и глядя на свою картину. Расхаживая по мастерской, он еще раз-другой откусил хлеба, взял со стеклянной тарелки несколько черешен, заметил на столике письма и газеты, но оставил их без внимания, как завороженный, сразу же устроился на складном стуле перед своей работой.
Небольшая, широкого формата картина изображала раннее утро, вроде того, какое художник видел несколько недель назад в поездке и запечатлел в ряде набросков. Он тогда остановился на маленьком постоялом дворе на Верхнем Рейне, хотел навестить в тех местах коллегу, но не застал его, провел унылый дождливый вечер в дымном трактире и скверную ночь в сырой комнатушке, пропахшей известкой и гнилью. Разгоряченный и в дурном расположении духа он еще до рассвета пробудился от неглубокого сна и, обнаружив, что двери постоялого двора пока на замке, через трактирное окно выбрался наружу, рядом, на берегу реки, отвязал лодку и выгреб на еще сонную, ленивую реку. А когда уже собирался повернуть обратно, увидел, как от противоположного берега навстречу ему тоже плывет гребец, слегка трепещущий холодный свет молочно-дождливого рассвета обтекал темные контуры, и рыбачья лодка казалась не в меру большой. Внезапно до глубины души пораженный и зачарованный этим зрелищем и странным освещением, художник перестал грести, дал незнакомцу приблизиться, тот остановил лодку у поплавка, отмечавшего место лова, и вытащил из прохладной воды вентерь. В нем оказались две широкие, тускло-серебристые рыбины, на миг обе влажно взблеснули над серой рекой, а затем с чавкающим шлепком упали в лодку рыбака. Верагут тотчас окликнул рыбака, попросил его обождать, съездил за рисовальными принадлежностями и сделал акварельный набросок; он задержался еще на день, писал этюды и читал, а наутро спозаранку снова делал у реки эскизы, потом отправился дальше; с тех пор его снова и снова занимала и мучила мысль о картине, пока не обрела форму, и вот теперь он уже который день трудился не покладая рук и уже почти закончил работу. Больше всего он любил писать при ярком солнце или же в теплом, рассеянном лесном и парковом освещении, поэтому текучая серебряная прохлада картины стоила ему больших усилий, однако ж создала и новый колорит, вчера он окончательно нашел удачное решение и теперь чувствовал, что перед ним хорошая, необычная работа, которая не просто запечатлела мгновение и превосходно его отобразила, нет, здесь мгновение пробило стеклянную поверхность равнодушного загадочного бытия природы, позволяя ощутить могучее необузданное дыхание реальности.
Пристальным взглядом художник всматривался в картину, оценивал оттенки палитры, которая почти вовсе не походила на его обычную и едва ли не полностью утратила красные и желтые тона. Вода и воздух были завершены – по поверхности растекался знобко-холодный, неприятный свет, кусты и береговые сваи тенями плыли во влажном, блеклом сумраке, нереальная и расплывчатая замерла в воде грубая лодка, лицо рыбака было призрачно и безмолвно, лишь его спокойно протянутая за рыбой рука преисполнена неумолимой реальности. Одна рыбина, поблескивая, выпрыгивала через борт лодки, другая лежала плоская и недвижная, а ее открытая круглая пасть и испуганно застывшие глаза полнились тварной скорбью. Все было холодно и до жестокости печально, однако покойно, неприкосновенно и лишено всякой символики, кроме самой простой, без которой произведение искусства существовать не может и которая позволяет нам не только чувствовать, но и с неким сладостным удивлением любить гнетущую непостижимость всей природы.
Художник просидел за работой часа два, когда камердинер постучал в дверь и после рассеянного отклика хозяина вошел с завтраком. Тихонько расставил на столике кофейник, сливочник, чашку и тарелку, аккуратно подвинул стул, молча подождал секунду-другую, затем осторожно произнес:
– Кофе, господин Верагут.
– Иду, – отозвался художник, стирая большим пальцем мазок, только что нанесенный кистью на хвост выпрыгивающей рыбы. – Горячая вода есть?
Он вымыл руки и сел пить кофе.
– Набейте-ка мне трубку, Роберт, – бодро сказал он. – Маленькую, без крышки, она должна быть в спальне.
Камердинер вышел. Верагут с наслаждением пил крепкий кофе, чувствуя, как смутное предощущение обмана и неудачи, которое с недавних пор иной раз охватывало его после напряженной работы, тает словно утренний туман.
Он взял у камердинера трубку, раскурил от поднесенного огня и жадно вдохнул ароматный дым, который усиливал и обострял действие кофе. Потом кивнул на свою картину и сказал:
– Вы ведь в детстве ловили рыбу, Роберт, не правда ли?
– А как же, господин Верагут.
– Взгляните вон на ту рыбу, не на ту, что в воздухе, а на ту, что лежит с открытой пастью. Пасть написана правильно?
– Правильно, – неуверенно ответил Роберт. – Но вам лучше знать, чем мне, – добавил он укоризненным тоном, будто почуял в вопросе насмешку.
– Нет, уважаемый, неправда. То, что человеку положено, он со всей остротой и свежестью переживает лишь в ранней юности, лет до тринадцати-четырнадцати, и питается этим всю жизнь. Мальчиком я никогда не имел дела с рыбой, потому и спрашиваю. Ну так кáк, правильная у нее пасть или нет?
– Правильная, все на месте, – рассудил польщенный Роберт.
Верагут уже встал и снова принялся выверять свою палитру. Роберт смотрел на него. Он хорошо знал эту возникающую во взгляде сосредоточенность, от которой глаза делались едва ли не стеклянными, знал, что теперь и он, и кофе, и давешний короткий разговор, и все вообще уходит в этом человеке куда-то далеко-далеко и если окликнуть его через несколько минут, то он как бы пробудится от глубокого сна. Но это опасно. Роберт убрал со стола и заметил нетронутую почту.
– Господин Верагут! – сказал он вполголоса.
Художник был еще достижим. Враждебно и вопросительно оглянулся через плечо, точь-в-точь как утомленный, который уже засыпал, а его опять позвали.
– Тут письма. – С этими словами Роберт вышел.
Верагут нервно выдавил на палитру немного кобальта, бросил тюбик на обитый жестью столик, начал было смешивать, но оклик камердинера отвлекал, и в конце концов он отложил палитру и взял в руки письма.
Обычная деловая корреспонденция, приглашение участвовать в выставке, просьба газетной редакции сообщить кой-какие сведения из его жизни, счет… а затем – вид хорошо знакомого почерка всколыхнул в душе отрадную дрожь, он взял письмо и не спеша прочитал собственное имя и каждое слово адреса, с удовольствием рассматривая свободные, своенравно-энергичные росчерки. Потом постарался разобрать почтовый штемпель. Марка была итальянская, так что письмо наверняка из Неаполя или из Генуи, а значит, его друг уже в Европе, уже совсем близко и через несколько дней будет здесь.
Растроганный, он вскрыл конверт и с удовлетворением увидел строгие порядки мелких ровных строчек. Если ему не изменяет память, уже лет пять-шесть эти редкие письма от друга из-за границы были для него единственной чистой радостью, единственной, помимо работы и часов, проведенных с малышом Пьером. И, как случалось всякий раз, им и сейчас посреди радостного предвкушения завладело смутное, тягостное чувство стыда, а вместе с ним осознание, сколь убога и безотрадна его жизнь. Он медленно прочитал:
Неаполь, 2 июня, ночью
Дорогой Йоханн!
Как обычно, глоток кьянти с жирными макаронами и вопли уличных торговцев возле трактира – первые знаки европейской культуры, к которой я вновь приближаюсь. Здесь, в Неаполе, за пять лет ничто не изменилось, не в пример Сингапуру или Шанхаю, и мне кажется, это добрый знак, что и дома все в порядке. Послезавтра мы будем в Генуе, там меня встретит племянник, и я поеду с ним к родне, где на сей раз не жду бурных изъявлений симпатии, ведь, честно говоря, за последние четыре года я не заработал и десяти талеров. На первые претензии семейства я отвожу четыре-пять дней, затем дела в Голландии, опять-таки, скажем, дней пять-шесть, так что у тебя я смогу быть примерно 16-го. Точнее сообщу телеграфом. Знаешь, мне хотелось бы остаться у тебя по крайней мере дней на десять-четырнадцать, помешать тебе в работе. Ты стал ужас как знаменит, и, если то, что ты лет двадцать назад говорил об успехе и славе, хотя бы отчасти справедливо, ты, наверно, здорово закоснел и отупел. Я намерен и картины у тебя купить, а мои вышестоящие сетования на плохие дела – просто попытка сбить твои цены.
Мы становимся старше, Йоханн. В двенадцатый раз я плыл по Красному морю и впервые страдал от жары. Было 46 градусов.
Господи, старина, еще две недели! Приготовь несколько дюжин бутылок мозельского! Больше четырех лет минуло с нашей последней встречи.
Письмом можно застать меня между 9-м и 14-м в Антверпене, отель «Европейский». Если твои картины выставлены сейчас где-нибудь, где я окажусь проездом, пожалуйста, сообщи!
Твой Отто
Художник радостно перечитал короткое письмо, строки крепких, молодцеватых букв и темпераментных знаков препинания, достал из ящика письменного столика в углу календарь и, изучая его, удовлетворенно кивал головой. Очень кстати: до середины месяца более двух десятков его картин будут выставлены в Брюсселе. Стало быть, друг, острого взгляда которого он слегка побаивался и от которого едва ли укрылись неурядицы его жизни в последние годы, хотя бы получит о нем первое впечатление, каким можно гордиться. Это облегчало ситуацию. Он представил себе, как Отто, одетый с несколько излишним заморским шиком, идет по брюссельскому залу, рассматривая его картины, лучшие его картины, и на миг от души порадовался, что послал их на выставку, хотя на продажу предназначались из них лишь немногие. И он немедля написал письмецо в Антверпен.
«Отто ничего не забыл, – благодарно думал он, – последний раз мы и правда пили почти одно только мозельское, а однажды вечером даже закатили настоящую пирушку».
Поразмыслив, он пришел к выводу, что в погребе, который сам он навещал крайне редко, мозельского определенно не осталось, и решил сегодня же сделать заказ.
Засим Верагут вновь принялся за работу, однако был рассеян, взбудоражен и не мог вернуться к той чистой сосредоточенности, когда хорошие идеи являются сами, незваные. Он сунул кисть в стакан, положил письмо друга в карман и нерешительно вышел на воздух. Зеркальная гладь озерца слепила глаза, летний день выдался погожий, и озаренный солнцем парк звенел несчетными птичьими голосами.
Он посмотрел на часы – Пьеровы утренние уроки, должно быть, уже закончились – и бесцельно зашагал через парк, рассеянно глядя на бурые, в пятнах солнечного света, дорожки, прислушиваясь к звукам большого дома, миновал площадку с качелями и песочницей, где любил играть Пьер. В конце концов он очутился возле кухонного огорода и на миг с легким интересом устремил взгляд ввысь, в кроны конских каштанов, в пышной тенистой листве которых еще виднелись последние радостно-светлые свечки цветов. Пчелы с набегающим волнами тихим жужжанием роились над множеством полураскрытых розовых бутонов живой изгороди, сквозь темную листву деревьев долетело несколько ударов маленьких забавных часов на башенке большого дома. Время они отбивали неправильно, и Верагут опять подумал о Пьере, ведь тот полагал своей главной мечтой и делом чести когда-нибудь, когда вырастет, отремонтировать старинные куранты.
Тут за живой изгородью послышались голоса и шаги; в солнечном воздухе сада они приглушенно и мягко слились с жужжанием пчел и песнями птиц, с медленно плывущим в воздухе ароматом дикой гвоздики и цветущей фасоли. То были его жена и Пьер, и Верагут остановился, внимательно прислушиваясь.
– Они еще не поспели, придется тебе денек-другой подождать, – сказала маменька.
Смеющийся мальчишечий голосок что-то прощебетал в ответ, и в исполненном ожидания летнем покое безмятежный зеленый мир парка и мягкие, прозрачные звуки детского говора на мимолетно-нежный миг показались художнику явившимися из далекого сада его собственного детства. Он шагнул к живой изгороди и сквозь ветви заглянул в сад: его жена в утреннем пеньюаре стояла на солнечной дорожке, с цветочными ножницами в руке и легкой коричневой корзинкой на локте. Шагах в двадцати от изгороди, не больше.
Секунду художник смотрел на нее. Высокая фигура с серьезным и разочарованным видом склонилась к цветам, большая мягкая соломенная шляпа целиком затеняла лицо.