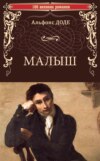Buch lesen: «История Тома Джонса, найденыша. Том 2 (книги 9-18)», Seite 6
Глава IX
Бегство Софьи
Пора теперь вернуться к Софье; если читатель любит ее хоть наполовину столько, сколько я, то он порадуется ее освобождению из лап пылкого папаши и чересчур холодного поклонника.
Двенадцать раз ударил железный счетчик времени по звучному металлу, вызывая привидения из могил и приглашая их начать ночной обход… Говоря попросту, пробило полночь, и все в доме, как мы сказали, погружены были в опьянение и в сон, исключая только миссис Вестерн, углубившуюся в чтение политической брошюры, да нашей героини, которая беззвучно спустилась по лестнице, отомкнула одну из наружных дверей и поспешно устремилась к условленному месту.
Невзирая на множество милых уловок, применяемых иногда дамами, чтобы выказать страх свой по каждому пустячному поводу (уловок столь же разнообразных, как и те, к которым прибегает другой пол, чтобы всячески страх этот скрыть), в женщине, несомненно, есть то мужество, которое ей не только прилично, но часто и необходимо иметь для исполнения своих обязанностей. В самом деле, мысль о жестокости, а не о храбрости – вот единственно, что противоречит представлению о женском характере. Можно ли читать историю справедливо прославленной Аррии43, не составив себе высокого понятия как о ее кротости и нежности, так и о мужестве? В то же время многие женщины, которые визжат при виде мыши или крысы, способны, может быть, отравить мужа или, что еще хуже, довести его до того, что он сам отравится.
При всей кротости, свойственной женщине, Софья обладала также отвагой, подобающей прекрасному полу. Поэтому, придя в назначенное место и увидя вместо своей горничной, как было условлено, незнакомого мужчину верхом, направившегося прямо к ней, она не завизжала и не упала в обморок; правда, пульс ее забился учащеннее, чем обыкновенно, потому что первыми ее чувствами были удивление и испуг, но они рассеялись почти так же быстро, как появились, когда мужчина, сняв шляпу, спросил ее очень почтительно: «Не рассчитывала ли ее милость встретить здесь другую даму?» – и сообщил, что ему поручено проводить ее к этой даме.
У Софьи не было оснований заподозрить здесь какой-нибудь подвох, она поэтому без колебаний села позади всадника, и тот благополучно доставил ее в город, расположенный милях в пяти, где героиня наша с удовольствием нашла почтенную миссис Гонору. Так как самая душа горничной облекалась в те самые одежды, в которые она облекала свое тело, то Гонора ни за что не могла решиться выпустить их из поля своего зрения; поэтому она осталась стеречь их самолично, а за госпожой отрядила упомянутого выше мужчину, снабдив его необходимыми указаниями.
Госпожа и служанка принялись теперь совещаться, какую им избрать дорогу, чтобы не попасть в руки мистера Вестерна, будучи уверены, что через несколько часов он пошлет за ними погоню. Лондонская дорога настолько прельщала Гонору, что она непременно желала отправиться прямо по ней; ведь отсутствие Софьи, говорила она, не может быть обнаружено раньше восьми или девяти часов утра, и, значит, преследователи не догонят ее, хотя бы даже знали, по какой дороге она поехала. Но Софья ставила на карту слишком много, чтобы отважиться на малейший риск; она не смела также слишком полагаться на свое нежное сложение в состязании, исход которого всецело зависел от быстроты, – поэтому она решила проехать, по крайней мере, двадцать или тридцать миль проселком и только тогда свернуть на большую лондонскую дорогу. Она наняла лошадей, уговорившись сделать двадцать миль по одному направлению, но собираясь на самом деле ехать по-другому, и отправилась в путь с тем же самым проводником, на лошади которого приехала из отцовского дома; только теперь за спиной проводника помещалась вместо Софьи поклажа более тяжелая и гораздо менее приятная, а именно: громоздкий сундук, доверху набитый нарядами, с помощью которых прекрасная Гонора надеялась одержать множество побед и в заключение создать себе положение в Лондоне.
Не отъехали они и двухсот шагов от гостиницы по лондонской дороге, как Софья приблизилась к проводнику и голосом, более медовым, чем был голос самого Платона, хотя уста его были, говорят, пчелиным ульем, попросила парня на первом же перекрестке повернуть на Бристоль.
Читатель, я не суеверен и не слишком верю в нынешние чудеса. Я отнюдь не выдаю следующего происшествия за достоверную истину, потому что мне самому оно кажется почти невероятным, но добросовестность историка обязывает меня передать то, что утверждают очевидцы. Итак, лошадь, на которой ехал проводник, была, говорят, так очарована голосом Софьи, что остановилась как вкопанная и не изъявляла желания двигаться дальше.
Впрочем, происшествие это, может быть, действительно случилось, но чудесного в нем меньше, чем рассказывают, потому что оно может быть объяснено самым естественным образом: так как проводник ослабил в ту минуту нажим своего ошпоренного правого каблука (а он, подобно Гудибрасу, носил одну только шпору), то более чем вероятно, что упущение это само по себе могло побудить коня остановиться, тем более что последнее вообще случалось с ним довольно часто.
Но если голос Софьи и впрямь произвел действие на лошадь, то всадник остался к нему довольно бесчувственным: он грубовато отвечал, что хозяин приказал ему ехать другой дорогой и что он потеряет место, если поедет не туда, куда ему приказано.
Видя, что все ее уговоры напрасны, Софья придала своему голосу неотразимые чары – чары, которые, согласно пословице, старую кобылу с места снимают и в рысь поднимают и которым в наше время приписывают такую же неотразимую силу, какую древние приписывали ораторскому красноречию. Короче говоря, она обещала наградить его свыше всяких ожиданий.
Парень остался не вовсе глух к этим посулам, но ему не нравилась их неопределенность; правда, слова этого он, может быть, отродясь не слыхивал, однако именно оно выражало его чувства. Он сказал, что господа не входят в положение бедных людей и что намедни его чуть было не прогнали за то, что он свез проселком одного джентльмена от сквайра Олверти и тот не наградил его как следовало.
– Какого джентльмена? – возбужденно проговорила Софья.
– Джентльмена от сквайра Олверти, – повторил парень, – сын сквайра, так, кажись, называют его.
– Куда? По какой дороге он поехал? – продолжала расспрашивать Софья.
– Да в сторону Бристоля, миль за двадцать отсюда, – отвечал парень.
– Вези меня в это место, – сказала Софья, – и я дам тебе гинею, и даже две, если одной будет мало.
– Да уж, по совести, двух стоит, – сказал парень. – Ведь посудите, ваша милость, какой опасности я подвергаюсь. Однако ж если ваша милость обещает мне две гинеи – так куда ни шло. Оно, конечно, не годится хозяйских лошадей гонять; одно утешение, если мне откажут от места: две гинеи будут.
Сделка была заключена, парень повернул на бристольскую дорогу, и Софья пустилась в погоню за Джонсом, не обращая внимания на протесты миссис Гоноры, которой гораздо больше хотелось видеть Лондон, чем мистера Джонса. Надо сказать, что в разговорах с госпожой она недружелюбно отзывалась о Джонсе, потому что он был виновен в несоблюдении некоторой денежной учтивости, каковая, по обычаю, полагается камеристкам во всех любовных делах, особливо же в секретных. Объясняем мы это скорее его беззаботностью, чем недостатком щедрости; но Гонора, возможно, держалась другого мнения. Во всяком случае, она его за это жестоко возненавидела и решила при каждом удобном случае пакостить ему перед своей госпожой. Ей было поэтому очень не по нутру ехать в тот самый город и в ту самую гостиницу, куда отправился Джонс; и еще больше не по нутру – натолкнуться на того же самого проводника, который вдобавок еще сделал Софье нечаянное открытие.
Путники наши на рассвете прибыли в Гамбрук44, где Гонора получила очень ей нежелательное поручение: выведать, по какой дороге поехал Джонс. Об этом, правда, мог бы сообщить им проводник, но Софья, не знаю почему, его не спросила.
После того как миссис Гонора доложила сведения, полученные от трактирщика, Софья с большим трудом раздобыла плохоньких лошадей, которые доставили ее в ту гостиницу, где Джонс задержался скорее вследствие несчастной встречи с хирургом, чем вследствие контузии в голову.
Здесь Гонора, которой снова поручено было произвести разведки, обратилась к хозяйке и описала ей наружность мистера Джонса, а та как женщина сметливая сразу почуяла, чем дело пахнет. Поэтому, когда Софья вошла в комнату, хозяйка, вместо того чтобы отвечать служанке, обратилась прямо к госпоже со следующей речью:
– Господи Боже мой! Ну кто бы мог подумать! Прелестнейшая парочка, какую только глаза видели! Ей-ей, сударыня, нет ничего удивительного, что сквайр так увивается вокруг вашей милости. Он сказал мне, что вы прекраснейшая леди на свете, и, право же, не солгал. Дай бог ему добра, бедняжке. Уж как мне его жалко было, когда он обнимал подушку и называл ее своей милой мисс Софьей. Уж как я его увещевала не идти на войну, говорила, что довольно людей, которые только и годятся на то, чтобы их убили, и которых не любят такие красавицы.
– Должно быть, хозяюшка не в своем уме, – заметила Софья.
– И полно! – воскликнула хозяйка. – Какая я сумасшедшая! Ужели ваша милость думает, что я ничего не знаю? Уверяю вас, он мне все рассказал.
– Какой наглец посмел вам говорить о моей госпоже? – вмешалась Гонора.
– Ничуть не наглец, – возразила хозяйка, – а тот самый молодой джентльмен, о котором вы меня расспрашивали: такой красавец и любит Софью Вестерн всей душой.
– Любит мою госпожу! Так знайте же, любезная, что этот орешек ему не по зубам.
– Замолчи, Гонора, – перебила ее Софья, – не сердись на эту любезную женщину: она не думает обижать меня.
– Боже меня сохрани, и в мыслях у меня этого не было, – отвечала хозяйка, ободренная ласковым тоном Софьи, и пустилась затем в длинный рассказ, слишком скучный, чтобы его передавать здесь; некоторые места в нем были немного обидны для Софьи и глубоко возмутили ее горничную, так что, оставшись наедине с госпожой, Гонора воспользовалась этим случаем, чтобы очернить в глазах Софьи бедного Джонса, назвав его презреннейшим человеком, который не может любить леди, если треплет этак по кабакам ее имя.
Однако поведение Джонса не представилось Софье в таком невыгодном свете, и она была, пожалуй, скорее польщена бурными проявлениями его любви (которые хозяйка еще преувеличила, как и все прочие обстоятельства), чем оскорблена остальными подробностями; она приписала все несдержанности, или, вернее, исступлению страсти Джонса и его открытой душе.
Однако случай этот, впоследствии оживленный в ее памяти Гонорой и представленный в самых мрачных красках, немало способствовал тому, что Софья поверила несчастным происшествиям в Эптоне, сильно преувеличив их значение, и помог горничной в ее стараниях заставить свою госпожу уехать из этой гостиницы, не повидавшись с Джонсом.
Хозяйка, узнав, что Софья намерена только подождать, покуда будут готовы лошади, и что ей не надо ни еды, ни питья, скоро удалилась; тогда Гонора принялась журить госпожу свою (позволяя себе большие вольности) и произнесла длинную речь, в которой напомнила о ее намерении ехать в Лондон и сделала немало намеков насчет того, как неприлично девушке гоняться за молодым человеком, заключила она горячим увещанием:
– Ради бога, сударыня, подумайте, что вы собираетесь делать и куда направляетесь!
Такие слова, обращенные к даме, проехавшей уже около сорока миль верхом, притом в не слишком приятное время года, могут показаться довольно нелепыми. Позволительно предположить, что дама эта достаточно все взвесила и приняла твердое решение; мало того, миссис Гонора, судя по высказанным ею намекам, так и думала. Я не сомневаюсь, что мнение это разделяют и многие читатели, которые, я уверен, давно уже определили свою точку зрения насчет намерений нашей героини и бесповоротно ее осудили, как беспутную девицу.
Но в действительности дело обстояло иначе. С недавнего времени Софья металась между надеждой и страхом, между долгом и дочерней любовью, между ненавистью к Блайфилу и состраданием и (отчего не сказать правду?) любовью к Джонсу, разгоревшейся ярким пламенем благодаря поведению отца, тетки и других, в особенности же самого Джонса; так что мысли ее были в том смятенном состоянии, когда мы поистине не сознаем, что делаем и куда идем, или, вернее, глубоко равнодушны к последствиям наших поступков.
Осторожный и благоразумный совет горничной побудил ее, однако, рассуждать более трезво; в конце концов она решила ехать в Глостер, а оттуда направиться прямо в Лондон.
Но, к несчастью, в нескольких милях от этого города она встретилась с тем самым кляузником, который, как было рассказано выше, обедал там с мистером Джонсом. Субъект этот был хорошо знаком с миссис Гонорой и потому остановился и заговорил с ней; Софья почти не обратила на него внимания и только спросила, кто это.
Но по приезде в Глостер, получив от Гоноры более подробные сведения об этом человеке и узнав, с какой быстротой привык он путешествовать, чем (как выше было замечено), по преимуществу, и был известен, припомнив также, что миссис Гонора ему сообщила, что они едут в Глостер, Софья начала опасаться, как бы отец ее не напал с помощью этого человека на след ее, ведущий к этому городу. Ей показалось, что отец непременно ее догонит, если она из Глостера направится в Лондон, поэтому она переменила свое решение и, наняв лошадей на неделю, чтобы ехать в направлении, по которому она ехать не предполагала, снова пустилась в путь после короткого отдыха, вопреки желанию и настойчивым просьбам своей горничной и не менее горячим увещаниям миссис Вайтфильд, которая из учтивости, а может быть, по доброте своей (у бедной девушки был очень утомленный вид), усердно уговаривала ее переночевать в Глостере.
Подкрепившись лишь чашкой чаю и полежав часа два в постели, пока готовили лошадей, Софья часов около одиннадцати вечера решительно покинула заведение миссис Вайтфильд и, направившись по ворчестерской дороге, менее чем через четыре часа прибыла в ту гостиницу, где мы ее видели в последний раз.
Подробно проследив, таким образом, путь нашей героини от ее бегства до прибытия в Эптон, мы в нескольких словах приведем туда же ее отца. Получив первые указания от проводника, доставившего дочь его в Гамбрук, мистер Вестерн уже без труда выследил ее до Глостера, откуда устремился в Эптон, так как узнал, что маршрут этот избран был мистером Джонсом (Партридж, выражаясь языком сквайра, везде оставлял за собой крепкий дух), и нисколько не сомневался, что по той же дороге поехала, или, пользуясь его словами, «дала стрекача», Софья. Надо сказать, что он употребил еще более грубое выражение, которое мы не станем здесь приводить, – его поняли бы одни только охотники на лисиц, но они и сами без труда его отгадают.
Книга одиннадцатая
охватывающая около трех дней
Глава I
Корка для критиков
Может показаться, что в нашей последней вступительной главе мы обошлись с грозным цехом людей, именуемых критиками, более непринужденно, чем нам приличествует: ведь они требуют от писателей большой угодливости, и это требование обыкновенно удовлетворяется. Поэтому в настоящей главе мы изложим этой высокой корпорации резоны нашего поведения, причем, может статься, представим господ критиков в таком свете, в каком до сих пор еще их не видели.
Слово «критика» происхождения греческого и означает – суд. Отсюда, я полагаю, люди, не понимающие оригинала и знакомые только с переводом, заключили, что оно означает суд в юридическом смысле, зачастую понимая это слово как синоним осуждения.
Я склоняюсь именно к этому мнению, так как значительнейшая часть критиков в последние годы состоит из юристов. Многие из этих господ, отчаявшись, может быть, занять место на скамье в Вестминстер-холле45, расположились на театральных скамьях, где и принялись проявлять свои судейские способности и творить суд, то есть беспощадно осуждать.
Господа эти были бы, вероятно, чрезвычайно польщены, если бы мы ограничились этим сравнением их с одной из самых важных и почетных должностей в государстве, и мы бы так и поступили, если бы искали их расположения; но так как мы намерены обращаться с ними искренне и с прямотой, то должны им напомнить о другом должностном лице судебного ведомства, гораздо низшего ранга, с которым у них тоже есть некоторое отдаленное сходство, поскольку они не только произносят приговор, но и приводят его в исполнение.
Однако нынешних критиков можно с большой справедливостью и верностью представить также и в другом освещении, а именно: как публичных клеветников. Если субъект, сующий нос в дела других с единственной целью открыть чужие промахи и разгласить их всему свету, заслуживает названия клеветника, порочащего репутацию людей, то почему же критика, читающего книги с тем же злобным намерением, нельзя назвать клеветником, порочащим репутацию книг?
Мне кажется, нет более презренного раба порока, общество не порождает более отвратительной гадины, и у дьявола нет гостя, более его достойного и более ему желанного, чем клеветник. Свет, боюсь я, и наполовину не гнушается этого чудовища так, как оно заслуживает; и еще больше боюсь я объяснить причину этой преступной снисходительности к нему; несомненно, однако, что вор по сравнению с клеветником кажется невинным; даже убийца редко может с ним соперничать в отношении тяжести преступления: ведь клевета – оружие более ужасное, чем шпага, так как наносимые ею раны всегда неизлечимы. Один только способ убийства, самый гнусный и подлый из всех, имеет точное сходство с пороком, против которого мы здесь ополчаемся, именно: отравление – способ мести, настолько презренный и отвратительный, что законы наши некогда мудро отличали его от всех других видов убийства особенно строгим наказанием.
Помимо страшного вреда, причиняемого клеветой, и гнусности средств, ею употребляемых, есть и другие обстоятельства, придающие ей еще более отвратительный характер: ведь часто сеется она без всякого повода и почти никогда не сулит клеветнику награды, если исключить те черные, адские души, для которых наградой служит одна мысль о чужой гибели и несчастьях.
Шекспир великолепно обрисовал этот порок, говоря:
Кошель стащить – стащить пустяк, ничто:
Был мой – чужим стал раб мильонов;
Но, имя доброе мое похитив,
Богатым вор не станет, а меж тем
Он разорит меня46.
Со всем этим, без сомнения, согласится почтенный мой читатель; но многое из сказанного, вероятно, покажется ему слишком суровым в применении к людям, которые клевещут на книги. Так пусть учтено будет, что в обоих случаях клевета имеет источником один и тот же злобный умысел и одинаково не может быть оправдана соблазном. И мы не вправе сказать, что ущерб, причиняемый такой клеветой, ничтожен, если рассматривать книгу как порождение автора, как дитя его мозга.
Читатель, муза которого находится в девственном состоянии, может составить себе лишь весьма несовершенное представление об этом роде родительской любви. Для такого читателя мы можем пародировать нежное восклицание Макдуфа: «Увы, ты не написал ни одной книги». Но автор, муза которого уже рожала, поймет всю патетику этих слов и даже, может быть, прольет слезы (особенно если его любимчика нет уже в живых), когда я расскажу, с каким трудом муза вынашивает свое бремя, с какими муками разрешается от него и, наконец, с какой заботливостью и любовью нежный отец холит своего баловня, пока его не вырастит и не выпустит в свет.
И ни один из видов родительской любви не является менее безотчетным и слепым, ни один так хорошо не согласуется с житейской мудростью. Такие дети по всей справедливости могут быть названы богатством отца, многие из них с истинно сыновней преданностью кормили родителя в преклонные его годы; таким образом, не только заветные чувства, но и материальные интересы писателя могут быть сильно задеты этими клеветниками, ядовитое дыхание которых поражает книгу преждевременной смертью.
Наконец, кто чернит книгу – чернит в то же время ее автора, потому что, как нельзя назвать кого-нибудь ублюдком, не назвав мать его потаскухой, так нельзя сказать о книге: «жалкая сплетня, чудовищная нелепость», не назвав автора ее болваном, что в нравственном смысле хотя и предпочтительней наименования подлец, но в отношении житейских выгод, пожалуй, вреднее.
Как ни смешно все это может показаться иным читателям, однако я не сомневаюсь, найдется немало и таких, которые почувствуют и признают правоту моих слов и даже, пожалуй, подумают, что я рассуждаю об этом предмете недостаточно торжественно, – но, право же, истину можно говорить и с улыбкой на лице. Обесславить книгу из злобы или даже ради шутки – поступок по меньшей мере весьма неблаговидный; и угрюмый, брюзгливый критик справедливо, мне кажется, должен почитаться дурным человеком.
Я постараюсь поэтому в заключительной части настоящей главы охарактеризовать его и показать, какую критику я отвергаю, ибо, надеюсь, никто, кроме разве господ, о которых здесь идет речь, не понял меня так, будто я вообще не допускаю существования компетентных судей литературных произведений или пытаюсь устранить из области литературы кого-нибудь из тех благородных критиков, трудам которых столько обязан ученый мир. К числу их принадлежат Аристотель, Гораций и Лонгин – среди древних, Дасье и Боссю47 – у французов, да, пожалуй, кое-кто у нас; все они обладали должной компетентностью для исполнения судебных обязанностей in foro litterario48.
Но, не устанавливая всех качеств, какими должен обладать критик, о чем я говорил в другом месте, я смело могу, мне кажется, протестовать против хулы людей, не читавших осуждаемых ими сочинений. Подобные хулители, высказываются ли они на основании собственных догадок или подозрений или же на основании отзывов и мнения других, справедливо могут быть названы клеветниками, порочащими репутацию осуждаемых ими книг.
Этой характеристики, сдается мне, заслуживают также критики, которые, не указывая определенных недостатков, осуждают все произведение целиком, клеймя его ходячими поносными словами: гадость, глупость, дрянь и тому подобное, особенно эпитетом «низкий» – вовсе неприличным в устах критика, если только он не сиятельная особа49.
Далее, пусть даже в произведении действительно обнаружены некоторые погрешности, но если они находятся не в самых существенных его частях и возмещаются большими красотами, то суровый приговор всему произведению единственно на основании некоторых неудачных частностей продиктован скорее злобой клеветника, чем суждением истинного критика. Это прямая противоположность взглядам Горация:
Verum ubi plura nitent in carmine, non ego paucis
Offender maculis, quas aut incuria fudit,
Aut humana parum cavit natura50.
Ибо, как говорит Марциал, aliter non fit, Avite, liber51 – ни одна книга не пишется иначе. Всякая красота в характере, в наружности, а также во всем, что касается человека, должна оцениваться только таким образом. В самом деле, было бы жестоко, если бы произведение вроде этой истории, на сочинение которого ушло несколько тысяч часов, подверглось осуждению оттого, что одна какая-нибудь глава или даже ряд глав могут вызвать вполне справедливые и разумные возражения. Между тем сплошь и рядом суровейший приговор книге основывается только на таких возражениях, которые, если они справедливы (а это бывает не всегда), нисколько не подрывают ее достоинства в целом. Особенно на театральных подмостках отдельное выражение, пришедшееся не по вкусу публике или какому-нибудь критику из публики, наверняка будет освистано, а одна не понравившаяся сцена может провалить всю пьесу. Писать, подчиняясь столь строим требованиям, так же невозможно, как жить согласно правилам желчных ригористов: послушать некоторых критиков и некоторых набожных христиан52, так ни один писатель не спасется в этой жизни и ни один человек – в будущей.