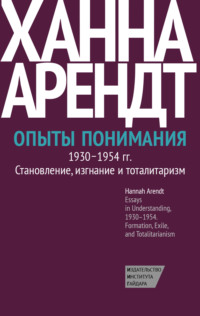Buch lesen: "Опыты понимания, 1930–1954. Становление, изгнание и тоталитаризм"
Essays in Understanding, 1930–1954. Formation, Exile, and Totalitarianism
© 1954, 1953, 1950, 1946, 1945, 1944 by The Literary Trust of Hannah Arendt Bluecher
© Издательство Института Гайдара, 2018
Арендт-лиса
Обычно, если кто-то вспоминает Исайю Берлина в контексте политической теории XX в., то в связи с его знаменитым эссе «Два понимания свободы», в котором высказана и без того хорошо знакомая идея о негативной и позитивной свободах1. Идею, ранее сформулированную Бенжаменом Констаном, Берлин выразил так ясно и в то же время безапелляционно, что закрепился в пантеоне самых важных авторов прошлого столетия навсегда2. Но хорошо известно, что Берлин был также и историком социально-политической мысли, в том числе русской. В одном из своих эссе, посвященных взглядам Толстого на историю, он предложил весьма привлекательную метафору – классифицировать всех выдающихся мыслителей в соответствии с двумя типами – ежа и лисы. Хотя саму идею двух конкурирующих животных он позаимствовал у древних греков, в частности поэта Архилоха, заставить аналогию «работать» придумал именно Берлин3.
Если следовать логике высказывания Архилоха, с точки зрения Берлина, все философы, писатели или те, кто претендует ими быть, так или иначе, скорее либо еж, либо лиса. Еж знает один большой и самый главный секрет, в то время как лиса знает лишь много секретов помельче. Иными словами, кто-то занимается одной темой всю жизнь, другие – исследуют самые разные предметы. Если принимать во внимание все символические импликации этой метафоры (в том числе из русских сказок, где лиса безрезультатно пытается ежа съесть, будучи им одурачена), образ лисы выглядит менее привлекательным, нежели образ ежа, на что Берлин, разумеется, не указал. Добавим к этому также, что один из наиболее известных журналов, посвященных критическому осмыслению современной культуры, называется The Hedgehog Review, что по-русски будет звучать как «Ежиное обозрение». Как видно, ученым и интеллектуалам хотелось бы знать пусть и один, но большой секрет, чем довольствоваться малым: многопрофильного журнала «Лисье обозрение», посвященного всему на свете, до сих пор не создано.
Мне бы хотелось сказать слово в защиту лис. Как мы помним, одно из самых маленьких по объему и в то же время захватывающих эссе Ханны Арендт, вошедшее в книгу, которую вы держите в руках, называется «Хайдеггер-лис»4. Здесь не так важно, что хотела сказать про Хайдеггера Арендт, имеет значение лишь то, что она использовала именно образ лиса – лишенного хитрости, но так или иначе заманившего многих в свою ловушку, «самую красивую ловушку в мире». Как видно, даже самые бесхитростные лисы на поверку оказываются весьма коварными. Вопрос о том, кем бы оказался Хайдеггер в аналогии Берлина, оставим открытым. Однако вот какой вопрос нуждается в однозначном ответе: кто в таком случае сама Ханна Арендт?
Прежде, чем ответить на этот вопрос, нужно сказать кое-что еще. В яркой главе истории политической философии лис имеет гендерную ориентацию. Так, Макиавелли советует новому государю совмещать в себе качества двух зверей – льва и лисы. Одна из самых оригинальных интерпретаторов творчества Макиавелли Ханна Питкин, у которой есть книга и про Ханну Арендт5, считает, что для философа лев имеет второстепенное значение, в отличие от лиса. Лис-мужчина появляется во французской сатире XII в. Этого лиса зовут Ренар, и он всегда способен обыграть грубого и свирепого волка Изенгрима. Ренар умен, ловок и циничен, он всегда может предугадать опасность и выйти из сложного положения. С точки зрения Питкин, лис-политик возникает в самое неспокойное для государства время: это такой деятель, который необходим для того, чтобы преодолеть политический кризис6.
Теперь мы можем ответить на вопрос, поставленный выше. Разумеется, Арендт – самая настоящая лиса. Несмотря на то, что сама она позаботилась о том, чтобы упрочить гендерную спецификацию лиса в тексте о Хайдеггере, возможно, Арендт подпадает под то же самое определение. Во-первых, как и у Макиавелли, Арендт писала в самые сложные для человечества времена. И точно так же она могла увидеть многое наперед (о чем мы поговорим впоследствии). Во-вторых, Арендт в самом деле знала много секретов. Но это отнюдь на означает, что Арендт-лиса хуже мыслителей-ежей. И вот почему.
Очевидно, в плане паблисити – будь то гуманитарные науки или русские сказки – лисе везет меньше, чем ежу. Но что в реальности? В небольших рассказах Антони Грамши, написанных для его детей и изданных в СССР еще в середине 1950-х (и стереотипно переизданных недавно), есть история про ежа и история про лису. В одном рассказе Грамши делится с читателями воспоминанием, как он впервые в жизни увидел лису, которая ничего не боялась, но лишь лукаво ухмылялась. В другом рассказе Грамши повествует о том, как приручил ежей и оставил их жить у себя. Эта история имеет такой поучительный конец: «Жили они у меня недолго: наверно, их украла лиса, которая, как известно, охотится за ежами»7.
Иными словами, как бы нам ни хотелось думать, что еж проворнее и хитрее лисы, в реальности дела обстоят иначе. Похоже, обладать многими секретами и удобнее, и выгоднее, чем носить в себе один большой. И потому, когда мы называем Ханну Арендт лисой, то делаем ей величайший комплимент.
Арендт знала очень много секретов. Она написала несколько крайне влиятельных книг – «Истоки тоталитаризма», «О революции», «Vita activa», «Банальность зла» (на самом деле «Эйхман в Иерусалиме»), «Жизнь ума», «О насилии», а также «Лекции по политической философии Канта». Другие ее важные работы «Скрытая традиция» и «Люди в темные времена» тоже про секреты. Наконец, ее сборники эссе «Между прошлым и будущим» и «Ответственность и суждение» сами по себе состоят из множества секретов8. Иными словами, Арендт, размышляя о политике, интересовалась совершенно разными феноменами.
Некоторым образом ей повезло, потому что она жила в одно из самых «темных времен». И хотя все комментаторы в один голос характеризуют это как подвиг, мы должны попытаться разглядеть и другую сторону медали – по крайней мере, у Арендт были темы, которым она могла посвящать себя, и были проблемы, которые нужно было описывать и объяснять. Упомянутый выше Исайя Берлин однажды произнес очень важную фразу: «Лично я большую часть XX века прожил, не испытав серьезных лишений. Все же я считаю его самым ужасным столетием в западной истории»9. Арендт бы никогда не сказала этого вслух, однако она имела возможность описывать все эти ужасы и оставаться при этом в относительной безопасности, с каждым годом упрочивая свою популярность в качестве первоклассного политического мыслителя.
Некий культ Арендт и всеобщая завороженность ее текстами сегодня нуждаются во взвешенной оценке. Если вы прочтете предисловие к сборнику «Опыты понимания», то увидите, с каким пиететом Джером Кон10 отзывается о работах Арендт и какой трепет испытывает, рассуждая об этих эссе. Сегодня Арендт в России, учитывая количество ее переведенных книг, фактически оказывается в положении Мишеля Фуко, популярность которого у нас так и не сошла на нет. И потому публикация сборника, который вы держите в руках, предельно важна. Но, конечно, не потому, что это очередная книга Ханны Арендт.
С одной стороны, «Опыты понимания» – даже не книга самой Арендт, а том ее работ разных лет. От сборника сложно ожидать серьезной концептуальной проработки, которую мы можем обнаружить в «Истоках тоталитаризма» или в «О революции». Кроме того, это именно эссе, рецензии, реплики, лекции и интервью – все то, что, по идее, обыкновенно находится в тени основного корпуса текстов того или иного мыслителя. Самый очевидный аргумент в пользу значимости публикации «Опытов понимания» состоит в том, что эти тексты помогают нам лучше понять эволюцию взглядов Арендт и проследить кристаллизацию ее концепций. Что ж, это убедительный, но не достаточный аргумент для того, чтобы мы мгновенно бросились читать эту книгу. Почему в таком случае сборник важен?
Постоянные отсылки в комментариях Кона к «фундаментальным текстам» Арендт справедливо могут навести читателя на мысль: не является ли данная книга крайне вторичной по отношению к уже сказанному? В конце концов, если она отточила свои идеи для больших томов, зачем обращаться к ее черновикам и всему тому, что только готовилось стать стройной теорией или сформированной концепцией? При таком взгляде «Опыты понимания» будут полезны только тем авторам, которые специализируются на исследовании творчества Арендт и проводят серьезные археологические раскопки ее идей, пока не найдут все осколки, чтобы собрать паззл целиком?
И хотя исследователям книга окажется более чем полезной, она также может показаться любопытной широкому кругу читателей. В то время как «Истоки тоталитаризма» и другие фундаментальные тексты нужно еще освоить, собранные эссе и отрывки в этом томе имеют один нюанс – в большинстве своем они написаны не для специалистов, а для общественности. Разумеется, чтобы понять, как Арендт думает про тоталитаризм, нужно прочитать «Истоки тоталитаризма». Однако же эти небольшие эссе могут привлечь широкий круг читателей для того, чтобы познакомиться с мыслителем лучше. Но это то, что касается сегодняшнего дня и отечественной широкой аудитории.
Тем, кто хотя бы немного знаком с мыслью Арендт или занимается политической теорией XX в., будет любопытно узнать ту Арендт, которая выходила к городу и миру и вторгалась в американскую (и не только американскую) публичную жизнь. Причем предлагая не массивный том, который мог заставить склонить голову уже благодаря своему объему, но лишь как рядовой автор тех или иных журналов, лекционных площадок и т. д. В конце концов прежде, чем стать автором The New Yorker, Арендт была автором куда менее знаменитых изданий со специфической аудиторией. Иными словами, по текстам этой книги мы наблюдаем не только эволюцию ее мысли, но также и трудный путь превращения немецкой эмигрантки, поначалу не слишком хорошо владеющей английским языком, в одного из влиятельнейших политических теоретиков и публичных интеллектуалов XX в. Мы наблюдаем становление лисы.
А теперь обратимся к самому главному – к контексту. Потому что книга «Опыты понимания» нуждается в комментариях куда больше, чем какая-либо другая работа Арендт. И хотя Джером Кон в предисловии к этому тому подробно рассказывает, по каким источникам публикуются материалы, он не говорит о главном – о том, как Арендт превратилась в самую известную лису XX в. Сборник начинается с ее интервью, которое задает координаты для правильной рецепции остальных ее текстов, собранных под одной обложкой. После первого же вопроса Арендт заявляет, что не является философом, но считает себя политическим теоретиком. Как отмечает историк политической науки Джон Ганнелл, это отнюдь не пустые слова, это куда больше вопрос профессиональной идентичности и отношения с политикой11.
Ханна Арендт была одним из тех многочисленных немецкоязычных авторов, которые вовремя покинули Германию в поисках лучшей жизни. И хотя большинство из них могли остаться в Европе, они сочли более правильным отправиться в Соединенные Штаты. Сама Арендт прежде, чем прибыть в Америку, провела несколько лет во Франции. Возникла следующая ситуация: немецкоязычные авторы с блестящей философской подготовкой, с Хайдеггером и Гуссерлем под мышкой приезжают в страну, в которой высокая европейская философия не является столь уж востребованной.
И тогда те, кто некогда числились философами, открывают для себя новый континент – политическую теорию. На тот момент в США, где эта дисциплина и родилась, она еще находилась в становлении, и потому именно в этой области немецкоязычные интеллектуалы могли сказать свое слово, использовав для анализа актуальной политики освоенную ими европейскую философию. Карл Дойч, Ганс Кельзен, Арнольд (не путать с Бертольдтом) Брехт, Франц Леопольд Нойман, Герберт Маркузе, Эрик Фегелин, Лео Штраус, Ханна Арендт – лишь немногие из очень длинного списка выдающихся авторов, ставших популярными за счет «американизации» своих идей.
Согласимся, конкуренция была серьезной. Но именно Арендт, прекрасно понимая, что лучше знать много секретов, чем один, в итоге стала одним из самых влиятельных политических теоретиков. Исследователь творчества Арендт Джорж Кэйтиб заметил, что самыми влиятельными немецкоязычными авторами в США по итогам оказались Штраус и Арендт, хотя счел должным добавить к этому списку и Герберта Маркузе12. У каждого из этих мыслителей была своя стратегия относительно того, как строить карьеру ученого в Соединенных Штатах. К этому нужно добавить, что влияние немецкоязычных интеллектуалов оказалось столь велико, что они в самом деле изменили представления о политической теории в США. Джон Ганнел в своей монографии подробно рассказывает, как эмигранты завоевывали себе место под солнцем13. В блербе к этой книге Теренс Болл, другой исследователь темы, идет дальше и даже называет этот феномен «германской тиранией в американской политической теории».
Самое примечательное заключалось в том, что прибывшие в США мыслители скорее конкурировали друг с другом, нежели продвигались единым клином, подразумевая жесткую тактику по завоеванию позиций в академической жизни Америки (единственное, что объединяло многих из них – резкое неприятие сциентистского подхода). Более того, они мало общались между собой, демонстративно не ссылались друг на друга и вообще почти не читали работы друг друга. Британский исследователь Бхику Парех замечает, что в период с 1950–1960-х практически все политические теоретики вместо того, чтобы дискутировать друг с другом, создавая единое диалогическое пространство политической теории, скорее являли собой одиноких «гуру»14. Можно сказать даже больше, Арендт и Штраус смогли создать вокруг своих имен культ. Это же касается и Маркузе, популярность которого в США, впрочем, стала возможной благодаря счастливому стечению обстоятельств и, весьма вероятно, не зависела непосредственно от него – грубо говоря, он был скорее «идеологом», чем ученым (он стал едва ли не первым философом в США, про которого журнал «Play Boy» опубликовал огромную статью – до этого такие авторы, как Айн Рэнд, говорили со страниц журнала лишь от собственного имени). Но факт в том, что на некоторое время Маркузе стал кумиром поколения15.
В целом картина, нарисованная Парехом, вполне точная. Однако мы можем найти некоторые ниточки, которые связывали политических теоретиков XX в. Так, Эрик Фегелин был дружен с Лео Штраусом и написал рецензию на первую работу Штрауса, изданную в США. Штраус любезно ответил на доброжелательную критику Фегелина16. Более того, сам Штраус начал свой знаменитый текст «Релятивизм» с критики того самого эссе Исайи Берлина «Два понимания свободы»17. Но, конечно, это лишь единичные примеры. В основном все было так, как говорит Парех.
Стратегия Арендт отличалась от подхода ее коллег двумя следующими взаимосвязанными установками. Во-первых, она быстро поняла необходимость присутствия в американской публичной жизни, в то время как, например, Штраус высказался в прессе на актуальную тему едва ли не единожды. Когда консервативный журнал National Review опубликовал материал, в котором содержалась острая критика государства Израиль, Штраус написал открытое письмо редактору издания (как и для многих других эмигрантов «еврейский вопрос» оставался для него предельно важным). Арендт же публиковала рецензии на книги важных для нее авторов и щедро высказывалась по разным вопросам в публичной сфере (в этом томе вы найдете не один ее такой текст). Ее эссе публиковались в очень разных изданиях – начиная с католического журнала Commonweal и заканчивая The Nation. Иными словами, другие эмигранты, не будучи лисами, придавали своему публичному образу слишком мало значения.
Во-вторых, в то время как политические теоретики строили концепции, обращались к истории мысли, клеймили общество потребления, Арендт предлагала философский комментарий к актуальным проблемам, стараясь высказываться о самых больных темах – нацизм, коммунизм, атомная бомба, насилие и т. д. По хронологии публикаций «Опытов понимания» мы видим, как сдвигался фокус интересов Арендт – от Августина, Кьеркегора, Кафки до самых горячих вопросов.
Но этим ее стратегия лисы, обладавшей невероятной интуицией, не ограничивалась. Например, Франц Нойман, некоторое время связанный с Франкфуртской школой, слишком поторопился с публикацией своей книги «Бегемот», посвященной национал-социализму. Текст вышел в 1944 г., то есть еще до окончания Второй мировой войны, и поначалу, конечно, имел невероятный успех18. Однако по итогам оказалось, что у книги есть две проблемы. Первая – недостаточное количество материалов, чтобы сделать далеко идущие выводы и подробнее описать о всех ужасах нацизма. Вторая – очень слабая концептуализация. Используя символ чудовища из Ветхого Завета, Нойман намекал на то, что пишет «Левиафан» XX века, но при этом лишь механически связал нацистскую Германию и Бегемота в начале и в конце книге, оставив в середине огромное количество эмпирического материала. В отличие от него Ханна Арендт не спешила с выводами относительно национал-социализма, и по текстам в «Опытах понимания» мы видим, как кристаллизуется ее концепция. Арендт не только тщательно продумала то, что собирается рассказать, но и расширила предмет исследования, описав как тоталитарное государство и СССР – куда более актуальная тема для США после окончания Второй мировой войны.
В «Опытах понимания» есть очень важный текст, на который Джером Кон почти не обращает внимания. Это ответ Арендт на рецензию Эрика Фегелина об «Истоках тоталитаризма». Фегелин, видимо, был негордым автором и, кажется, хотел за счет критики Арендт подсветить собственную политическую теорию, потому что публично признавался, что прочитал труд своего прямого конкурента – как мы помним со слов Пареха, это экстраординарный случай. При этом самому Фегелину не повезло дважды.
Во-первых, он очень неудачно выбрал для себя явление, которое обвинит во всех ужасах XX в. Если быть более точным, то это была некоторая спекуляция – философ считал, что истоки тоталитаризма и вообще любого политического зла скрываются в средневековых ересях и прежде всего в работах Иоахима Флорского и его последователей, францисканских спиритуалов19. И хотя конструкция в самом деле изящная и вполне продуманная, ключевой проблемой Фегелина было то, что он являлся ежом. Средневековая ересь оказалась в ответе за все – за позитивизм, либерализм, коммунизм, нацизм и прочее. Все тексты Фегелина так или иначе вращаются вокруг этого одного большого секрета, даже ранние работы по «политическим религиям», в которых он лишь начинал оформлять свои открытия.
Во-вторых, Фегелин решил дать самое неудачное имя этой средневековой проблеме – «гностицизм». И хотя он был первым, кто заявил копирайт на термин, история рассудила по-другому. Фегелин концептуально оформил свои идеи в книге «Новая наука политики» в 1953 г.20, но спустя пять лет, в 1958 г., вышла предельно важная для истории религии и социальной теории книга одного из «детей Хайдеггера» (наряду с Арендт и др.), как назвал группу последователей философа Ричард Уолин21, Ганса Йонаса «Гностицизм»22. В то время как Фегелин наделил термин собственным содержанием, Йонас конструировал реально существующие религиозные движения, объединив их всех под единым брендом «гностицизм», тем самым в итоге одержав победу в борьбе за авторское право на понятие.
В ответе Фегелину Ханна Арендт, возможно, намеренно не использует это понятие, тем самым отказываясь легитимировать его в академическом пространстве политической теории, а также четко разграничивает свой подход и подход Фегелина. Для нее, лисы, тоталитаризм кристаллизовался из разных элементов, что она и пыталась проследить в истории, в то время как для Фегелина, ежа, тоталитаризм был лишь следствием разрушительных, как выяснилось, идей иоахимитов. В самом начале Арендт откровенно признается, что не пишет ответы на рецензии своей книги и вообще сожалеет о том, что решилась отреагировать на реплику Фегелина. Если называть вещи своими именами, Арендт не просто не хотела вступать в полемику, но не собиралась рекламировать конкурента за свой счет.
Это подтверждает даже тот простой факт, что спустя время, когда был опубликован текст «О революции», Арендт отпустила в адрес Фегелина колкость, но, разумеется, не сочла необходимым упомянуть его имя: «…Лютер, разорвав узы традиции и авторитета и попытавшись найти точку для создания авторитета не в традиции, а в божественном слове, внес свою лепту в процесс снижения авторитета религии. Само по себе, без формирования обновленной церкви в Новое время это имело бы столь же незначительные последствия, как и эсхатологические настроения и размышления, свойственные поздним Средним векам от Иоахима Флорского до Reformatio Sigismundi. Этот памфлет (и это не так давно прозвучало) мог бы считаться достаточно невинной предтечей современных идеологий. В чем я, однако, сомневаюсь, – с таким же основанием в средневековых эсхатологических движениях можно увидеть прообраз современной массовой истерии»23.
В 1963 г. Данте Джермино в статье «Возрождение политической теории» назвал Фегелина самым оригинальным и глубоким автором и заключил, что мыслитель «на сегодняшний день является наиболее несправедливо игнорируемым политическим философом. Хотя было бы преждевременно оценивать его место в истории политической мысли, вполне возможно, что со временем Фегелин будет оценен как величайший политический теоретик нашего столетия и один из величайших во все времена»24. Джермино упоминает и Ханну Арендт, но лишь через запятую, перечисляя иных авторов, которые могут отвечать за возрождение политической теории в XX в.25 Как в итоге все сложилось, нам известно. Хотя в США в 1990-е группа поклонников Фегелина (настоящий культ) вплотную занялась его творчеством, издав полное собрание его сочинений, например, в России не переведено ни одной книги автора26, в то время как Ханна Арендт у нас известна уже давно.
Здесь не место вдаваться во все подробности истории связей немецкоязычных эмигрантов в США. И эта история еще ждет своего исследователя. Нам было важно предложить иллюстрацию карьерного становления Ханны Арендт, которое происходило в период написания текстов, попавших в «Опыты понимания». Таким образом, когда в своем знаменитом интервью Ханна Арендт заметила собеседнику, что она политический теоретик, то вкладывала в эти слова куда больше, чем может показаться на первый взгляд. Ее формирование как ученого и мыслителя в американской академии было сложным, но захватывающим. И если бы, в отличие от своих коллег-ежей, она не была выдающейся лисой, сегодня ее имя вряд ли красовалось на обложках сотен книг, посвященных лично ей или темам, над которыми она работала.
В самом деле, лиса Ханна Арендт смастерила куда больше красивых и заманчивых ловушек, нежели лис-Хайдеггер. Многие из этих ловушек аккуратно расставлены для вас в этой книге.
Александр Павлов,доцент Школы философии НИУ ВШЭ, заведующий сектором социальной философии Института философии РАН