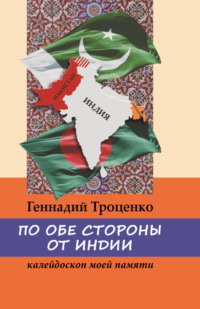Buch lesen: "По обе стороны от Индии. Калейдоскоп моей памяти"

Подписывайтесь на Telegram-канал издательства «Международные отношения»
Второе издание, переработанное

© Троценко Г. П., 2024
© Подготовка к изданию и оформление ООО «Издательство “Международные отношения”», 2024

Предисловие ко второму изданию

Представленное произведение – второе издание моей книги (Троценко Т.П. По обе стороны от Индии. Калейдоскоп моей памяти. М.: КнигИздат, 2023). Первое, в силу ряда обстоятельств, вышло весьма ограниченным тиражом и, соответственно, не получило широкого распространения. По сравнению с предыдущим данное издание является заметно расширенным и актуализированным в том, что касается страноведческой и общефилософской проблематики.
Поскольку настоящую работу все же, строго говоря, нельзя отнести к научному или профессиональному исследованию, я посчитал оправданным сохранить значительную часть автобиографического материала, содержащегося преимущественно в первой главе книги, который дает представление не только о том, как и в каких условиях происходило становление моей личности, но в известной степени и об особенностях того времени на периферии Советского Союза спустя почти десять лет после Великой Отечественной войны.
И все же основная цель книги – это рассказ о профессиональном пути дипломата-востоковеда, о характере моей работы в Пакистане и Бангладеш с подробным анализом узловых событий и неоднозначных процессов, разворачивавшихся в том числе и на моих глазах в странах, с которыми я был связан на протяжении всей своей более чем сорокалетней дипломатической карьеры. В этой части повествования я не только делюсь какими-то наблюдениями бытового или социокультурного характера, но и на правах кандидата исторических наук делаю собственные академические зарисовки и обобщения относительно политического развития этих стран Южной Азии. Не обошел я вниманием и некоторые особенности внутренней атмосферы и специфики деятельности наших загранпредставительств в названных странах.
В заключительном разделе книги я также посчитал нужным поделиться – на основе обретенных знаний, жизненного опыта и здравого смысла – своим пониманием и по некоторым извечным вопросам бытия. Я далек от ожидания того, что мои выкладки общефилософского порядка полностью совпадут с точкой зрения всех читателей, но надеюсь, что эти размышления по крайней мере послужат поводом глубоко задуматься над затронутыми проблемами.
Предисловие

О том, что время летит стремительно, говорилось миллионы раз. И все же каждый вынужден ощутить это на себе. Причем фиксируется это ощущение тем чаще, чем дальше мы отдаляемся от изначальной точки отсчета своей жизни. Констатация этого ощущения носит, как правило, все более ностальгирующий характер. Действительно, большая часть жизни уже прожита, а оставшаяся – неизвестна по своей продолжительности и, как правило, не сулит физического и душевного комфорта. Это и побуждает с щемящей тоской вспоминать то время, когда жизнь казалась бесконечной по протяженности и безграничной по возможностям. Уходящее время, словно комета в небе, оставляет за собой длинный хвост из событий и дел. Все они, разные по своему характеру и значимости, и составляют содержание и смысл жизни каждого из нас. Уже позже, оглядываясь назад, порой думаешь: а что было бы, если бы поступил не так, а эдак? Одни считают, что есть какая-то предопределенность и закономерность в траектории их жизни, а другие утверждают, что все, начиная с самого факта рождения, строится на случайностях. Более точный ответ на этот вопрос дает, пожалуй, один из философских постулатов, согласно которому закономерность есть пересечение случайностей.
Жизнь каждого человека уникальна и неповторима. Она одновременно является и интегральным элементом, и отражением того времени, в которое мы живем. Для потомков она может быть как интересна в виде некоего исторического материала для понимания специфики эпохи в разных ее проявлениях, так и поучительна в плане познания особенностей человеческих взаимоотношений, которые, несмотря на всеохватывающий и динамичный научно-технический прогресс в обществе, строятся по давно сложившимся и в основе своей несокрушимым лекалам и правилам, понятиям, порой весьма далеким от официально декларируемых обществом морали и нравственности.
Мое повествование будет предельно достоверным и лишенным по возможности предвзятости в изложении и оценке тех событий и явлений, свидетелем и участником которых я был сам. Какова же цель моего повествования? Описывая свою жизнь практически с самого начала, я, прежде всего, хочу дать представление моим сыновьям о том, в каких условиях и при каких обстоятельствах жил их отец, как и под влиянием чего в дополнение к генетической составляющей формировались его личность, в том числе его характер, а также отношение к окружающему миру. Одним словом, эта часть книги представляет собой своеобразную исповедь и отчасти назидание для самых близких. Что же касается основной части творения, связанного уже с моей профессиональной деятельностью, то она рассчитана на более широкий круг читателей. Эту часть предваряет описание того, как я вообще оказался на дипломатическом поприще и думал ли я об этом до того, как это уже практически случилось. Если коротко ответить на последний вопрос, то такая возможность была за пределами моего воображения и фантазии. В том, что это все же произошло, проявили себя в полной мере Его Величество Случай и богиня Фортуна.
Пройдя уже значительный путь в жизни, я уверовал в то, что если не все, то многое в этом мире построено на случайностях. Да, случайности могут быть разные и, соответственно, иметь разный масштаб и характер последствий для каждого человека. В обоснование своего тезиса могу сказать, что и настоящий мой труд в известной мере тоже представляет собой результат случайностей. Попробую разъяснить.
Перед выходом в отставку с дипломатической службы я предполагал сотворить нечто значительное в академическом ключе по Бангладеш, однако, когда уже оказался на заслуженном отдыхе, посчитал, что этим заниматься, пожалуй, несколько поздно, да и сомнения были, насколько мое творение будет востребовано в условиях современного динамичного мира. Тем не менее укоренившаяся за годы активной жизни привычка к письменно-печатному творчеству, дающему ощущение движения, ощущение смысла существования, все же сохранялась и ждала удобного случая, чтобы вновь проявить себя. Такой случай представился, когда по инициативе нескольких моих сокурсников накануне 50-летия окончания Московского государственного института международных отношений (МГИМО) Министерства иностранных дел СССР возник проект выпуска сборника статей тех, кто учился на одном потоке в этом учебном заведении. Я оказался в числе поддавшихся искушению представить на всеобщее обозрение свои мысли и соображения. В развитие этого проекта, который материализовался в виде выпущенной издательством «МГИМО-Университет» в 2021 году книги «Дорогами нашей жизни», появилась идея написания отдельных индивидуальных работ с освещением гораздо большего диапазона событий и времени. Эта идея, созвучная моему внутреннему настрою, была инициирована моим сокурсником и другом с институтских лет, а ныне видным ученым – доктором исторических наук, доктором политических наук, профессором, действительным членом Академии политической науки Яковом Андреевичем Пляйсом. Благодаря его деликатным, но настойчивым побуждениям я и отважился взяться за это дело.
Как при подготовке упомянутой выше статьи в сборнике, так еще в большей степени при написании настоящей работы у меня были определенные сомнения насчет того, смогу ли я освоить новый для себя стиль изложения. Да, я обрел немалый опыт подготовки информационно-справочных и аналитических документов за время более чем 40-летней дипломатической службы, а при написании кандидатской диссертации, научных статей и монографий в известной мере удалось также освоить и академическую манеру изложения, однако указанные стили были как бы обезличены и обездушены, в них не было места для передачи своих личных оценок, ощущений и эмоций. Настоящее же творение представляет собой некую эклектику, состоящую, с одной стороны, из изложения ряда аспектов истории, национальных особенностей, внутренней и внешней политики (с акцентом на двусторонние отношения с СССР/ Россией) тех стран Южной Азии, где мне в общей сложности пришлось проработать более двадцати лет, а с другой стороны, из личной и профессиональной автобиографии, наблюдений и обобщений по непосредственно практической работе в дипломатических учреждениях. Последнее я описал в реалистическом ключе, лишенном предвзятости и приукрашивания.
Дипломатическая жизнь – в данном случае имеется в виду прежде всего внутренняя жизнь коллектива Посольства и любого другого загранучреждения – состоит не только и не столько из официальной и парадной части, но и каждодневной рутины, в которой есть свои проблемы и трудности, а также в наибольшей степени проявляются особенности, как позитивные, так и негативные, работающих в этом коллективе людей. Допускаю, что мои откровения по этой части дипломатической жизни кому-то могут не понравиться. Что ж, каждый имеет право на свое видение и оценку того или иного явления в современной жизни.
Что касается выбора названия книги – «По обе стороны от Индии», – то он был продиктован тем, что большая часть творения все же посвящена Пакистану и Бангладеш, где я был в длительных командировках. Эти страны, находящиеся на западе и на востоке от Индии, являются географическими рубежами Южной Азии. В Индии, сердцевине Индийского субконтинента, мне пришлось побывать только проездом или в краткосрочной командировке, а потому излагать какие-то свои собственные наблюдения и умозаключения больших оснований нет. Тем не менее Индия довольно часто упоминается в работе опосредованно через Пакистан и Бангладеш.
По поводу же подзаголовка, как бы дублирующего основное название книги, хотел бы пояснить, что он говорит о том, что значительная часть работы состоит все же из сохраняющихся в моей памяти личных воспоминаний и наблюдений по широкому кругу вопросов. Хотя я и стремился подать их в хронологическом порядке, это не всегда получалось, так как при изложении пришлось делать какие-то дополнения, пояснения и экскурсы – и все это опять же созвучно идее калейдоскопа, при повороте которого всегда возникает некая новая мозаика. Хочу опять же заметить, что при описании всех препарируемых мною событий, фактов, людей и т. д. я стремился к максимальной достоверности и объективности; это касается в том числе и всех данных и характеристик, даваемых разным аспектам жизнедеятельности упоминаемых стран.
Возможно, кому-то покажется, что я излишне откровенно и детально подал некоторые стороны своей автобиографии. В этой связи хочу пояснить, что на это меня побудило желание показать, как по ряду параметров в начале своего жизненного пути я далеко отстоял от того, чем позднее пришлось заниматься по жизни. За счет последнего я хотел также противопоставить широко известному понятию «американская мечта» «советскую реальность», которая давала человеку возможность реализовать себя, при условии что он сам этого хочет, независимо от того, к какой страте общества он относится, при том что в отличие от «американской мечты» ему совсем не обязательно было идти по трупам к достижению своей цели.
И наконец, хочу выразить надежду на то, что читатель найдет для себя что-то интересное и полезное в моей работе.
Глава первая
Начало всех начал

Мои корни. Жизнь в деревне
Вопреки расхожему утверждению о том, что основное свойство памяти – это забывать, моя память хранит в своих «закромах» очень многое, в том числе и то, что я сам бы предпочел забыть, но не в состоянии это сделать. В известной мере память автономна и избирательна. Она хранит в своих глубинах не только яркие и значимые события и факты, но и те, которые являются, в общем-то, вполне будничными и малозначимыми. Совокупность одних и других дает некую возможность как бы вернуться или, скажем, заглянуть в то ушедшее безвозвратно прошлое со всеми его достоинствами и недостатками. Не только заглянуть, но и где-то даже понять, благодаря или вопреки каким обстоятельствам формировалась твоя личность и представления об окружающем тебя мире.
Мои самые первые воспоминания относятся к тому времени, когда мне было примерно четыре года. Касаются они, прежде всего, того непосредственного окружения, в котором я находился. Это, в первую очередь, мои родители, а также родители родителей. Жили мы тогда в сельской местности северо-западного района Казахстана, граничащего с входившей в состав России Оренбургской областью. Деревня Красноярка (в официальных документах: поселок Красноярск Мартукского района Актюбинской области), где я родился на самом стыке 1947 и 1948 годов, а двадцатью четырьмя годами ранее – мои родители, находилась примерно в 30 километрах от реки Урал. Ландшафт этого района состоял из невысоких гор (отрогов Уральского хребта), сменяемых возвышенностями, переходящими в степные пространства с редкими лесами.
Следует сказать несколько слов о моей родословной, а также о том, как мои предки оказались в этой части Казахстана. Как известно, в самом начале XX века возглавляемое П.А. Столыпиным царское правительство проводило аграрную реформу, одним из элементов которой было предоставление малоземельным или безземельным крестьянам центральных районов России, в том числе и Малороссии, свободных земель в присоединенных к Российской империи в конце XVIII и первой половине XIX века северных, в основном степных, районах Средней Азии, в частности в Тургайской области. Именно в рамках этого освоения свободных (правильнее сказать – малозаселенных коренными казахами/киргизами, к тому же на тот момент в большинстве своем кочевниками) земель мои прародители – прадеды и прабабки – и оказались в районе Зауралья (в данном случае имеются в виду районы за рекой Урал). Выехали они, как мне рассказывали дед и бабка по материнской линии, из Полтавской губернии. У указанного столыпинского проекта, вероятно, была некая регламентация, следствием которой по факту стало то, что Тургайская область в подавляющем большинстве была заселена выходцами из Малороссии. Подтверждением этого было то, что основным языком общения расселившихся здесь переселенцев был украинский, а созданные ими поселения носили такие названия, как Андреевка, Зеленый Гай, Полтавка, Родниковка, Хлебодаровка и т. и. К моменту моего появления на свет эти сельские районы были уже достаточно заселены, чему в известной степени поспособствовала и Великая Отечественная война, когда беженцы и перемещенные лица из европейской части и дальневосточного региона Советского Союза получали тут пристанище, уменьшая тем самым долю коренного населения, редкие поселения (аулы) которых находились в основном южнее.
Деда по отцовской линии, Степана Троценко, я никогда не видел и ничего о нем не знаю. Сожалею, что не удосужился в свое время поинтересоваться о нем у своего отца. Бабка по отцовской линии – Анна Ивановна (баба Анюта), девичья фамилия Артюхова; ее родной брат (если не ошибаюсь, Петр) жил примерно в 30 километрах от Красноярки в поселке Новоуральск (на берегу р. Урал) Кувандыкского района Оренбургской области. Была у бабы Анюты и родная младшая сестра, о которой я узнал уже много позже от отца и к которой в 1969 году приезжал «нежданчиком» в гости в Таллин. Несмотря на русские корни (были, как я узнал позже от отца, и польские), баба Анюта говорила только на украинском, по крайней мере в обиходе и со мной. Была она грамотна, хотя уровень ее грамотности мне неизвестен. Могу лишь предполагать, что она в свое время училась, вероятнее всего, в церковно-приходской школе. Родители мамы – Остапенко Илья Васильевич и Прасковья (отчество не помню) были, судя по всему, чисто украинского замеса и из потомственных крестьян. Оба были неграмотны. Семья у них, в отличие от отцовской, была большая, в том числе включающая в себя пятерых детей: Георгий (погиб во время Великой Отечественной войны), Мария, Марина (моя мать), Павел и Сергей.
Родители мои получили 6-классное образование в школе в той же деревне, где и родились. Оба они были призваны в 1942 году на фронт: отец – на Западный (прошел от Сталинграда до Будапешта), а мать – на Дальневосточный (служила в составе частей по материально-техническому обеспечению войск). Участие родителей в Великой Отечественной войне было отмечено государственными наградами, в частности отец был награжден орденом Красной Звезды, орденом Красного Знамени и орденом Отечественной войны I степени, а также медалями («За оборону Сталинграда», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне» и «За взятие Будапешта»). После войны родители вернулись в родную деревню, а примерно через два года после моего рождения вся семья, включая бабу Анюту, переехала в Андреевку, соседнее и более крупное село, где были и большие возможности для трудоустройства. Отец исполнял некие управленческие функции в администрации колхоза, а мать работала в сельском магазине. Отец был среднего роста, поджарый и отличался довольно живым и общительным характером. Мать же примерно того же роста, что и отец, и без особой склонности к полноте, внешне была более сдержанной, но все же с характером. Оба родителя значительную часть времени проводили на работе, а потому первые свои годы я находился в основном под присмотром бабы Анюты. Поскольку я был единственным внуком от единственного сына, баба Анюта меня очень любила. У живших хотя и рядом, но все же отдельно деда и бабки по материнской линии на тот момент уже было несколько внуков от других детей, а потому их отношение ко мне было более спокойным, я бы даже сказал, несколько равнодушным.
Итак, как уже было сказано выше, когда мне было около двух лет, наша семья перебралась в Андреевку, находившуюся примерно в 10 километрах от Красноярки. В последующие три года, пока мы жили в этом селе, и прошло мое самое раннее детство, когда происходило формирование памяти и в целом сознания. До сих пор удерживаемые памятью отдельные события и факты того времени не имеют между собой какой-то четкой взаимосвязи и всплывают, скорее, как некие фрагменты чего-то большого, смысл и значимость которого я еще не вполне понимал. Сейчас даже затруднительно разложить все эти воспоминания хронологически безошибочно, тем не менее я попробую воспроизвести эти мозаичные «картинки» в той последовательности, которая представляется мне наиболее вероятной.
Более или менее определенно отпечаталась в моей памяти наша жизнь в Андреевке. Своего жилья в этой деревне у нас не было, а потому родители арендовали дом (хату) у односельчан. В силу своего малолетства этот дом тогда представлялся мне достаточно большим, хотя позже, когда я уже подростком эпизодически приезжал из города в деревню на летние каникулы к своим родственникам, мог видеть, что это была довольно обычная во всех отношениях саманная хата на окраине деревни, с двухскатной крышей, расположенная в лощинке между сельской дорогой и речушкой под названием Тарантул.
Неплохо помню я внутреннее строение и убранство нашего жилья, т. е. то, что ныне мы называем интерьером. Жилая часть дома состояла из многофункциональной комнаты и большой прихожей, где к тому же располагалась так называемая русская (она же и украинская) печь. Как известно, достоинством таких печей было то, что они использовались не только для приготовления пищи, но и для обогрева всего дома. Непременным атрибутом печи было наличие обогреваемого ею лежака, т. е. места, где можно было спать и отдыхать. Особенностью печи в нашей хате было то, что она имела два лежака: один в прихожей, а другой непосредственно в жилой комнате. Предметов мебели было немного: помимо родительской железной кровати, деревянного стола, лавок да бабушкиного, опять же деревянного, сундука с росписью под хохлому, ничего другого я не помню. Освещение в доме было исключительно за счет дневного света и керосиновой лампы. В памяти запечатлелась картинка, как в зимние вечера мои родители, баба Анюта и кто-либо из живших рядом хозяев дома или навещавших родственников матери (главным образом, ее брат и, соответственно, мой дядя – дядько Павло) азартно резались в «дурака». Других развлечений у взрослых практически не было. Были в жилой комнате дома еще два небольших, но примечательных предмета. Одним из них было не замолкающее в течение дня радио в виде черного воронкообразного круга, в середину которого было вмонтировано транслирующее устройство. Программа радиовещания не отличалась особым разнообразием: часто передавались оперные арии в женском исполнении, которые баба Анюта называла «скавчання» (собачье скуление), да диктовка текста каких-то патриотических и лирических шлягеров того времени. Другим предметом, непременным практически в каждой деревенской избе, несмотря на атеистическую пропаганду властей, была икона, находившаяся, как водится, в правом верхнем углу горницы. Какой святой был изображен, сейчас я уже не смогу определить. В памяти, однако, остался один случай, связанный с иконой.
В какой-то сумеречный зимний день, очнувшись от полуденного сна на теплом лежаке печи в горнице, я хотел спуститься вниз по пристроенным ступенькам, но в этот момент посмотрел в диагонально противоположный угол комнаты, где под потолком висела икона, – и наши взгляды, мой и святого на иконе, пересеклись. Я вдруг почувствовал какой-то испуг от прямого, устремленного на меня взгляда святого. Я невольно попятился назад и спрятался за перегородкой печи. Еще несколько раз я пытался выйти из своего укрытия, но каждый раз натыкался на строгий взгляд святого с иконы, а потому опять прятался за перегородкой. Спустился я с печи только тогда, когда вернулась баба Анюта, выходившая из дому по каким-то делам. На жалобу насчет преследования меня святым она отреагировала: «Мабуть, ти нашкодив, и вш на тебе сердився» («Видимо, ты напроказничал, и он на тебя сердился»).
Бабе Анюте в пору моего уже более-менее осмысленного детства было, видимо, лет 50 с небольшим. Была она чуть ниже среднего роста и весьма умеренной физической комплекции. Характер у нее был доброжелательный, спокойный и рассудительный. Одевалась она, как все деревенские женщины старшего возраста того времени, в длинную холщовую юбку темного цвета и под стать ей кофту, а на голове – ситцевый платок, прикрывающий седые волосы, которые закручивались в узел и закреплялись деревянным гребнем. Ей была свойственна некоторая набожность. Перед сном она шепотом читала короткую молитву и крестилась. Поскольку мы спали вместе, то, глядя на ее ритуал отхода ко сну и желая как бы ей угодить, я тоже крестился, хотя и не был крещеным. Несмотря на свою физическую тщедушность, она тем не менее не робела перед возникающими проблемами, для решения которых необходима была отнюдь не женская сила.
Как в любом деревенском доме того времени, у непосредственно жилой части строения было смежное с ней помещение для скота, что позволяло в числе прочего беспрепятственно проходить туда в любое время, что имело особую значимость зимой, когда снаружи были трескучие морозы, а дома заносило снегом порой по самую крышу. В нашем скотнике (сараем это помещение, по моему мнению, назвать нельзя, так как он представляет все же отдельно стоящее строение) размещалась опять же обычная для рядовой деревенской семьи живность, а именно: помимо двух десятков кур были также корова, лошадь, свинья и/или пара-тройка овец. Когда у последних появлялся приплод, то его, чтобы он не замерз, зачастую брали в прихожую часть дома, где была печь. Помню, как я в ту пору с удовольствием резвился с шустрым и игривым ягненком. Да, был в доме еще один обитатель. Это светлого окраса пес Трезор. Когда мы жили в Красноярке, соседи мне подарили его еще щенком. К сожалению, Трезор недолго прожил с нами. В одну из зимних ночей, когда рядом с домом в поисках пищи рыскала волчья стая, Трезор каким-то образом выскочил из хаты и был, естественно, растерзан и съеден волками. Следы этой драмы мы могли видеть утром следующего дня на ослепительной белизне снега. Волки, в общем-то, были частыми гостями в нашей деревне, тем более что их собственные логова находились примерно в паре-тройке километров от поселка в небольших лесках. Помню еще одну сцену с участием этого «соседа». Опять же в какой-то слегка сумеречный зимний день мы с отцом ехали в запряженных лошадью санях невдалеке от деревни. Вдруг откуда-то появился и пристроился за нами на расстоянии 15–20 метров от саней волк. Лошадь стала нервно храпеть, мой отец тоже напрягся, тем более что при себе у нас не было не только ружья, но и какого-то другого орудия для возможной схватки с хищником. В силу своего малолетства я не понимал всей серьезности опасности и, полулежа на охапке сена в санях, просто наблюдал за происходящим. К счастью, мы приблизились к деревне, и волк отстал от нас.
В памяти осталось еще одно обстоятельство нашей жизни в Андреевке. Дом, где мы жили, как я уже отмечал, находился на окраине деревни и рядом с сельской дорогой. По другую сторону дороги, примерно в 150 метрах от нас, располагалось небольшое чеченское поселение. Оно представляло из себя несколько наскоро сделанных жилых строений, больше похожих на загоны для скота, но под крышей. Могу предположить, что там жили полтора-два десятка людей. Поселение было обособлено от деревни не только своим расположением, но и, как я мог слышать по каким-то репликам взрослых, по своей социальной жизни. Вынес я также ощущение того, что отношение коренных сельчан к неожиданно появившимся несколькими годами ранее соседям было настороженно-любопытствующим. Помню, как в какой-то момент, слыша доносившийся из поселения в течение нескольких дней подвывающий женский плач, взрослые говорили о факте кражи чеченцами у соплеменников в другой деревне молодой женщины для одного из своих мужчин. Соседство с представителями Кавказа в известной степени затронуло и меня. Было это так. Родители купили мне трехколесный велосипед, что в ту пору было большой редкостью, тем более в деревне. Несколько раз этот велосипед похищал у меня чеченский мальчуган по возрасту чуть постарше меня.
Начало 1953 года запомнилось мне тем, как односельчане реагировали на смерть Сталина. Деревня хотя и не была большой, тем не менее в ее центре, рядом с магазином, где работала мама, стояла трехметровая статуя вождя в полный рост. Разумеется, я еще не понимал, что это была за личность. Когда же «вождь народов» умер в начале марта 1953 года, то по деревне, где еще стояла зима со снегом и ослепительным солнцем, на многих домах появились большие красные флаги с черными лентами, по радио играла траурная музыка, а люди в моем окружении были в самом деле взволнованы и опечалены, задаваясь вопросом, что же будет дальше.
Не знаю, была ли какая-то отдаленная связь между этим событием и тем, что летом 1953 года наша семья по инициативе отца решила покинуть деревню и переехать в областной центр, т. е. в находившийся от Андреевки на расстоянии примерно 70 километров город Актюбинск. Думаю, все же более вероятной причиной нашего переезда было то, что у отца в силу его характера появилось желание сменить образ жизни, тем более что в городе у него было много фронтовых товарищей.
В деревню Андреевку я впоследствии неоднократно приезжал во время школьных летних каникул. Навещал я свою, по существу, «малую родину» с большим желанием, так как здесь я чувствовал почти полную свободу и было много, как мне казалось, всегда готовых видеть меня родственников по материнской линии – не только старшее поколение, в частности дед и бабка, а также двое дядей и тетка, но и немалое число двоюродных братьев и сестер. Дяди и тетка принимали меня, в общем, радушно и гостеприимно, тем более что мама с лихвой возмещала им все расходы по моему пребыванию. Напрягало лишь одно обстоятельство. Между представителями старшего поколения родственников по нарастающей происходили какие-то разногласия и трения, в том числе по вопросу дележа скудного родительского наследства и обязанностей по заботе о родителях, т. е. о моих деде и бабке Остапенко. В связи с моими заездами на побывку они ревностно отслеживали, к кому первому из них я зашел по приезде и остался на постой. Чаще других я останавливался у дядьки Павла, в том числе и потому, что его сын и мой двоюродный брат был близок мне по возрасту.
Die kostenlose Leseprobe ist beendet.