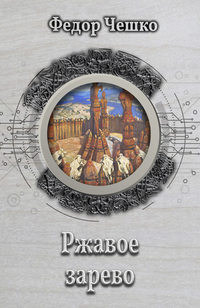Buch lesen: "Ржавое зарево"
Светлой памяти моего отца и наставника
…За разговором оба они не заметили, как миновали опушку и углубились в мягкие сумерки редколесья, где чаща-матушка словно бы решила проверить уживчивость елей, дубов да берез. Видевшуюся почти черной траву густо пятнали рыжие лучи клонящегося к закату Хорсова лика – лучи, похожие на немыслимой длины копья, наискось пронзающие древесные кроны и уходящие далеко-далеко, к самому златому лику светородного бога.
Кудеслав ловил себя на том, что мимо воли старается обходить их, эти лучи, словно бы опасаясь не то ушиба, не то ожога – до того они были прочными, настоящими. А когда легкие порывы верхового ветра принимались шевелить ветви деревьев, от мелькания прозрачных столбов золотого света кружилась голова…
Эх, если бы только от этого кружилась несчастная голова Кудеслава Мечника!
Не вполне минувшийся ушиб…
Виденье иззубренного каменного лезвия – легко, будто бы даже ласково скользило оно по горлу старейшины, который ради счастья и благополучья вверившейся ему общины жертвовал сперва правдой, потом родовичами, потом собою, и все его жертвы приносили одно только зло…
Виденье толпы – как она негодует, бурлит; как братья-родовичи, паростки единого вятского корня волками щерятся друг на друга…
А потом та же толпа молчала, и все лица сделало совершенно одинаковыми одинаковое выражение растерянности, страха, налепленное на них вестью о гибели старейшины и Неугасимого Огнища… Да, в тот миг все впрямь сделались друг другу родными. Надолго ли? Погиб неудачно жертвовавший себя Яромир, смертью подтвердив свою виноватость, но остался главный виновник чуть не заварившейся кровавой усобицы (вот он, здесь, рядом – вину-то признал, только, похоже, вовсе не считает ее виною). И остались тайные Яромировы поплечники из своих же общинников. Их станут выискивать и наломают дров… А подлиный затейник примется довершать свою затею, ради всеобщего благополучия не милуя никого…
И уже не важно, отдадут или не отдадут себя родовичи под руку "старейшины над старейшинами всех вятичских племен"; неважно, охотники ли подломят под себя кователей-слобожан, слобожане ли взнуздают охотников… Для общины нет разницы между этими исходами потому, что нет более общности, а, значит, нет и самой общины. Она, как Неугасимое Огнище, захлебнулась в пролитой Яромиром крови.
Да, было от чего кружиться и болеть несчастной голове Мечника Кудеслава.
А еще Мечнику Кудеславу было холодно – вешним вечером все-таки несладко в лесу босому и без рубахи. Думалось, прогулка получится краткой, но тягостные воспоминания и еще более тягостная беседа напрочь сожрали ощущение времени.
Заметив, что Кудеслав знобко обхватил руками голые плечи, волхв тихонько спросил:
– Озяб?
– Перетопчусь! – Мечник выпрямился, опустил руки. – Озяб – согреюсь, дело не смертное. Ты мне вот что растолкуй, ты, мудрый! Вот Яромир. И вот ты. Один одного хотел, другой – вовсе наоборот. А чтоб своего добиться, творили одно и тоже. Ну то есть СОВЕРШЕННО одно и тоже. Яромир-то, бедолага, поди, так и помер, не догадавшись, что он не сам все придумал… Как же это? Получается, что вы с ним совсем-совсем одинаковые, а чего хотеть, чего добиваться – это в конце концов и неважно? Яромир бы свалил все на извергов да слобожан, сказал бы: "Вот каким образом склоняли нас принять волю старейшины над старейшинами!" Ты бы… Нет, без "бы". Ты свалил все на Яромира: "Вот каким образом нас не пускали под руку Волкова родителя!" А образ-то один. Одинаковый. Твой и его. "Вот как плохо поступили те, кто хотел не того, чего хотел я – значит, они хотели плохого", – да? Только кто поступал-то?! По чьему умышленью творилось то, что творилось?!
– Думаешь, я все это затеял ради себя?! – глаза хранильника полыхнули недобрым черным огнем. – Думаешь, мне легко было затевать такие затеи?! Но ради…
– Не нужно рассказывать, ради чего ты все затевал! Я знаю ЧТО ты делал, и мне этого вот так, – Кудеслав чиркнул кончиками пальцев по своему горлу. – А ради чего… Это, оказывается, не важно.
Вздохнул Белоконь, волхв-хранильник Светловидова капища; вздохнул, потупился.
– Ну, и что же ты (волхв приударил на это "ты", словно бы гвоздь вколотил) собираешься делать теперь?
– Векша скучает по родителю… – проговорил Мечник, глядя куда-то в занавешенную листвою высь да рассеянно теребя стриженную свою бородку.
– Уйдете на Ильмень-озеро?
– Да! – Кудеслав мельком скосился на хранильника и вновь отвернулся. – Здесь будет много крови. Крови между своими. Воспрепятствовать этому я не могу. А видеть – не хочу. И проливать кровь сородичей я больше не стану, уразумел?
– Думаешь, на Ильмене будет иначе?
– Не думаю. Но мой род здесь. Что бы ни болтали старики, я не урман. Я своему роду не чужой. Это на Ильмене я стану чужим. И слава богам.
– Это трусость, – сказал Белоконь.
– Да, – подумав, согласился Мечник. – Наверное, это трусость.
Хранильник вдруг не по-хорошему блеснул запламеневшим угольем глаз:
– А ты, друг-брат, подумай-ка над безделкой: выпустят ли вас добром из здешних чащоб? Родовичи твои хотят тебя вместо Яромира, все хотят; а от согласной воли рода не вдруг отмахнешься… особливо, когда род напуган…
– Грозишь?
– Что ты, – как-то очень уж искренне изумился волхв, – и в мыслях не держал, борони меня боже…
– Боже? – Кудеслав прищурился со злобной усмешкой. – Это который? Световит-Род? Или другой какой? Уж не тот ли, чье потайное святилище ты в мертвой дубраве блюдешь? Не тот ли, что жалует тебе колдовские беспромашные стрелы?
Он осекся, потому что Белоконь вдруг как-то… одряхлел – не одряхлел… усох, что ли…
– Подсмотрел, значит… – тихо сказал волхв. – Я так и знал, что это ты тогда… Знал… Никого бы другого ржавая стрела не помиловала. Я тогда в жизни первый и единственный раз видал, чтоб ржавое снизошло только пугнуть. Счастлив ты, Кудеславе, всем-то ты надобен – оттого до сих пор и цел… – Хранильник вдруг подался вперед и зашептал торопливо:
– Но пойми: надобный надобен лишь пока совершает надобное. А как вдруг что наперекор – тогда он уже помеха. Ты не ершись, ты подумай; это же я не в угрозу, я предупредить… Верь, всего безопаснее тебе здесь…
Оборвалась эта захлебистая шепотливая скороговорка так же внезапно, как и началась – на полуслове и полумысли. Волхв отвернулся, кусая губы. Ошарашенный Мечник глядел на него, пытаясь понять, жалость или гадливость вызывает ссутуленная вздрагивающая спина бывшего друга. Пытаясь понять и не понимая.
Вечерело. Блекли, пропадали дивные столбы ярого Хорсова злата. Лес медленно впускал в себя сумерки.
– …е-е-сла-а-в!
Возле самой опушки, там, где было еще светло, появилась тонкая белая фигурка, за голову которой словно бы зацепился последний луч умирающего дня.
– Знаешь, а ведь ты меня все же уел, старик!
Хранильник стремительно обернулся, и Кудеслав чиркнул нежданно веселым взглядом по его замытому полумглою лицу (белоснежные заросли волос, бороды и усов, а посреди – темное пятно с влажными отблесками удивленных глаз). – Уел! Что бы там ни было, а я тебе по край жизни буду обязан за твой подарок.
– Дурень ты! – вздохнул Белоконь. – Привередничал, на самых завидных девок глядел, как на синиц аист, искал чего-то, искал – ох же ж и выискал себе проклятье ходячее! Меч твой утопила… Да десяток таких, как она со всем ее волховским наузным уменьем не то что меча – ножика худого не стоит! У тебя пальцев на руках да ногах не достанет счесть, сколько по Векше твоей, проданной-перепроданной, мужиков отъелозило! За твою доброту она даже дитем отдариться не сможет, дурень, ой же ж и дурень ты!
Мечник не слушал.
Он торопливо уходил туда, к еще нетронутой сумерками опушке, откуда неслось звонкое, зовущее:
– …у-де-е-сла-а-ав!
И горизонт шел ему навстречу.
Пролог
Мечник сам затянул с отъездом аж на четыре никому в общем-то не нужных тягостных дня: никак не мог решиться на прощание с названным своим родителем Велимиром. И в град не хотелось, потому что ни с кем из родовичей видеться душа не лежала; и само прощание грозило получиться тяжким да муторным; и… Вот это-то еще одно “и” не замедлило оказаться куда серьезнее остальных-прочих.
Что железноголовый Урман сызнова наладился прочь из родимых краев, в общине ухитрились дознаться почти мгновенно. Может, это Белоконь расстарался. А может, нет: вести и безо всякой там ведовской помощи умеют разбегаться куда попало с прытью, не доступной ни людским, ни конским ногам (диво общеизвестное, хоть разумного объяснения ему нет). Так, иначе ли, но со следующего же утра после мечникова с волхвом памятного разговора повадились на волхвов двор гости. Не к хозяину повадились – к Мечнику. За два дня гостей этих перебывало больше десятка, причем наезжали они друг от друга украдкою, а при случайных встречах только что драки меж собою не затевали. И однако, являлись все они ради одного и того же.
Оказалось, большинство сородичей впрямь очень хочет Кудеслава в старейшины. Даже самочинцы хотят: ведь ему ведомо, каково быть не таким, как все, а значит и к извергам должен бы он относиться терпимей, чем тот же Яромир… И при этом слобожане да углежоги наверняка вознадеялись, что коль Мечник однажды выручил их, то и впредь на него можно рассчитывать. А охотники и те, кто с ними, несомненно уверены, будто честный Мечник, однажды качнувшийся в сторону слободы, в следующий раз для справедливости качнется в противоположную сторону.
Да, какими ни разными бывали незваные эти гости, а желали они от Мечника одного и того же, и добиться желаемого пытались почти одинаково.
Обвинения в трусости.
Обвинения в небрежении судьбою родовичей.
Рассказы о долге перед общиной (особо горазд на такие доводы оказался изверг-отщепенец Чернобай).
А потом – проклятия на Векшину голову. Даже это, последнее, Мечник выслушивал молча, с закаменелым лицом… хотя нет, в лице его, наверное, все же что-то менялось. Потому что входившие было в раж собеседники вдруг одинаково давились недоговоренным и убирались прочь. Спешно убирались, иные почти бегом. А иные и не почти.
Получалось, что едва ли не единственной причиной мечникова ухода родовичи мнят именно Векшу. Причаровала дурня колдунья-наузница, уводит, будто кобеля на ремне… жабоедка… рыжая гадина… мертвобрюхая… подстилка перекупленная… и эти словечки еще отнюдь не самые крепкие из сыпавшихся на ильменкину голову.
Вот и продолжал Мечник тянуть-оттягивать прощальную свою поездку в общинный град (а значит, и вообще отъезд тоже).
Чтобы все гости этак вот одинаково взъелись на ильменку… Тут поневоле задумаешься: не с чужого ли голоса, не нашептана ли им эта злоба? А кто бы мог нашептать? Легкий вопрос.
Уж Белоконь-то наверняка понимает: несчастье с Векшей – единственный способ удержать Кудеслава в общине. Спровадь ее кто-нибудь в Навьи, Кудеслав непременно затеет выискивать убивца, а там… Покуда найдет, покуда сумеет отмститься, можно будет отвратить его от ухода. По-всякому: уговорами, ведовством…
Так что тащить Векшу с собой в град нельзя: путь-то не долог, но и не короток, да все лесом… Ведь не убережешь же, будь ты хоть какой-раскакой умелейший воин! Свистнет откуда-нибудь из-за дерева остроклювая пташка – и поминай, как звали. Да и в самом граде небезопасно. При нынешних делах кое-кто не смутится попотчевать уклад-железо жизнью собственного сородича, а уж про жизнь какой-то там инородки и говорить нечего.
Выходит, самому ехать, а Векшу на Белоконевом подворье оставить? Одну… Беззащитную… На целый полный день – от темна до темна (скорее никак не обернуться)… Будь волхв Белоконь пускай даже хоть каким хитромудрым, но обычным простым человеком – так и бояться бы нечего. Волчина близ своего логова не убивает. Ежели хранильник позволит Кудеславу заподозрить себя хоть даже в непрямом пособленьи векшиной гибели – конец всему и без того хлипкому замыслу гибелью этой самой Мечника удержать.
Но это бы по обычной людской мерке. А что способен злоумыслить такой могучий кудесник да какую может он порчу навести на ильменку – то, небось, и богам не угадать наперед. Векша вон, к примеру, и так поскуливает, будто Кудеслав ее, купленую-перекупленную да рожать не способную, берет за себя из одной жалости только, и непременно вскорости бросит, потому как жалость – припона износчивая… Мечник уж язык о зубы вдрызг измочалил, уговаривая, только все уговоры – как вода в песок. Оно конечно, бабий разум именно разумом-то называть и не следует, но такая глупость даже для бабы слишком глупа. А к Векше ведь и словцо-то это самое – “баба” – лепится плохо; в иных делах она и мужику нос утрет… Так не наслано ли? А если можно наслать такое, то и… О-ох!
Получается, и собой брать нельзя, и одну оставить нельзя. И вообще лучше бы поскорей убраться из волхвова обиталища. Так может, вовсе не ездить в град? Если б же хоть по пути было… Но нет – лесная тропа, которою пробиравшиеся к себе на Волглу-Итиль хазары довезли до здешних краев Векшу, тянется чуть ли не через самое белоконево подворье. Есть, конечно, еще и речной путь, но водяная дорога больно длинна да многотрудна: долгонько придется петлять по лесным речушкам, прежде чем боги дозволят выбраться на Мсту, а по ней – к Ильменю. Да еще позволят ли боги случиться такой удаче? На реке не шибко-то спрячешься, и опасное место, плывя, не обминешь…
Нет уж, вдвоем через места, где нередко пропадают даже большие отряды, все-таки безопаснее отправляться суходольем. И стало быть, как ни верти, а придется тебе, мил-друже Кудеславе, до окончательного отъезда хоть на денек со хранильникова двора да выбраться – хотя бы чтоб раздобыть коней для дальней дороги (у хранильника брать нельзя, тот может порченых всучить – не из хитрости, так с досады). Да и увильнуть от прощания с названным отцом и с родительским очагом – то вовсе нехорошо будет, не по-людски. После такого, поди, станет невмоготу глядеть на собственное отражение в стоячей воде (именно в стоячей, спокойной, позволяющей видеть даже выражение глаз)…
И еще кстати… верней, некстати… Коли удастся (помогите в том, боги!) сберечь ильменку до окончательного отъезда, то именно отъезд-то и станет для нее самым опасным. Верней, не отъезд даже, а первые день-полтора пути. К примеру, снова ж таки невесть чья стрела из кустов. Нет, не до смерти. Но так, чтоб “выживет – не выживет” мгновения бы решали; чтоб ты, Кудеславе, обо всем прочем враз позабыл да кинулся искать для любви своей исцелителя. Спасителя. Ведуна. А к кому из ведунов при такой беде успеется тебе за подмогой скорее, чем даже к Звану-кователю? И чего он, ближайший этот, стребует за спасение Векши? Так-то…
Время шло, ничего умнее “и так плохо, и эдак не лучше” Мечнику не придумывалось… В конце концов он решился рассказать о своих сомнениях Векше. Конечно, не обо всех и очень осторожно. Уже ведь бывало, что ильменка с перепугу кидалась не в ту сторону (не назад, а вперед то есть). Потому, рассказывая, Кудеслав упирал не столько на опасность, сколько на “негоже дозволить хранильнику оборотить-таки дело к его неправедной выгоде”.
И Векша сказала:
– Поезжай в град один. Не бойся. Он, этот-то, не отважится мне сильное зло учинить, знает же: если со мной что, так ты на него сразу подумаешь. Он исподволь попробует, малостью… А таким, если не в расплох, меня не взять… даже ему. А я настороже буду. Ты не сомневайся, ты езжай. Только возвращайся быстрее, ладно?
Это она так сказала после Мечниковых истовых клятв, будто для него самого поездка безопасна – не станут покушаться на жизнь того, кого еще надеется удержать вся община. И волхв поперек себя выкручивается в попытках сберечь хотя бы тень прежней дружбы…
* * *
Из сарая, в котором они с Векшей повадились ночевать, Кудеслав хотел убраться тишком. Не удалось. Стоило Мечнику выскользнуть из покрытого мехом травяного ложа, как мгновенно подскочила и наузница.
Одеваясь при свете еще с вечера зажженной лучины (опасно людям спать в кромешной тьме – тьма людям не друг) Кудеслав искоса поглядывал на ильменку. Сидит, привалясь голой спиной к замшелым бревнам стены, подрагивает зябко, позевывает, трет кулаками глаза, и в такт ее сонливым вялым движениям упруго вздрагивают-покачиваются на двух крепких округлостях желтые блики светоносного огонька…
Наверное, Векша очень старалась не заснуть и теперь изводилась горьким недоумением: ведь кажется лишь на кратчайший осколок мига разрешила себе призакрыть глаза – и на тебе!
Впрочем, ильменка не слишком-то много времени растратила зря.
Встряхнувшись, она сбрыкала с ног полсть-покрывало и ушмыгнула в траченный отсветами лучины полумрак – туда, где вздыхали-пофыркивали спящие лошади. Мечник смутно различил Векшину тень в дальнем углу, в котором у Белоконя были развешаны седла, уздечки и прочее; потом с душераздирающими вздохами посреди сарая пошла вспухать черная глыба, неторопливо принимающая очертания коня… нет, кобылы. Векша седлала кобылу, которая была не многим хуже хранильникова любимца Беляна.
О своем ночном отъезде Кудеслав волхва не предупреждал и лошадь у него не просил. В просьбе не было нужды. Белоконь безо всяких просьб недавно сказал: "Покуда живешь у меня, располагай любым моим достоянием". Другое дело, сам Мечник выбрал бы что поплоше – мало ли чем вывернется поездка… Да и вообще: пускай с волхвом у него все стало иначе, нежели в прежние добрые времена, но Кудеславу претило рассиживаться на шее бывшего друга, вовсю пользуясь его слабиной (пускай даже и неискренняя она, расчетливая, слабина эта). А вот Векша такими великодушными помыслами не изнурялась. Наверняка она без малейшего зазрения совести попыталась бы взнуздать для мечниковой поездки Беляна, да только знала: норовистый жеребец скорее подохнет, чем пустит к себе на спину кого-нибудь, кроме хозяина.
Длинно и слезно пожаловалась на ветхость отворяемая створка сарайных воротец, в открывшемся проеме мелькнула залитая звездным белесым светом недальняя лесная опушка – мелькнула, и тут же отгородилась от мечникова взора огромной тенью: Векша повела лошадь наружу.
Кудеслав вздохнул и двинулся следом.
Все-таки его одолевала досада, что не получилось ускользнуть незаметно. Спасибо, конечно, ильменке за помощь да заботу, а только помощь эта грозила выйти Мечнику боком.
После того, как Кудеслав столь рьяно убеждал (и ведь убедил же!) Векшу, будто бы для него предстоящая поездка ничуть не опасна, казалось ему немыслимым надеть в дорогу панцирь и шлем. А ведь защитная боевая одежка была бы для Мечника вовсе не лишней. Мало ли чего удалось натолкать в ильменкины уши ради спокойствия их хозяйки!
А на деле…
На деле тайные поплечники Яромира еще не раскрыты, и кто-нибудь из них (если не все) вполне может пожелать отмститься Кудеславу. По пути ко граду их можно не опасаться (им ведь неведомо, когда именно Мечник собирается навестить Велимира), но вот на обратном пути…
Но главное даже не это. Главное кроется в том, что волхв-хранильник вполне может выдумать еще один способ придержать Кудеслава в здешних краях. Рана. Причем на такой случай лукавоумный волхв способен выдумать и что-либо позаковыристее стрелы. И себя же попробует выставить спасителем, исцелителем, отмстителем…
Да, кстати, ох как кстати пришлось бы в ту ночь ратное одеяние! Но вот – не повезло.
Оставалось надеяться на воинское уменье нутром чуять опасность, да еще на то, что Кудеславов отъезд для Белоконя действительно окажется внезапным и тайным. Но даже если и так, утром-то хранильник непременно заметит отсутствие Кудеслава, а тому еще возвращаться…
Снаружи оказалось неожиданно холодно и влажно. Небо было вроде бы ясным, звездным, но в воздухе висел легкий туман – не туман даже, а прозрачная дымка, мельчайшая водяная пыль. Перемешаная с холодным сиянием звезд она занавешивала все вокруг смутным налетом седины, безнадежной и вялой грусти.
Вышагнув из прогретого жарким конским дыханьем сарая, Кудеслав почувствовал, как дубеют от сырости кожаные штанины и голенища сапог; как промозглый ветерок сочится сквозь истертый косулий тулуп и толстую сыромятину рубахи, пробирая мелкой противной дрожью не успевшее отвыкнуть от теплого ложа тело. А лишь несколько мгновений назад подумалось, что без доспеха не стоило и поддоспешный тулуп надевать: ночью, де, об этой поре можно перебиться и без него, а днем непременно взопреешь. Перебиться… Небось, околел бы, перебиваючись…
А вот ильменка вовсе поленилась обременяться одеждой, и теперь дробно цокотала зубами да изо всех сил прижималась к лошадиному боку.
– Иди грейся – застудишься! – сиплым шепотом вымолвил Мечник, принимая повод из ее плотно стиснутого трясущегося кулачка.
Вместо ответа Векша отчаянно замотала головой, и ее короткие рыжие волосы на миг показались Кудеславу темным пламенем, мечущимся под неистовым ветром.
Ильменка перехватила Мечников взгляд, шмыгнула носом:
– Медленно… – она испуганно оглянулась на плотно затворенные ставнями избяные окна и сбавила голос до еле слышного бормотания. – Медленно растут. Знаешь, как без нее плохо? Будто вовсе без головы…
"Без нее" – это, стало быть, без косы. Векшины волосы, обрезанные волхвом ради попытки преобразить свою купленницу в парнишку, действительно успели отрасти лишь на малую чуть – всего-навсего до половины шеи. Так ведь и времени минуло не много… Кстати сказать, Мечнику не очень-то хотелось, чтобы они отрасли. Ему и так нравилось.
Понимая, что самый простой способ угнать ильменку с холода – это поскорее уехать, Кудеслав нащупал ногою стремя и вскинулся в седло. Кобыла недовольно прянула, но он вразумил ее, стиснув бока коленями, и собрался было трогаться, как вдруг Векша опять вцепилась в уздечку.
Вцепилась и прошептала, снизу вверх заглядывая в Мечниковы глаза:
– Ты почему бездоспешным едешь?
– А на кой мне доспех-то? – очень правдоподобно изумился Кудеслав.
Ильменка попыталась что-то сказать – не вышло. Видать, вконец пронял ее холод, и вместо шепота получилась совершеннейшая невнятица, мешанина из заиканий да перестука зубов. Снова пришлось Векше притиснуться грудью к горячей кобыльей шерсти.
Через миг-другой Мечник, перегнувшись с седла и почти касаясь ухом бледных, дрожащих ильменкиных губ, сумел, наконец, разобрать:
– Плохая… Плохая ночь. Чувствую что-то. Не пойму что, только плохое оно. Надень доспех, а?
– Нет уж! – Кудеслав легонько дернул Векшу за взъерошенные волосы. – И так мы с тобою лишь дивом еще никого не разбудили. А тут в сарай, да из сарая, да снова в седло, да железом греметь… Ничего, воин не доспехом силен. Ты лучше себя обереги.
– Оно не для меня… – выговорила ильменка, с досадой отстраняясь от Мечниковых пальцев, рассеянно балующихся ее вихрами. – Ну, это… Которое невесть что… Оно для тебя. Не ездить бы тебе, переждать…
– Пустое, – хрипло перебил ее Кудеслав.
Перебил и сам запнулся. Потому, что понял: Векшу ему не успокоить, ибо для этого бы нужно сперва успокоить себя.
Он тоже чувствовал небывалое. Он, Мечник; воин, навидавшийся всяческих видов; сын могучего кудесника, наделенный толикой отцовой ведовской силы; выученик – хоть и не шибко удалый – своего стрыя, отцова брата, охотника, к которому чаща-матушка и впрямь по-матерински доверительна да благосклонна… Так вот он, Кудеслав Мечник, будучи всем перечисленным, оробел перед ночным лесом.
Оробел нешуточно, до озноба.
Как дитя малое.
Может, и впрямь следовало переждать; возможно, он дал бы себе эту потачку (хоть только лишь боги ведали, не повторится ли такое следующей ночью и теми ночами, которые настанут потом). Однако Мечнику подумалось: стыдный, никогда прежде не изведанный страх может быть насланием Белоконя – именно чтоб задержать. Эта мысль, да еще вполне справедливая уверенность, будто откладывание поездки помешает сохранить ее (поездку то есть) в тайне, все и решили.
И Векша тоже поняла, что он уже все решил и что его не остановить, а потому разом оборвала невнятные уговоры ("день всего пережди… пожертвовал бы Роду, и Навьим, и Лесному Деду… а я бы пока оберег – вместо того, который ты Велимиру…").
Умолкнув на полуслове, она чуть отступила, съежилась, обхватила руками голые плечи. И Мечник толкнул лошадиное брюхо задниками мягких сапог.
Перед тем, как принудить кобылу к прыжку через ограду, Кудеслав обернулся. Векша и не подумала уйти в тепло – стояла, где стояла, все так же ежась и тиская ладонями плечи. Расстояние до нее было уже изрядным, и все же Мечник, не задумываясь, поклялся бы чем угодно: ильменка что-то шепчет ему вослед.
"Что-то"…
Наверняка это "что-то" было охранительным наговором.
И хоть проку Векшино шептание сулило малую чуть (какой уж тут прок, ежели неведомо, от чего охоронять?!), Кудеславу сделалось легче.
* * *
Туман сгущался. Длинные, пахнущие пронзительной сыростью космы теряли прозрачность, тяжелели, оседали к обесцвеченной звездным светом траве.
Свет…
Казалось, его рождают не звезды, а именно эти рои несметных водяных капель, похожие на зацепившиеся за подножья деревьев седые пряди – будто бы ужасающего роста великан вздумал мести лес бородою, да всю ее изодрал-повыдергал о сучья, пни да валежины.
Лес впрямь был словно выметен. Верней сказать так: лес был словно бы неживым.
Лес молчал.
Не то что зверье да ночные птицы – даже комары куда-то пропали; даже ветер, не на шутку разгулявшийся было с вечера, затих, и деревья стыли в пугающей каменной неподвижности. Ни шороха, ни единого шевеленья листвы, обернувшейся холодным чищеным серебром. Лишь плавное оседание густеющих поволок, сотканных из влаги, седин да хворостьного озноба; лишь топот копыт Мечниковой лошади – вот и все.
Все…
Да, именно так: все было в ту ночь необычным, а потому пугающим. Однако больше, чем свет, как бы не имеющий отношения к ясной звездности неба; чем холодная влага, которая решила подменить собою воздух; чем даже беззвучная оцепенелость леса – больше, чем что бы то ни было пугал Кудеслава он сам.
Наверное, до сих пор сказывался жестокий ушиб, доставшийся ему во время схватки-расправы с поплечниками Яромира. Наверняка сказывались тягостные переживания последних дней. Да еще вдобавок промозглая мокреть и самая обычная сонливость…
Только Мечнику не верилось, будто всего этого достаточно для объяснения навалившейся на него вялой одури.
Всякое выпадало в прежние времена: ушибы куда тяжелее того, недавнего; бессонье куда длиннее нынешнего; а опасности, верно, все-таки меньшие, потому что бывали они предсказуемыми, понятными. Но никогда раньше ему бы и в голову не пришло, что в предчувствии смертной угрозы он может вот так безвольно болтаться на лошадиной спине – словно травяное опудало.
И умная хранильникова кобыла, которую бы должен был насторожить, встревожить беззвучный вымерший лес, шла размеренной неторопливой рысью – будто ее тоже одолевала сонливость. А Мечнику не доставало сил даже заставить лошадь шевелиться проворнее…
Ведовство.
Мутное, злое.
Не удалось, значит, незамеченным убраться с волховского подворья.
На что же надеяться? На Векшины заклинанья? На собственную воинскую сноровку, которая может все-таки пробудиться в последний, самый опасный миг? Не шибко крепки такие надежды…
Муторная вялость накатывала на Мечника размеренными леденящими волнами. Временами казалось, будто проклятое наваждение вот-вот схлынет, выпустит и больше уже не вернется. Но все повторялось. Омерзительная дрожь подменяла упругую крепость мышц на никчемную дряблость; зрение, слух, осязание продолжали цепко ловить творящееся вокруг, только добыча чувств волновала разум не сильней, чем запрошлогодние желуди.
Разум грезил наяву. Дивным образом не мешая видеть выстеленный туманом ночной лес вокруг, перед Кудеславовым взором нет-нет, да и наливались пронзительной явью необъятная равнина, поросшая бурой свалявшейся травой; низкий сплошной полог серых туч над головою… Та самая бескрайняя щель меж плоской осенней степью и плоским ненастным небом, виденная уже Мечником через миг после того, как ошеломило его бревно вражьей ловушки-давилки; и вновь, как тогда, он вдруг ощущал, будто идет по этой щели вслед неторопливо ускользающему горизонту… Ощущал явственно, правдиво, и в то же время ни на миг не переставал чувствовать под собою спину рысящей лошади.
Наваждение.
Ведовство.
Наслание.
И все-таки тот, кто напустил на Кудеслава эту жуткую марь, прежде, верно, никогда не имел дела с воинами. Старая добрая наука: не думать о нависшей угрозе, чтобы настороженные чувства не обманывались выходками распалившегося воображения. Но заставить себя не думать об опасности можно лишь когда знаешь, что именно тебе грозит. А когда угроза неведома…
Наверняка желая чего-то вовсе другого, неизвестный наслатель помог Кудеславу в том, к чему вряд ли смог бы присиловать себя даже умелейший воин: не думать ни о чем вовсе.
Именно благодаря этому Мечник все-таки успел заметить плавно выдвинувшуюся ему навстречу из-за древесного ствола серую тень…
Нет, не тень.
То был закутанный в просторное одеяние человек… совсем почти человек, вот только лицо его, плохо видимое под низко нахлобученным островерхим колпаком, показалось беглому взгляду каким-то неправильным, ненастоящим, нелюдским. И одеяние… Это лишь сумрак да лживый свет звезд делали его серым; в действительности же Мечник готов был клясться: оно грязно-бурое, как ржавое железо или сохлая кровь.
Однако времени на всматривание да уяснение не оказалось. Ржавая тень еле уловимо для глаз качнулась; очертания ее стремительно изменились, будто бы невидимая рука раздвинула свободно ниспадающий плащ, и…
И Кудеслав для самого себя неожиданно очнулся. Рывком повода он заставил лошадь дернуться в сторону, и тут же что-то с коротким вскриком рвануло воздух у левой Мечниковой скулы.
Из оружия при Кудеславе были только нож да топор (брать оружие у волхва не хотелось, а собственные Мечниковы лук да рогатина как пропали у мыса-когтя вместе с челном, так больше и не нашлись).
Кудеслав не успел понять, каким образом ножевая рукоять оказалась в его ладони и почему она – ладонь, а не рукоять – будто забыла о существовании топора. Только уж это не имело ни малейшего отношения к ведовству – разве что если счесть ведовством недюжинное воинское уменье. Ржавый вновь шевельнулся, и, опережая его следующее движение, из Мечниковой руки ударила серебристая молния звездного света, отраженного отточенным лезвием.
В следующее мгновение Кудесава хлестнул по лицу свирепый порыв мокрого промозглого ветра. Невольно заслонившись ладонью, Мечник ценой огромных усилий сумел-таки избежать падения со вскинувшейся на дыбы лошади. Когда же он вновь обрел возможность видеть творящееся вокруг, человечьей фигуры перед ним не оказалось. На ее месте горбился, готовясь к прыжку, огромный волк – того же труднораспознаваемого в сумерках цвета, но с обильной изморозной проседью в кудлатом меху.