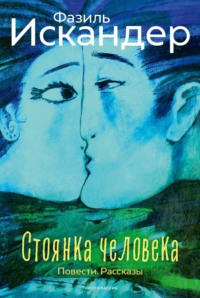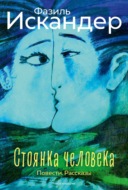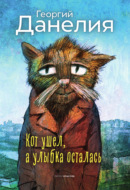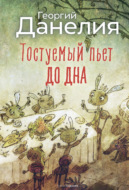Buch lesen: "Стоянка человека. Повести. Рассказы"
* * *
© Иванова Н. Б., вступительная статья, 2024
© Искандер Ф. А., наследник, 2024
© Храмцов А. Ю., иллюстрации, 2024
© Издание, оформление, ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2025
Человек всегда рядом
«Культура – это не количество прочитанных книг, а количество понятых».
Это афоризм Фазиля Искандера, подаренный автором его герою.
Но на смысл этих слов Искандер отвечает всем своим творчеством.
Читатели любят книги Искандера за излучаемую ими радость жизни, авторское остроумие, искрящийся смех, за черноморский Мухус (прочтите слово Сухум, город, где вырос сам автор, наоборот – и вы получите Мухус), за горный Чегем и дедушку в Чегеме, и, конечно, за героя-плута Сандро и всех рядом – в солнечном, далеком и таком близком мире. Мир притягателен и обаятелен, несмотря на все его вопиющие недостатки: об этих недостатках автор-повествователь рассказывал смешно и увлекательно.
Да, советская цензура не дремала, но Искандер сумел выработать особый язык и особые литературные приемы, при помощи которых не только преодолевал цензорские препоны, но и обогащал свою прозу, упорно шел обходными, извилистыми тропинками в лесу своих метафор – так были написаны «эзоповские» рассказы 60-х. Но, как говорится, шли годы, менялось писательское зрение, и творческий мир Искандера наполнялся новыми идеями, красками, героями – и новыми интонациями, драматическими, а порой и трагическими. Менялось время – сумерки сгущались, а после скандала с независимым альманахом «Метрополь» Искандера не печатали вовсе. Но он упрямо продолжал писать – отбрасывая поэтику намеков и аллюзий, переходя в прямой речи. Сначала потому, что не было надежд на публикацию, и писатель, обреченный на «рукописи в столе», выражал себя без обиняков, а потом… потом цензуру отменили.
Произошла смена языка и героя – появились и совсем новые сюжеты, уходящие в глубь сложных переживаний, в глубь человеческой личности. Сначала наступило время кризиса и депрессии, а потом тревоги и скепсиса, меняющих сам угол зрения на человека и его существование в мире.
Взгляд писателя как бы спустился с гор, с альпийских высей, в реальность. Герой, родственный автору-повествователю, возникший из одной корневой системы, такой, как простодушный Чик, или хитрец, авантюрист и плут Сандро, меняется на других героев, меняются и обстоятельства жизни.
«Зеленые холмы, кое-где покрытые пятнами снежников, пушились золотом цветущих примул. В провале обрыва, словно раздумывая, куда бы им направиться, медленно роились клочья тумана и шумела невидимая в бездонной глубине речка. Далеко за обрывом тяжелел темно-зеленый пихтовый склон горы и желтела ниточка дороги…»
Новый герой был образован, умен, притягателен – «огненный мечтатель» Виктор Максимович Карташов, из другого мира, не здешнего рода (повесть в новеллах «Стоянка человека»). Здесь Искандер уходит и от этнической окрашенности героя. Бот авторская характеристика – можно сказать, первое представление неожиданного для Искандера персонажа: «Он был отличным собеседником, и я никогда не встречал ни в одном другом человеке такой размашистой широты мышления и снайперской точности попадания в истину. Немыслимая преданность своему делу как-то свободно и спокойно уживалась в нем с интересом к окружающей жизни и людям. Его многие любили, но некоторые и побаивались попадаться ему на язык. Его терпеливая доброта с безвредными глупцами неожиданно обращалась в обжигающую едкость насмешки в адрес местных интеллектуалов». Как такой «отдельный» представитель рода человеческого, Виктор Максимович, оказался в здешних местах? Сюда, в Абхазию, после революции бежала небольшая часть дворянства, в том числе и его родители – чтобы переждать плохие времена; но плохие времена, как это бывает, затянулись на десятилетия. «Как это ни странно, на смерть Сталина тогда никто не рассчитывал, и те, кто ненавидел лютой ненавистью рябого дьявола, и те, кто боготворил его, как бы слились в немом согласии, что тот никогда не умрет». Сын беженца-дворянина, Владимир Максимович, был арестован за анекдот о Сталине. Отбыл срок. Потом, уже в лучшие времена, вернулся в Мухус. Постарев, стал постоянным посетителем знаменитой «Амры», ресторана, – с террасы-палубы рассказывал собеседникам увлекательные и поучительные истории. А нанизывал их на шампур повести слушатель, он же автор-повествователь. (Излюбленная композиция крупной прозы Фазиля Искандера – так выстроен и прирастающий новеллами роман «Сандро из Чегема»).
Через цепь этих – изначально как бы устных – новелл проходит история страны, полная драматических сюжетов – и история людей, поддерживающих и помогающих новым беженцам, новым несчастным. Семья Виктора Максимовича вынужденно скрывала свое происхождение, страх перед доносами был велик, – но помогла голодающей беженке с Украины, приютила ее. Но и здесь могла проявиться грубость и даже несправедливость, – за внешним благородством может скрываться злоба (глава «Две женщины»). А страх? Насколько он может укорениться в человеке? В главе-новелле «Сердце». Виктор Максимович, в сердце которого, казалось бы, навечно поселился страх перед морской глубиной, да так, что оно стало страдать перебоями, – этот страх за себя был вытеснен опасением за жизнь мальчика, попавшего вместе с ним в передрягу, чуть не утонувшего! Страх за жизнь другого не только победил свой страх, но и вылечил сердце. «Терпения и мужества, друзья!» – так заканчивает Искандер, в трудные годы вынужденных смысловых обходов обращаясь к понимающему читателю – в конце концов вы, мы вместе, должны преодолеть наш страх. Какой? Тут и без лишних слов понятно.
Драматическими поворотами насыщена и жизнь бывших мальчиков, от гибели на фронтах второй мировой до тюремного заключения, от покушений и убийств до неясных обстоятельств мнимого самоубийства. И все это нанизано на политические изменения, на столкновения 1956-го, волнения на улицах, у памятника Сталину – вплоть до впечатляющей сцены, когда сторонники Сталина, толпа, по чьему-то приказу повалилась на колени. «По толпе прошел злобный, фанатический ропот. Я почувствовал, что колени мои чугунеют. Человек, стоявший на постаменте, явно тот, что отдал приказ рухнуть, несколько раз махнул мне рукой. Видя, что я не следую его призыву… Огибая коленопреклоненных, я вышел из толпы». Такова была позиция и Виктора Максимовича, человека, у которого можно брать уроки точного поведения, – и позиция, и миросозерцание автора, Фазиля Искандера, – выйти из толпы.
Но смеховая стихия не покидала Искандера и в самые трудные, и в самые светлые времена (и годы его жизни). Смех был его творческой стихией, и автор-повествователь действительно купался в смехе – даже рассказывая о вождях, о Ленине и Сталине. Иногда воображение Искандера – при обращении к этим историческим персонажам – рождало комедийно-драматические коллизии, как в «Пирах Валтасара», вошедших в роман «Сандро из Чегема», где абрек, он же танцор Сандро, выступает в танцевальном ансамбле перед собравшимися на пир вождями, и Сталин говорит ему, подъехавшему по скользящему полу, в танце, на коленях: «Где-то я видел тебя, абрек!». Реален в своем безумии человек, который вообразил себя Лениным. «Ленин на Амре», то безумец на палубе – нет, не крейсера «Аврора», а ресторана «Амра», того самого, где играют в нарды и шахматы и готовят самый лучший в мире кофе по-турецки. Сюжет о сумасшедшем, тридцать лет писавшем книгу о Ленине, свихнувшемся на Ленине, вросшим в образ мысли Ленина, перемежается, как всегда в архитектонике Искандера, случаями, байками, а еще и философскими диалогами с безумцем. И все это, приправленное фирменным искандеровским сарказмом, вырастает в общую фантасмагорическую картину.
При этом «Ленин» уверен, что Сталин – в глубокой заморозке, скорее всего в Америке, и в нужный час они его разморозят… или Сталин от Берии удрал к Франко, и там его заморозили… Автор-повествователь, вступив в затягивающий диалог с убедительным безумцем, чувствует «холодок неведомой заморозки, пробежавший по его спине» – ничего не напоминает? А ведь Искандер сочинил своего «Ленина на Амре» задолго до сегодня.
Искандер предлагает читателю другой уровень понимания человека, раскрывая даже через его поврежденную психику умоповреждения целого общества, больших масс, если не сказать – народа. При этом – домысливая другую, возможно, самую темную сторону исторических фигур. Если сумасшедший легко воображает себя Лениным, или легко думает за Ленина, – то почему рассказчику не подумать, – чуть иначе сдвинув ракурс, о самом Ленине? Похожи черты Ленина на Пугачева? Похожи. «Наивное восхищение Ленина разбойником Камо, разбойником Кобой, пока он в образе Сталина не стал угрожать ему самому, провокатором Малиновским… все это выдает его с головой… Ленин был человеком уголовного типа сознания, ни образование его, ни грандиозный социальный переворот не закроют от нас эту истину», – утверждает рассказчик. И что же? «Миром правит энергия безумцев» – это и роднит настоящего – с явно сумасшедшим. Отмечая впрочем: «Но если мир всё еще жив, значит, есть и другая энергия, другой уровень понимания человека» – и размышляет об учении Христа.
Искандер не был бы Искандером, если бы не вырастил из этого сюжета образ большого, общего дома сумасшедших, в котором все одновременно и пациенты, и доктора. И приехавший сюда с визитом представитель мыслящей части человечества может легко обмануться – и принять сумасшедшего с его безумными идеями за такого же здравомыслящего, как он сам. Тридцать лет писать книгу о Ленине! А тут Ленина как раз – и отменили! И никакое издательство не хочет издавать. Поневоле сойдешь с ума – но так и движется история, провалами и скачками. Искандер разбавляет главный сюжет и совсем неожиданными микросюжетами – катание девушек на катере, вторжение в московскую жизнь автора непобедимых графоманов, картинки московской литературной жизни, редакционные глупости, и опять по окружной возвращаемся на «Амру» к молодым смешливым людям, особенно к тому юноше, что явно красуется шелковой красной рубашкой, рукава которой надувает морской ветер… Голова идет кругом – этого головокружительного эффекта и добивается наш автор.
Повествователь у Искандера, как правило, автобиографичен. Иногда – чуть в сторону, а порой – до полного совпадения с реальным Фазилем Абдуловичем Искандером и сюжетами его существования. Иногда – точно совпадает завязка рассказа, детали, даже действующие лица так напоминают реальных, что начинаешь разгадывать, кто за кем скрывается, как будто читаешь «роман с ключом». Но природная саркастичность Искандера отступает перед его же природной добротой, и в конце концов писатель уводит от конкретных лиц к типажам и обобщениям. Однако разгадывать шутливое повествование – особое удовольствие.
Рассказ «День писателя» – о существовании обычного человека в 90-х – описывает всего один день автора, и начинается с целой операции по получению медицинского рецепта в поликлинике, «бывшей писательской». Искандер не упускает ни одной детали превращения поликлиники, выстроенной на общие писательские отчисления, в «бывшую писательскую», ее фактического захвата, говоря новым языком, приватизации. Зоркий авторский глаз отмечает социальные изменения и бенефициаров этих изменений, – приватизатор-главврач хорошо притворяется сумасшедшим – с израильским загаром и со справкой в руке. «Во всем этом поражает девственная чистота наших правоохранительных органов», – размышляет о новой жизни повествователь, у которого по дороге из поликлиники домой очищают кошелек прямо среди бела дня. Ловкие мошенники даже восхищают его креативностью, говоря по-русски, изобретательностью, – пока не доходят в своих предложениях до абсурда, почти превосходящего писательскую фантазию.
Смешно? Очень. Но ведь и очень грустно. И печаль порой накрывает прозу Искандера целиком, не оставляя места для природной веселости – как в небольшой повести «Пшада». Пшада на абхазском означает душа, и смысл этого таинственно и непрерывно звучащего в сознании отставного генерала Мамбы, абхазца по происхождению, открывается ему только на границе смерти. Откуда вдруг возник этот печальный сюжет?
Полагаю, что из исторической ломки многонационального общества, сопровождавшейся ломкой многонациональной литературы советского времени, – и из новых поисков идентичности, авторского самоопределения. В советские времена возникали крупные писательские фигуры разного национального происхождения, писавшие не на языке своей родины, а на русском – государственном, а также основном языке общения на территории и в культуре СССР. Политика к этому подталкивала – может быть, со всей силой нежности, как написал бы Искандер. Но имперский язык, кроме всего прочего, был проложенным путем к читателям всех других республик, от Киргизии до Эстонии, и к переводам на иностранные языки, к изданиям в других странах. Появились такие большие писатели, как Василь Быков, Чингиз Айтматов, Олжас Сулейменов, Максуд и Рустам Ибрагимбековы… К ним принадлежал и Фазиль Искандер, и многие его соотечественники, – в том числе военные, дослужившиеся до чинов. Жизнь в Москве, учеба, женитьба, книги, работа – это было обретение русского, но постепенная утрата своего языка. А после распада СССР стало труднее отвечать на вопрос: какой литературе ты принадлежишь, какой культуре служишь? Искандер в советские времена отвечал так: я русский писатель, но певец Абхазии. Но на грани ухода в мир иной генерал Мамба возвращается – и принадлежит – языку матери… Кризис идентичности – его испытал и его герой-генерал. А Искандер, как писатель-инструмент особой внутренней честности, не мог об этом не написать.
Самого писателя часто записывают в шестидесятники, в писатели периода «оттепели», – хотя Искандер, по моему скромному мнению, больше чем шестидесятник, выходит за рамки своего поколения. Он входит не в такую многоликую, но крупную когорту – рядом с ним в моем сознании такие писатели, как Юрий Трифонов, Булат Окуджава, Юрий Давыдов. Они начали раньше – и шли по восходящей в своем творчестве до конца своей творческой жизни. И у них, этих уникальных, каждый по-своему, писателей, одной из тем была историческая – и связанная с документами об охранке. Обнаруженными их героями – но утраченными при странных обстоятельствах, не пущенными в дело. (Я бы добавила – «не допущенными» в дело.) В повести Юрия Трифонова «Другая жизнь» – это историк, Сергей Троицкий, который и умирает сорокалетним – не только от приступа, сколько от исторических условий застоя, где пути публикаций архивных документов, компрометирующих тех, кто сотрудничал с охранкой, были перекрыты. У Искандера в рассказе «Золото Вильгельма» – это «сравнительно молодой историк Заур Чегемба», который вез в переполненной электричке документы о так называемом «золоте Вильгельма», полученном большевиками на переворот из Германии, обнаруженные им в архиве и собственноручно переписанные.
Заур прекрасно понимает, что опубликовать статью, основанную на документах, ему сейчас, при даже поздней советской власти, не удастся. Но в результате целой цепочки провокаций, верь не верь, в результате ловкого обмана со стороны хорошенькой девушки и ее высокопоставленного отца, Заур лишается этих документов, написанной на их основе статьи, а архив – папки с первоисточниками. Но он был уверен, пишет Искандер, «что он еще застанет другую эпоху, где его статья пригодится, хотя и тогда не всем понравится». А кроме прочего, «это вообще была не его тема. Его тема была Византия, потому что он считал, что оттуда все главное пошло на Руси».
Герои книг Фазиля Искандера не унывают, несмотря на потери, – может, сначала и унывают, но выходят из кризиса и упорно продолжают свое дело. А для нас, читателей, главное, как говорил еще один исторический персонаж, – не терять отчаянья. И стараться понимать прочитанное, то, что оставили нам прекрасные писатели не такого уж далекого, во многом родственного времени.
Май 2024
Наталья Иванова
Стоянка человека
Знакомство с героем
Здесь, в горах, на альпийских высотах в пастушеском шалаше, радио принесло весть, что англичанин Бриан Аллен впервые в истории перелетел Ла-Манш на самодельном самолете, работающем при помощи мускульной силы пилота.
Обычно такого рода новости меня мало трогают, но тут что-то ударило меня в грудь, я покинул шалаш и пошел по цветущему лугу к своему любимому месту над обрывом. Пастушеская собака со странной для Кавказа кличкой Дунай увязалась за мной. За время моего пребывания у пастухов мы с Дунаем полюбили друг друга. Меня бесконечно забавляло в нем сочетание свирепых, рыжих, мужичьих глаз и добрейшего характера. У людей чаще бывает наоборот – глаза вроде добрые, а душа поганая.
С одушевленной человеческой осторожностью Дунай заглянул в обрыв, мотнул головой, скорее всего в знак неодобрения увиденного, и, повернувшись к обрыву спиной, брякнулся у моих ног.
Зеленые холмы, кое-где покрытые пятнами снежников, пушились золотом цветущих примул. В провале обрыва, словно раздумывая, куда бы им направиться, медленно роились клочья тумана и шумела невидимая в бездонной глубине речка. Далеко за обрывом тяжелел темно-зеленый пихтовый склон горы и желтела ниточка дороги от Псху на Рицу.
Меня ударило в грудь воспоминание о Викторе Максимовиче. Он тоже всю жизнь занимался летательным аппаратом, движущимся на мускульной силе пилота. Аппарат его назывался махолетом, то есть он после разбега набирал высоту взмахами крыльев. Виктор Максимович шесть раз ненадолго взлетал на своем махолете, четыре раза падал, но отделывался сравнительно легкими ранениями.
Сейчас, узнав об англичанине, перелетевшем Ла-Манш, мне стало горько за Виктора Максимовича и стыдно за себя. Англичанин, вероятно, получит премию в сто тысяч фунтов, назначенную за такой перелет неким любознательным богачом. Об этой премии Виктор Максимович неоднократно говорил, и он был так близок к последней, самой летной конструкции махолета. Зная Виктора Максимовича, невозможно было усомниться, что эта премия его интересовала как мощная возможность окончательного усовершенствования своего любимого детища.
Мне стало стыдно за себя, потому что ни разу в жизни я не проявил настоящего интереса к тому, что он делал. Как и все мы, поглощенный своими заботами, я не придавал должного значения жизненной цели этого огненного мечтателя. Ну, получится, ну, полетит, думал я, что тут особенного в век космоса?
Но я любил этого человека за многое другое. Он был отличным собеседником, и я никогда не встречал ни в одном другом человеке такой размашистой широты мышления и снайперской точности попадания в истину. Немыслимая преданность своему делу как-то свободно и спокойно уживалась в нем с интересом к окружающей жизни и людям. Его многие любили, но некоторые и побаивались попадаться ему на язык. Его терпеливая доброта с безвредными глупцами неожиданно обращалась в обжигающую едкость насмешки в адрес местных интеллектуалов.
Он был начитан, хотя я встречал людей и более начитанных. Но я никогда не встречал человека, который бы так много возился с понравившейся ему книгой. Он ходил с ней по кофейням, зачитывал куски и охотно одалживал ее тем, кто, по его разумению, был в состоянии ею насладиться.
– Культура, – говорил он, – это не количество прочитанных книг, а количество понятых.
Жил он за городом у моря. Изредка он появлялся в городе, одетый в штормовку защитного цвета и такого же цвета спортивные брюки. Он был чуть выше среднего роста, худ, загорел, крепкого сложения. На хорошо вылепленном лице кротко и неукротимо светились маленькие синие глаза. И иногда трудно было понять – то ли свет его глаз неукротим от уверенности во всепобеждающей силе кротости, то ли сама кротость в его глазах – следствие неукротимой внутренней силы, которая только и может позволить себе эту кротость.
На шее у него всегда был повязан платок, что придавало ему сходство с художником или артистом. Кстати, из-за этого шейного платка однажды тень разочарования омрачила мое отношение к нему. И раз я вспомнил об этом – договорю, чтобы больше к этому не возвращаться.
Так вот, обычно у него шея была повязана голубым платком. Но однажды он явился в кофейню с красным платком на шее.
Я шутливо спросил у него, мол, не означает ли этот новый платок некие сдвиги в его мировоззрении.
– Нет, – сказал он без всякой улыбки, глядя на меня своим кротким и неукротимым взглядом, – неделю назад я услышал какие-то жалобные крики, доносящиеся с моря. Я подошел к берегу и увидел дельфина, кричащего и бьющегося у самой кромки прибоя. Я подошел к воде, наклонился и заметил на спине дельфина глубокую рану возле хвоста. Не знаю, то ли в драке с дельфинами он ее получил, то ли напоролся на сваю возле каких-то ставников. Я стоял некоторое время над ним. Дельфин никуда не уплывал и продолжал издавать звуки, подобные стону Я понял, что он ищет человеческой помощи. Я вернулся домой, взял в аптечке у себя несколько пачек пенициллинового порошка, подошел к берегу, разделся, вошел в воду и высыпал ему в рану весь пенициллин. После этого я перевязал ему спину своим платком. Дельфин продолжал биться мордой о берег и барахтаться в прибое. Тогда я приподнял его, отошел на несколько метров в глубь воды, повернул его мордой в открытое море и опустил в воду. После этого он уплыл.
Так как я знал, что этот человек никогда не говорит неправды, я был сильно ошарашен. Слушая его и глядя в его яркие синие глаза, я вдруг подумал: он спятил! У него пропал шейный платок, а остальное – галлюцинация!
– Ну и как, дельфин этот больше не приплывал? – осторожно спросил я, делая вид, что поверил ему.
– Нет, – сказал он просто. Мне показалось, чересчур просто. Я любил этого человека, и меня некоторое время мучил его рассказ. Он меня настолько мучил, что я придумал сказать ему, мол, местные рыбаки поймали в сети дельфина, обвязанного голубым платком. Мне хотелось посмотреть, опустит он свои глаза или нет. Однако сказать не решился и никак не мог понять, был этот дельфин в конце концов или нет.
Все же через некоторое время я как-то успокоился на мысли, что в жизни всякое бывает. Тем более об этих чертовых дельфинах чего только не рассказывают. Да и мало ли в жизни случается неправдоподобного. Я, например, однажды бросил окурок с балкона восьмого этажа и попал им в урну, стоявшую на тротуаре. Неправдоподобность этого случая усиливается тем, что я именно целился в эту урну и попал. Если б не целился, было бы более правдоподобно. Так и дельфин этот, если бы плавал в море не в этом голубом платке, а как-то поскромнее, скажем, обвязанный бинтом, было бы более похоже на правду. Во всяком случае, более терпимо.
Обычно, придя в город, Виктор Максимович останавливался возле одной из открытых кофеен и пил кофе. Я знал, что чашечка турецкого кофе – это единственное баловство, которое он может себе позволить на собственные деньги. Я знал, что последние десять по крайней мере лет он питается только кефиром и хлебом, не считая фруктов, которые растут на его прибрежном участке. Все, что он зарабатывал, уходило на сооружение очередного махолета.
Сам он об этом говорил просто, считая, что невольная диета помогает ему сохранить форму, ибо каждый лишний килограмм веса – это трагедия для свободного воздухоплавания. Впрочем, для полной точности должен сказать, что его охотно угощали и он с царственной непринужденностью принимал угощения, снисходительно слушая бесконечные шутки по поводу его фантастического увлечения. В нашем городе чудаков любят и подкармливают, как птиц.
Обычно, приходя в кофейню, он озирался в поисках нужного ему человека. Наши кофейни представляют собой биржу для деловых встреч. Здесь он виделся со спекулянтами, снабженцами, вороватыми рабочими, которые доставали необходимые ему краски, смолы, полиамидные пленки, пластмассу, одним словом, все, чего нельзя было купить ни в одном магазине.
Думаю, что пора рассказать все то, что я знаю о прошлом Виктора Максимовича Карташова. Отец его, дворянин по происхождению, приехал в Абхазию вместе с семьей в 1920 году.
В те времена довольно много представителей русского дворянства, я говорю, довольно много, учитывая масштабы маленькой Абхазии, бежало сюда. Это было своеобразной полуэмиграцией из России. По имеющимся у меня достаточно надежным сведениям, их здесь почти не преследовали, как почти не преследовали и местных представителей этого сословия. Я думаю, тут сказались и закон дальности от места взрыва, и более патриархальная традиция близости всех сословий, которой невольно в силу всосанности этих традиций с молоком матери в достаточно большой мере подчинялась и новая власть.
Настоящее озверение пришло в 1937 году, но тогда оно коснулось всех одинаково.
Отец Виктора Максимовича, по образованию агроном, устроился работать в деревне недалеко от Мухуса. Мать маленького Виктора, когда он чуть подрос и его уже можно было оставлять на попечение бабушки, тоже пошла работать в районную больницу. В те годы отец Виктора чуть ли не первым построил дом на диком загородном берегу моря, впоследствии ставшем крупным курортным поселком.
Перед войной Виктор Максимович окончил летную школу и на фронт попал военным летчиком. Судя по всему, он хорошо воевал, был трижды ранен и однажды дотянул до аэродрома горящий самолет. После войны он демобилизовался, вернулся в Абхазию, устроился на местном аэродроме и стал летать на По–2 по маршруту Мухус – Псху.
Однажды из-за нелетной погоды самолет его на несколько суток застрял в горах на Псху. В это время на Псху жил немецкий коммунист. Они встретились на какой-то вечеринке, и Виктор Максимович, вероятно, находясь в состоянии легкого подпития, рассказал анекдот о Сталине.
Услужливый немец написал донос. Не исключено, что донос полетел вместе с почтой, загруженной в самолет Виктора Максимовича, потому что другого цивилизованного пути на Псху не было. Нельзя же представить, что донос был отправлен на вьючной лошади.
Так или иначе Виктора Максимовича арестовали, а на аэродром приехала комиссия по проверке идеологической работы. Кстати, мой родственник, работавший тогда на аэродроме и редактировавший стенгазету, рассказывал, что комиссия подняла номера стенгазет за многие годы в поисках подрывных материалов.
После смерти Сталина постепенно стало ясно, что рассказанный анекдот потерял свою актуальность, и Виктора Максимовича отпустили домой. Он приехал в Абхазию, но дома его ждало печальное запустение: отец и мать умерли. Бабушка умерла еще раньше, перед самой войной.
Отец его, страстно любивший своего единственного сына, в сущности, умер от горя, и мать вскоре последовала за ним. В те времена политические заключенные, даже если отсиживали свой срок, очень редко отпускались на свободу, и, конечно, отец Виктора Максимовича хорошо об этом знал. Как это ни странно, на смерть Сталина тогда никто не рассчитывал, и те, кто ненавидел лютой ненавистью рябого дьявола, и те, кто обоготворял его, как бы слились в согласии, что он никогда не умрет.
Виктор Максимович вернулся домой, но к своей старой профессии не вернулся или, вернее сказать, теперь решил вернуться к ней более сложным путем. Он решил сам создать воздухоплавательный аппарат и сам полететь на нем.
На жизнь он зарабатывал, починяя окрестным жителям все, что можно было починить, от моторов автомашин до электроутюгов. Он хорошо зарабатывал, но приходилось на всем экономить, потому что только через спекулянтов удавалось доставать материалы, необходимые для его дела.
Виктор Максимович когда-то был женат, и притом, говорят, на красавице, но я ее никогда не видел. Ко времени нашего знакомства он был один. Много лет назад они разъехались или разошлись, и она отправилась к себе в Москву.
Возможно, однажды, показав ему рукой на очередной махолет, она сказала: «Или он, или я», – и, не дожидаясь ответа, потому что ответ и так был ясен, навсегда уехала в Москву.
Виктор Максимович и сам почти каждую зиму, разобрав и сложив свой летательный аппарат, на два-три месяца уезжал в Москву. Там у него были друзья, поклонники его дела, которые, кстати, присылали ему лучшие русские книги – почтой советские издания, с оказией – заграничные.
Встречался ли он там со своей бывшей женой, не знаю. Скорее всего нет. За все время нашего знакомства, которое длилось лет десять, он только однажды упомянул о ней во время застолья.
– А правда ли, – спросил один из застольцев у него, – что ваша жена была необыкновенной красавицей?
– Это была гремучая змея, – ответил Виктор Максимович и после небольшой паузы добавил: – Но с глушителем, что делало ее особенно опасной.
Он об этом сказал совершенно спокойно, как о давно установленном зоологическом факте. Однако в этом спокойствии было нечто такое, что исключало, для меня, во всяком случае, задавать вопросы на эту тему.
В городе он всегда появлялся один или в редких случаях со своим махолетом. В таких случаях махолет был прицеплен к старенькому «Москвичу», принадлежащему одному из друзей Виктора Максимовича. Машина осторожно проезжала по центральной улице, и серо-голубой махолет покорно следовал за ней, покачивая дрябловатыми крыльями, кончавшимися разрезами наподобие крыльев парящего коршуна.
Приезжие удивленно смотрели на этот воздухоплавательный аппарат, а местные люди давно к этому привыкли. Машина направлялась в сторону Гумисты. Там, в зеленой плоской пойме реки, Виктор Максимович испытывал свой аппарат. Обычно эту процессию сопровождал милицейский мотоцикл. Я сначала думал, что милиция в данном случае следит, чтобы махолет не нарушал правила уличного движения, и только позже узнал, что испытания его проходят под неизменным надзором милиции.
Мне кажется, что мечта о таком воздухоплавательном аппарате, который действовал бы за счет собственных сил летуна, у Виктора Максимовича впервые возникла в лагере. Так мне кажется, хотя сам он об этом никогда не рассказывал.
Как я уже говорил, мы с Виктором Максимовичем встречались в основном в кофейнях. Может создаться ложное впечатление, что он очень часто там бывал. Нет. Он вообще в город приезжал очень редко, но, приехав и посетив кофейню, никуда не спешил и призывал собеседника помедлить.
– Куда торопиться, – говорил он с некоторым наивным эгоизмом, – раз я в город приехал, все равно день потерян.
Я, слава богу, никогда его не торопил. В рассказах о жизни он любил вспоминать необычайные случаи, иногда взрывные выходы в новое сознание. Как я потом понял, эта его склонность была мистически связана с делом его жизни. Само собой разумеется, что я ни разу не усомнился в подлинности его воспоминаний.