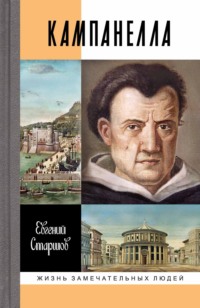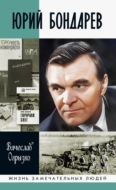Buch lesen: "Кампанелла"
Посвящаю эту книгу любимым моим родителям, Альбине Федоровне и Виктору Васильевичу Старшовым, как плод их трудов, вложенных в образование, воспитание и всю саму жизнь автора.
© Старшов Е. В., 2025
© Издательство АО «Молодая гвардия», художественное оформление, 2025
Предисловие
…[Аристоник] собрал толпы бедняков и рабов, привлеченных обещанием свободы, назвав их «гражданами Солнечного града».
Страбон о восстании пергамцев против римлян в 133–129 гг. до н. э.
Томмазо Кампанелла… Человек эпохи Возрождения. Его образ выделяется в череде титанов того времени своей трагичностью и стойкостью: три десятка лет с лишним в тюрьмах испанских оккупантов и римской инквизиции, страшнейшие пытки, которым его подвергали, не сломили его дух и не угасили пылающий Разум, который, по учению Отцов Церкви, вместе со способностью к творчеству и делают человека подобным Богу. И Кампанелла творил в этих невозможных условиях, терзаемый пытками и голодом, порой не видя солнечного света. Его мысль и слово устремлялись к этому небесному светилу, уделяющему свои животворные блага всему сущему, без различия достоинств и чинов; недаром именно в сырых и мрачных казематах Италии родилась, вызрела и окрепла у гениального узника великая социалистическая Утопия – «Город Солнца», в котором все живущие трудятся добровольно по своим склонностям, на радость и благо себе и своим согражданам, не зная всех тех социальных зол неравенства и угнетения, от которых стонала родина автора, истерзанная чужеземными оккупантами – испанцами, своими принцами, ставящими личные интересы превыше всего, а также хищными церковниками всех рангов, забывшими заветы Христа и апостолов ради обогащения, похоти и власти. Такова была Италия времен Кампанеллы, и мало было – и есть – мест и времен, когда что-то было бы радикально иначе…
Но личность Кампанеллы, его воззрения и огромное философское наследие, составляющее примерно 30 тысяч печатных страниц, ставят много острых и, возможно, так и не подлежащих разрешению вопросов. Начать хотя бы с того, что в зависимости от времени, общественного строя и еще превеликого множества факторов наследие великого итальянца используется, причем с успехом, в диаметрально противоположных целях. Как и Библия. В советское время было принято видеть в нем исключительно автора «Города Солнца», в то время как прочая основная часть его наследия оставалась в небрежении и лишь некоторые фрагменты его трактатов были переведены. Это неудивительно: их религиозно-философская тематика мало подходила к образу социалиста-утописта. А политический трактат об Испанской монархии в советском «кампанелловедении» вообще постигла весьма причудливая судьба: изложенные в нем мысли и советы заключенного (осужденного именно за антииспанское восстание) испанскому же королю настолько противоречили образу борца и патриота, что историк А. Штекли, например, в середине прошлого века выдвинул причудливую теорию о том, что Кампанелла, желая избежать казни, сочинил этот трактат в тюрьме, пометил задним числом и переправил на волю, чтоб испанцы, «случайно» найдя его при обыске, поверили бы в верноподданность автора. Ко всему этому мы еще вернемся, пока же только намечаем вехи.
Работа Штекли, трижды переизданная в середине XX века, неплоха, читается, согласно одному из отзывов, словно приключенческий роман, но у нее – своя большая беда, впрочем вполне объяснимая. Образ Кампанеллы в ней предельно модернизирован; отдавая дань социалисту-утописту, философу-ученому, призывающему отказаться от схоластических авторитетов и заниматься изучением природы и ее законов, автор игнорирует тот факт, что Кампанелла был глубоко верующим христианином и – одно другому тогда совершенно не мешало – сильно и искренне увлеченным магией и астрологией человеком. Причем последнее трактуется как очередная уловка, чтобы держать в руках суеверного папу римского, и т. п. Кампанелла, монах-доминиканец, представлен Штекли как типичный советский комиссар, пламенный революционер и атеист. Понятно, что «советский Кампанелла» и не мог быть иным, но автору пришлось сделать множество натяжек, в итоге только бросавших тень на великий образ. Так, якобы будучи атеистом, Кампанелла, зная отсталость и суеверие своих сподвижников, сознательно морочил их религиозными баснями. То есть, по Штекли, фактически лгал им. Грубым подлогом ради собственного спасения, согласно тому же автору, было создание трактата об Испанской монархии. И таких примеров много, но здесь критика чужого труда – не основная цель. Справедливо подметил советский автор А. Х. Горфункель в своем прекрасном труде 1969 года (аргументированном, сдержанном в оценках, с использованием многих интереснейших материалов в собственном переводе), что, будь религиозные взгляды Кампанеллы фальшивкой – как скажем мы – для приманки людей невежественных или для спасения собственной шкуры, он непременно опроверг бы их, выйдя на свободу и, более того, оказавшись за пределами Италии, вне досягаемости инквизиции, однако не сделал этого! Следовательно, действительно верил в Бога, святых и прочее, отстаивая примат римского папы над светскими властителями и католической веры – над прочими исповеданиями и религиями. С этой точки зрения стоит рассматривать и сложный вопрос о том, объявлял ли себя Кампанелла Мессией, то есть Сыном Божьим, во время Калабрийского восстания 1599 года (его подготовка, разгром и следствие прекрасно представлены в еще дореволюционной работе А. К. Шеллера-Михайлова, к сожалению этим вопросом лишь и ограничившегося).
Нельзя не отметить тот факт, что католическая церковь, столь долго терзавшая и преследовавшая философа при жизни, в итоге признала, что только теперь доросла до его религиозных взглядов и, не найдя в них ничего еретического (что тоже архиважно при постановке и рассмотрении данного вопроса), приняла и оценила его христоцентричное учение о государстве, равно как и тридцатитомную энциклопедию богословия. При всем старании, ознакомившись со всеми возможными списками святых и статьями католических энциклопедий, мы не нашли подтверждения информации из аннотации к современному переизданию книги Штекли о том, что Кампанелла – «еретик в прошлом, в 2006 году канонизированный Католической церковью как святой». Основываться на столь эфемерном утверждении, разумеется, невозможно. Но, вполне, впрочем, допуская это (если вспомнить подобную посмертную реабилитацию, например, Жанны д’Арк), отметим, что данным актом католическая церковь только увенчала бы долгий процесс и труды тех, кто, игнорируя Кампанеллу как социалиста-утописта (мол, «Город Солнца» – так, малозначимая «шутка гения»), представлял его как мрачного философа контрреформации1, злобного «цепного пса» папского Рима, который тем ревностней служил хозяину, чем сильнее тот его бил. Именно такова «вторая ипостась» Кампанеллы, и, хоть можно не соглашаться с этой характеристикой, или, скорее, с ее исключительностью, сбрасывать ее со счетов тоже нельзя.
Новое время и коренной слом прежней идеологии в России неизбежно привели к попытке пересмотреть образ Кампанеллы как исключительно революционера. Примером может служить перевод (и публикация) фрагментов интереснейшего трактата «О чувстве, заключенном в вещах, и о магии», выполненный М. Фиалко. В нем, что называется, из первых уст мы получаем свидетельство о Кампанелле как знатоке магии.
Прежде чем сказать несколько слов о том, чем же нов и интересен представляемый читателю труд, завершим начатую мысль о многогранности облика и воззрений Кампанеллы. Несомненно то, что он высказывал диаметрально противоположные мысли по одному и тому же поводу. Поднимает антииспанское восстание – и пишет в тюрьме книгу поистине дьявольских советов испанскому королю, как стать властелином мира. Ругая Макиавелли за его беспринципные советы государям и являя в сонетах образец мудрого и справедливого правителя – он уподобляется тому же автору «Государя», давая испанскому королю советы, преисполненные коварства и жестокости: недаром англичане, переводя его трактат, что называется, «для внутреннего употребления» (дословно в заглавии – «Переведено на английский язык… и опубликовано для пробуждения англичан дабы предотвратить приближающееся уничтожение нации»2), назвали его автора «Вторым Макиавелли». Втягивает турок в антииспанский союз с калабрийскими повстанцами – и предлагает несколько способов разгромить османов и стереть с лица земли их государство. Причитает в сонете о том, что итальянцы носят черные одеяния своих завоевателей – и дает в трактате советы испанскому королю «испанизировать» подвластные ему земли. Ублажая духовенство льстивым словом, в сонете пишет, что сами служители Христовы заготовили для Иисуса немало крестов, если Сын Божий вдруг надумает вновь снизойти на Землю, и советует ему вернуться вооруженным… И так далее. Что на это можно сказать? Что Кампанелла был неискренним и беспринципным лицемером, каким он порой, вольно или невольно, проявляется в биографии работы Штекли? Нет, изучение его трудов показывает, что он был искренен. Просто надо искать корни этих противоречий в перемене его взглядов, в обстоятельствах и во времени. Очевидны же его юношеские метания от натурфилософии Телезио к магии делла Порты и обратно? Так и испанский король – мог быть врагом, против которого по пламенному призыву Кампанеллы восстает Калабрия, но в глобальном смысле именно он, похоже, может объединить мир под властью папы и покончить с еретиками… Турок сгодится, чтобы свергнуть чужеземное иго, но в целом он – злейший враг христианской Европы… Идеализировать Кампанеллу нет ни задачи, ни смысла. Если судить по делам его, он не был, что называется, твердолобым мучеником: ему велели отречься в Риме от своих как бы еретических взглядов – на знаменитой подобными актами паперти церкви Санта-Мария-сопра-Минерва у резиденции доминиканских инквизиторов (там же отрекались, например, Галилей и Калиостро) – он сделал это. И вопрос о том, «заложил» ли Кампанелла на пытках своих соратников (как это допускают или утверждают Шеллер-Михайлов и Штекли), на самом деле вовсю дававших против него самого нелепейшие показания, – тоже существует и нуждается в изучении, причем не факт, что на него, как и на многие иные, в предлагаемой вниманию читателя книге будет дан точный и исчерпывающий ответ. Опять же: правомочно ли осуждать человека и ждать от него полной безупречности, если ему довелось пережить, например, «велью» – это когда пытаемого поднимают на веревках над железной пирамидой или, как в случае с Кампанеллой, деревянным колом и насаживают на него, регулируя натяжение (об этом еще будет рассказано подробно) – и длится это до 40 часов (Кампанеллу пытали 36 часов)? Это только один пример, и вполне понятно, что в своих тюремных стихах несчастный даже на Бога, в которого непоколебимо верит, ропщет. Богооставленность… мы даже и близко понять не можем, каково это для человека его времени, воспитания и склада ума.
Разумеется, всегда были попытки объяснить это раздвоение сумасшествием, причем существуют две версии. Первая – что он не симулировал душевную болезнь, затягивая судебный процесс и избегая казни, но действительно сошел с ума. Эта версия не только обесценивает силу его духа, проявленную во время «вельи» (именно то, что он не сознался на этой пытке в симуляции, и спасло его, что сторонники данной версии расценивают как доказательство его реального сумасшествия), но и неоднократно опровергается самим Кампанеллой как в его философских, так и в поэтических трудах. Да, формально его сочли сумасшедшим и временно оставили в покое, хотя и в заключении. Но стал бы реально сумасшедший славен по всей Европе своими трудами, пересылаемыми «на волю», назначил бы его своим астрологом папа римский, а советником (по итальянским делам) – сам великий Ришелье, по уму своему вряд ли нуждавшийся в особых советниках, тем паче умалишенных? Нет, конечно. Кроме того, все это является ответом и на вторую версию – будто Кампанелла сошел с ума позже, в результате пыток и многолетнего заключения. «Доказательством» ставят не только его диаметрально противоположные взгляды на одни и те же вещи, явления и процессы, что уже было отмечено, но и работы по магии, астрологии, суеверие, а то и саму веру. Такие обвинения подойдут, скажем так, в наше время, но нельзя их предъявлять человеку XVI–XVII веков. И если он толкует об ангелах, управляющих государствами, и развивает на этом основании целую философию истории, то это вовсе не сумасшествие, а вполне приемлемое для монаха-доминиканца приложение на практике Слова Божия из первых глав Апокалипсиса.
Александр Горфункель верно пишет, критикуя теории Штекли и Амабиле: «Кампанелла не был лицемером. Он не продавал свое перо и свою мысль – ни за деньги, ни за свободу. “Ты знаешь, что я не продажен”, – писал он, обращаясь к Венеции в 1606 г. …Парадокс Кампанеллы не в раздвоении личности, а в сложности и противоречивости его мировоззрения… Все свои книги Кампанелла рассматривал как части одного огромного свода “наук, восстановленных фра Томмазо Кампанеллой в соответствии с собственными принципами, на основе двух божественных книг – Природы и Писания”. В основе многообразного литературного наследия калабрийского философа лежит общая система взглядов, именуемая философией Томмазо Кампанеллы. Системе этой свойственны глубокие противоречия, но это именно внутренние противоречия системы, а не внешние несовпадения отдельных книг».
Да, эта многогранность и неоднозначность автора вполне объяснимо распространяется и на его детища. Тот же «Город Солнца» вполне может стать ребусом для пытливого ума. Произведение небольшое и явно уходящее своими корнями в произведения Платона и Мора, хотя и не копирующее их, самобытное. Если смотреть с одной, некогда единственной идеологически верной стороны, – это идеальное и светлое будущее человечества. А с другой – не вода ли это на мельницу папы римского, гимн мудрому первосвященнику, главе вовсе не коммунистического, но теократического государства? Наконец, память человечества хоть и коротка, но пока еще достаточно крепка для того, чтобы прозреть в некоторых чертах «Города Солнца» прообраз государственного тоталитаризма, кроваво явившего себя в сталинском барачном коммунизме и гитлеровском фашизме, – впрочем, в последнем историки философии не боялись упрекать и самого велемудрого Платона…
Чем же может быть нова и интересна для читателя данная книга помимо изложения биографии великого калабрийца? Имея уникальную возможность изучить трактат «Об Испанской монархии» в английском переводе 1660 года, мы покажем Кампанеллу не только как революционера и философа (что уже сделали с разной степенью успеха и объективности А. К. Шеллер-Михайлов, А. Г. Генкель, А. Э. Штекли, А. Х. Горфункель, В. П. Волгин, Ф. А. Петровский, С. Л. Львов, Д. В. Панченко, М. Фиалко и ряд иных отечественных и зарубежных – от Л. Амабиле до Ж. Делюмо и Д. Эрнст – авторов), но и как талантливейшего политика. Несколько глав трактата переведены нами полностью – это касается прежде всего Италии, Сицилии и Сардинии, а также Англии (в свое время именно эта глава особенно всполошила англичан и подвигла их перевести трактат) и Московии, что, разумеется, будет небезынтересно для отечественного читателя, особенно если процитировать восторженный отзыв дореволюционного исследователя М. Ковалевского о том, что, как оказалось, «не в уме великого реформатора нашей отчизны (Петра I. – Е. С.), а в голове доминиканского монаха зародилась впервые мысль о соединении Византии с Москвой». Куда там нашему известному старцу Филофею с его «Третьим Римом», когда сам великий фра Томмазо возвестил, обращаясь к Михаилу Романову: «И новые небесные знамения, и старые пророчества свидетельствуют, что Москве предназначена Богом большая задача»! И совсем практически неизвестный факт: Кампанелла сам в случае освобождения был готов приехать на Русь в качестве проповедника католицизма.
Учитывая, что, кроме «Города Солнца», из всех произведений Кампанеллы переведены лишь небольшие, а то и просто крохотные фрагменты, а трактат «Об Испанской монархии» вообще пал жертвой своеобразного «заговора молчания» из-за специфики своего содержания и целенаправленности (что уже было отмечено ранее), автор испытывает скромную радость оттого, что еще одна часть наследия великого итальянца станет достоянием широкой русскоязычной общественности. Автор полностью разбил общепринятые обвинения, предъявленные Кампанелле римской инквизицией в 1594 году, – знаменитые три пункта, перепечатываемые из биографии в биографию, не имеют ничего общего с действительностью. Также, возможно впервые за все время, будет представлена авторская версия того, кто именно скрывается за участниками знаменитого диалога в «Городе Солнца», в первом из которых западная наука ошибочно видит Великого магистра Ордена иоаннитов (госпитальеров), а наша – столь же ошибочно и неправомерно разжаловала его в некие «гостинники»; второй же собеседник, столь же необоснованно «разжалованный» в простые моряки переводчиком Петровским, является генуэзским адмиралом. В Приложении помещен прозаический перевод с английского всего корпуса философско-религиозных и политических сонетов Кампанеллы, опубликованных при его жизни (доныне из 60 переведены лишь 11 – и это за период с 1954 по 2020 год), и избранные станцы, являющиеся не только неотъемлемой частью идейно-философского наследия Кампанеллы, но и блестящим свидетельством стойкости его духа под тяготами пыток и тюрем, поскольку сложены они были именно в заключении. Жаль, что уцелела лишь небольшая часть, хотя время от времени появляются новые ценные находки. Доводы в пользу подобного рода перевода и его необходимости приведены перед текстом сонетов, также сопровождающихся комментариями выполнившего перевод автора данной книги.
Отдельно стоит отметить публикацию фрагментов подлинного допроса Кампанеллы на 36-часовой пытке «велья». Впервые опубликованные на русском языке в 1940 году на страницах журнала «Антирелигиозник», в нашей стране они более не переиздавались, хотя были известны авторам работ о Кампанелле. Теперь, спустя 85 лет, они вновь доступны читателю. При этом автор выражает глубочайшую признательность Юлии Алексеевне Токаревой из отдела обслуживания пользователей ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина», любезно предоставившей возможность поработать с этим уникальным материалом.
Как уже было сказано, книга скорее может поставить многие вопросы, нежели дать на них прямые ответы. Причин – множество. Недостаток или противоречивость материалов, позднейшие напластования, например связанные с именами Бруно и Галилея. Малоответственные авторы, стремясь, видимо, придать Кампанелле больше блеска за счет «знакомства со знаменитостями», доходят в своих утверждениях до того, что рисуют их закадычными друзьями Кампанеллы, что, мягко говоря, неверно: с Бруно он вряд ли общался, хотя не исключено, что оба узника могли увидеть друг друга во время заключения в замке святого Ангела в Риме – речь не о прогулках, где они могли б общаться (а то С. Львов вообще дописался до того, что Бруно в застенке чуть не школу свою организовал, в которой Кампанелла был пылким слушателем), а о случайной встрече в тюремном коридоре под конвоем, например. То же с Галилеем: хотя они могли видеться, великий астроном держал себя на расстоянии от подозрительного с точки зрения церковных властей монаха и на письма его не отвечал; можно вспомнить, что Кампанелла выступил с трактатом в защиту Галилея, однако лично вовсе не был уверен в истинности гелиоцентрической системы мира, что отражено в его сочинениях, в том числе в «Городе Солнца». В общем, в данном аспекте всё получается по Сократу, смиренно утверждавшему, что он знает только то, что ничего не знает. Он не подает готовую истину на блюде, словно кушанье. Он пытается найти ее вместе, словно повивальная бабка, помогает собеседнику родить истину в беседе, ставя новые вопросы и анализируя ответы: «Спрашивая тебя, я только исследую предмет сообща, потому что сам не знаю его». Итак, даже не факт, что истина в итоге «родится». Но и попутное истребление заблуждений – тоже неплохой результат.
Автор надеется, что по мере сил дал многокрасочный портрет Кампанеллы, а не черно-белый. При этом фра Томмазо навсегда останется человеком-загадкой, неразрешимой не только для потомков (недаром один из лучших современных трудов о великом калабрийце авторства Жана Делюмо называется «Загадочный Кампанелла»), но и для своих современников. Мы представим много свидетельств pro et contra, касающихся его жизни и учения; выслушаем самого философа, его друзей и врагов. Насколько картина будет соответствовать истине – судить сложно. Казалось бы, не совсем уместно завершать предисловие к столь серьезному труду словами сатирика-современника, но М. М. Жванецкий, конечно, исключение, это не эстрадный шут, а смеющийся философ: «Как узнать правду о себе? У кого? Спросить у тех, кто тебя любит? Они разве скажут правду о тебе? Они же тебя любят. Значит, надо искать тех, кто тебя не любит. Да что же их искать? Их полно. И что они тебе скажут? Разве это будет правда о тебе? Они же тебя не любят. Значит, те, кто любит, не скажут правды о тебе и те, кто не любит, не скажут правды о тебе. Остались те, кто не знает. А что они вообще могут сказать? Как их можно спрашивать? Они же тебя не знают. Как же узнать правду о себе?..» Этот же риторический вопрос можно с полным основанием отнести и к Кампанелле.