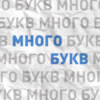Buch lesen: «Сочинения», Seite 58
V
15-го мая Клод, вернувшись в три часа утра от Сандоза, спал еще крепким сном, когда около девяти часов утра привратница вошла к нему с больших букетом белой сирени, принесенным посыльным. Клод догадался, что Христина шлет ему привет, заранее поздравляя его с успехом картины, так как в этот день должно было состояться открытие «выставки забракованных картин», на которой фигурировала и его картина, отвергнутая жюри официального Салона.
Это милое внимание со стороны молодой девушки и вид душистой, свежей сирени глубоко тронули художника. Босой, в одной сорочке, он подбежал к столу и поставил цветы в кувшин с водой. Затем он стал одеваться с распухшими от сна глазами, раздраженный тем, что спал так долго. Накануне он обещал Дюбюшу встретиться с ним в восемь часов утра у Сандоза, откуда они должны были втроем отправиться в Palais de l'lndustrie. Он опоздал уже на целый час.
Как на грех, он совершенно сбился с толку с тех р, как унесли его большой холст, и ничего не мог разыскать в мастерской. Около пяти минут он, стоя на коленях, искал между старыми рамами свои ботинки. Кругом искрились золотые пылинки, так как Клод, не имея денег на покупку рамы для большой картины, велел соседнему столяру сколотить раму из четырех деревянных брусков и сам позолотил их с помощью своей приятельницы, оказавшейся, впрочем, весьма неискусной позолотчицей. Покончив с своим туалетом, Клод схватил свою войлочную шляпу, усеянную золотой пылью, и собирался уже выйти из комнаты, когда промелькнувшая в его голове суеверная мысль заставила его вернуться к цветам, стоявшим на столе. Ему казалось, что если он не поцелует букета, то непременно случится какая-нибудь неприятность. Он быстро подошел к столу и прикоснулся губами к душистым цветам, с наслаждением вдыхая их аромат.
В сенях он отдал привратнице ключ от своей квартиры.
– Г-жа Жозеф, я сегодня весь день не буду дома, – сказал он ей.
Минут двадцать спустя Клод входил в квартиру Сандоза, не рассчитывая, однако, застать его. Но оказалось, что мать Сандоза провела очень плохую ночь и сам он только под утро успокоился насчет ее состояния. От Дюбюша он получил записку, в которой тот просил не ждать его, назначая друзьям свидание на выставке, где они условились встретиться и с остальными товарищами. Наконец оба вышли, и так как было около одиннадцати часов, то они решили позавтракать в мало посещавшейся сливочной в улице Saint-Ноnore. Тут они просидели довольно долго и, несмотря на жгучее желание увидеть поскорее выставку, предавались охватившим их воспоминаниям детства.
Когда они проходили по Елисейским полям, пробил час. День был великолепный; холодный ветерок, казалось, оживлял прозрачную лазурь неба. Свежая, точно покрытая лаком, молодая листва каштановых деревьев блестела в золотистых лучах солнца; сверкавшие снопы фонтанов, широкие аллеи и выхоленные зеленые газоны придавали пейзажу необыкновенно торжественный вид. Экипажей в этот ранний час дня было немного, во толпа пешеходов теснилась под аркой Palais de l’lndustrie.
Клод вздрогнул, войдя в обширные сени, где было холодно, как в погребе, и где гулко, словно в церкви, раздавался стук шагов по каменному полу. Направо и налево от входа поднимались две монументальные каменные лестницы.
– Неужели же мы должны пройти через их подлый Салон? – спросил Клод.
– Нет, благодарю покорно, – возразил Сандоз. – Мы пройдем садом до последнего подъезда, который ведет в «Салон забракованных».
С выражением презрения на лице приятели прошли мимо столиков, у которых сидели продавщицы каталогов. Вдали, за красными бархатными портьерами, виднелся под стеклянными сводами сад.
Б саду не было еще никого; только в буфете завтракали группы посетителей. Бея публика теснилась в залах первого этажа, одни белые статуи красовались в саду по обеим сторонам усеянных желтым песком аллей, резко выделяясь на зеленом фоне газонов. Вся эта неподвижная мраморная публика освещалась падавшим сверху светом, при чем южная часть стеклянного купола, задернутая парусиной, проливала более мягкий свет. Некоторые из Посетителей, вероятно, утомленные выставкой, сидели на стульях и скамейках, заново выкрашенных, а воробьи, поселившиеся между чугунными стропилами свода, весело чирикали, разрывая песок аллей.
Клод и Сандоз старались не глядеть по сторонам, делая вид, что очень спешат, и возмущенные при самом входе в сад большой бронзовой статуей работы одного из членов академии. Но, проходя мимо бесконечного ряда бюстов, они увидели Бонграна, расхаживавшего возле колоссальной статуи, занявшей всю ширину аллеи.
– Ах, и вы тут! – воскликнул Бонгран, увидев молодых людей. – Я рассматриваю фигуру Магудо… У них все-таки хватило ума принять ее и отвести ей видное место… А вы сверху?
– Нет мы только что пришли.
Тогда Бонгран с жаром заговорил о выставке «забракованных». Его, члена академии, не имевшего, однако, ничего общего с товарищами, забавляла все эта история. Вечные жалобы художников, нападки мелкой прессы и постоянные протесты дошли, наконец, до императора и он решился на этот coup d’etat, приказав открыть рядом с официальной выставкой «выставку забракованных». Больше всего Бонграна забавлял испуг и переполох, вызванные в болоте лягушек свалившимся в него камнем.
– О, – говорил он, – вы не можете себе представить, как негодуют члены жюри! Да еще не забудьте, что они не доверяют мне, сдерживаются в моем присутствии… Все взбешены теми ужасными представителями ненавистного реализма. Ведь это по их милости молчаливый мечтатель император выразил желание «предоставить публике контроль над приговором жюри»… Ах, приходится слышать столько угроз, направленных в ваш лагерь, господа, что я не дорого дал бы теперь за ваши шкуры!..
Он засмеялся своим добрым, непринужденным смехом, протягивая руки и точно желая обнять всю эту молодежь, выросшую на его глазах.
– Число ваших учеников быстро растет, – заметил Клод.
Бонгран махнул рукой в смущении. Он ничего не выставил в этом году, и все эти работы, которые он рассматривал тут, все эти усилия творческой мысли наводили на него бесконечную тоску. Тяжелое чувство это не вызывалось завистью – не было души более благородной, более возвышенной. Но выставка наводила его на невеселые мысли и им невольно овладевал смутный страх, сознание, что сам он начинает падать, ослабевать.
– А как идут дела там, в «Салоне забракованных»? – спросил Сандоз.
– Прекрасно… вот вы сани увидите.
Затем, повернувшись к Клоду, он взял обе руки юноши и сказал:
– Вы, дружок – мастер!.. И знаете ли что? Вот я уже давно добился известности, а между тем я дал бы десять лет своей жизни за одну вашу женскую фигуру в траве…
Такая похвала в устах знаменитого художника тронула до слез юношу. Наконец-то он добился успеха. Стараясь скрыт свое волнение и не находя ни слова для выражения своей благодарности, он поспешил перейти к другому предмету.
– Молодчина этот Магудо! Его фигура очень хороша… Чертовский темперамент, не правда ли?
Он ходил с Сандозом вокруг статуи. Бонгран улыбнулся.
– Да, да… Но только слишком много мяса… бедра и грудь невозможны… Но посмотрите, как изящно сделаны сочленения… какая тонкая работа… Но до свидания, господа! У меня ноги подкашиваются от усталости… Я должен отдохнуть.
В это время Клод поднял голову и стал прислушиваться. Слышался какой-то странный шум, на который он раньше не обратил внимания, не то шум волн, ударявших в бурю о берег, не то отдаленные раскаты грома.
– Что это? – пробормотал Клод.
– О, это гудит толпа в залах, – отвечал удалявшийся Бонгран.
Молодые люди прошли через сад и поднялись в «Салон забракованных».
Обставили его довольно хорошо, ни сколько не хуже официального Салона. Двери были убраны старинными коврами, у стен стояли красные бархатные диваны, стеклянные просветы в потолке были затянуты белым холстом, анфилада зал пестрела золотом и красками. Но в этих залах было и нечто своеобразное, яркое, молодое, отличавшее «выставку забракованных» от обыкновенных выставок. Публика все прибывала; все стремились сюда из официального Салона, подстрекаемые любопытством и желанием проверить мнение судей, заранее уверенные в тон, что увидят тут много забавного. Жара была нестерпимая, тонкая пыль поднималась с полу, можно было предвидеть, что к четырем часам публика будет задыхаться в этих залах.
– Черт возьми, – воскликнул Сандоз, работая локтями, – нелегко будет нам пробраться и отыскать твою картину!
Он торопился, охваченный лихорадочным нетерпением увидеть работу Клода. В этот день он ни о чем другом не мог думать.
– Оставь, – сказал Клод, – времени еще много впереди. Ведь картина моя не улетит!
Клод делал вид, что не спешит увидеть свою картину, хотя, в сущности, ему страстно хотелось броситься к ней поскорей. В громком гуле толпы, ошеломившем его, можно было теперь различить раскаты смеха, заглушенного топотом ног я шумом голосов. Перед некоторыми картинами посетители останавливались, слышались шутки, смех. Это встревожило Клода, который, несмотря на то, что корчил из себя грубого революционера, отличался нервностью и впечатлительностью женщины и постоянно дрожал при мысли, что будет осмеян толпой.
– Им, однако, весело тут! – пробормотал он.
– Еще бы! – воскликнул Сандоз. – Как им не смеяться! Посмотри-ка на этих странных кляч!
В эту минуту Фажероль неожиданно наткнулся на них. Он вздрогнул, по-видимому, неприятно пораженный неожиданной встречей. Однако, он тотчас оправился и сказал, приветливо улыбнувшись:
– Ах, вот и вы!.. Я только что думал о вас… Я тут уже более часа.
– Куда же они запрятали картину Клода? – спросил Сандоз.
Фажероль, простоявший минут двадцать перед этой картиной, изучая ее и следя за впечатлением, которое она производила на публику, отвечал без запинки:
– Не знаю… Пойдемте отыскивать ее.
Они отправились втроем. Фажероль, корчивший из себя в кругу товарищей отчаянного сорванца, был очень прилично одеть в это утро, и хотя насмешливое выражение не сходило с его лица, оп производил впечатление солидного молодого человека, который сумеет пробить себе дорогу в жизни.
– Я ужасно сожалею о том, что ничего не выставил в этом году! Я был бы тут вместе с вами, разделял бы ваш успех!.. О, тут есть поразительные произведения, дети мои! Вот, например, эти лошади…
И он указал на огромное полотно, перед которым толпились с хохотом посетители. Рассказывали, что эта картина была написана старым отставным ветеринаром; на лугу паслись лошади, изображенные в натуральную величину, лошади всевозможных цветов – голубые, фиолетовые розовые; кости их, казалось, виднелись сквозь кожу.
– Ты издеваешься над нами, – сказал в недоумении Клод.
Фажероль воскликнул с притворным восторгом:
– Как? Это замечательная картина! Этот плут хорошо изучил лошадей. Конечно, он ничего не смыслит в живописи. Но не все ли равно? Зато он оригинален!
Тонкие черты его женственного лица оставались серьезными; только в глубине его серых глаз светилась насмешка. Продолжая говорить, он ввернул злое замечание, понятное ему одному.
– Ну, если ты обращаешь внимание на смех этих болванов, то имей в виду, что тебе придется увидеть и не то!
Они пробирались с большим трудом в толпе. Войдя в следующую залу, они окинули стены быстрым взглядом, но и гут не видно было картины Клода. Зато они увидели Ирму Бено и Ганьера, стоявших под руку и прижатых толпой в стене. Ганьер рассматривал какую-то маленькую картину, а Ирма, очень довольная толкотней, поднимала свое розовое личико, улыбаясь толпе.
– Разве она сошлась с Ганьером? – спросил удивленный Сандоз.
– О, временная фантазия! – объяснил спокойным голосом Фажероль. – Это, видите ли, презабавная история! Вы должны знать, что для нее меблировал роскошную квартиру этот идиот-маркиз… знаете тот, о котором столько говорили газеты… Ведь я предсказывал вам, что она далеко пойдет!.. Но беда в том, что Ирма не особенно любит кровати с гербами, она предпочитает простые койки, а по временам ею овладевает положительная страсть к мансардам художников. Таким образом, бросив свою обстановку, она явилась в воскресенье около Часу ночи в кафе. Бодекен. Мы только что разошлись, оставался один Ганьер, дремавший над своей кружкой пива… Она остановилась на Ганьере.
Увидев товарищей, Ирма начала подзывать их нежными жестами. Пришлось подойти в ней. Ганьер оглянулся и на маленьком, бледном, безбородом лице его не выразилось ни малейшего удивления, когда он увидел товарищей, стоявших за его спиной..
– Удивительно! – пробормотал он.
– Что? – спросил Фажероль.
– Да эта маленькая картина… правдиво, наивно, проникнуто чувством…
Он указывал на крошечную картину, которую рассматривал с таким энтузиазмом – картину, которую можно было приписать руке четырёхлетнего ребенка: на краю дороги стоял домик, возле него небольшое дерево, под трубою поднимался спиралью неизбежный дым.
Клод сделал нетерпеливый жест. Фажероль флегматично произнес: – Да, очень тонко… очень тонко… Но где же твоя картина, Ганьер?
– Моя?.. Да вот она.
Картина Ганьера висела рядом с маленькой картиной, возбудившей внимание Ганьера. Это был небольшой серенький пейзаж, уголок Сены, очень тщательно написанный, строго выдержанный, без всяких революционных замашек.
– И как могли эти идиоты не принять твоей работы? – воскликнул Клод, рассматривавший с интересом картину. – Ну, скажите, пожалуйста, чем могли они мотивировать отказ?
Действительно, невозможно было объяснить, на каком основании жюри отвергло прелестную вещицу Ганьера.
– Да просто на том основании, что это реализм! – сказал Фажероль таким странным тоном, что трудно было решить, осуждает ля он жюри или картину.
Между тем Ирма, на которую никто не обращал внимания, не отрывала глаз от Клода; робость этого дикаря неотразимо привлекала ее. Ведь он не пожелал даже повидаться с нею после ее посещения! В это утро он казался ей особенно странным. Волосы его были взъерошены, а лицо помято, точно после тяжелой лихорадки. Наконец, желая обратить на себя его внимание, она дотронулась до его руки, говоря:
– Смотрите, вас, кажется, ищет один из ваших друзей.
Она указывала на Дюбюша, которого встретила однажды в кафе Бодекен. Он с трудом пробирался в толпе и точно искал кого-то в этом море годов. Но в ту минуту, когда Клод сделал жест, желая привлечь его внимание, он повернулся к йену спиною, низко раскланиваясь перед группой, состоявшей из трех лиц: низенького роста, толстого господина с красным лицом, худощавой, анемичной дамы с лицом, словно вылитым из воска и восемнадцатилетней тщедушной барышни, поражавшей своим жалким, болезненным видом.
– Ого, вот он и попался! – пробормотал Клод. – И с какими уродами он знается!.. Где-то он выкопал их?
'Оказалось, что Ганьер знает это семейство. Старик Маргальян был одним из крупнейших подрядчиков Парижа; он застраивал целые кварталы и нажил подрядами состояние в несколько миллионов. Вероятно, Дюбюш познакомился с ним через одного из тех архитекторов, которым он исправлял чертежи.
Сандоз, пораженный худобой барышня, воскликнул:
– Ах, бедный ободранный котенок! Какая жалость!
– Черт с няня! – сказал возмущенный Клод. – Все пороки буржуазия запечатлены на их лицах. От них так я веет золотухой и глупостью!.. Смотрите, изменник присоединился к ним. Есть ли что-нибудь в мире пошлее архитектора? Ну, скатертью дорога!.. Пусть попытается теперь найти нас!
Дюбюш не заметил товарищей; он подал руку тощей даме и повел всю семью, объясняя ей с изысканной любезностью выставленные картины.
– Ну, господа, пойдемте, – сказал Фажероль. – И, обращаясь к Ганьеру, он спросил:
– Не знаешь ли ты, куда они поместили картину Клода?
– Нет, я все время искал ее… Л пойду с вами.
И, позабыв об Ирме, он последовал за товарищем. Ирме вздумалось в это утро отправиться на выставку под руку с Ганьером, но Ганьер, не привыкший ходить с дамами, постоянно терял ее и каждый раз удивлялся, находя ее опять возле себя. И теперь она побежала за ним и схватила его руку, стараясь не отставать от Клода, который входил с Фажеролем и Сандозом в следующую залу.
Все пятеро медленно подвигались вперед, то разъединяемые толпой, то опять сталкиваясь под ее напором. Наконец их остановила безобразная картина Шэна: «Христос и блудница», изображавшая две тощие, костлявые, точно вырубленные из дерева фигуры. Можно было подумать, что они писаны не красками, а грязью. Но рядом с этой картиной висел прелестный этюд женщины, сидевшей спиной к публике и глядевшей на нее через плечо. Вообще эта выставка представляла самую невероятную смесь прекрасных вещей с крайне плохими, да притом расположенными без всякой системы: рядом с представителями исторической школы находились ярые последователи. реализма, рутина рядом с бездарной оригинальностью; мертвая Иезавель, словно покрытая плесенью подвалов академии изящных искусств, висела рядом с прелестной женщиной в белой одежде, оригинальной фантазией талантливого художника; необыкновенных размеров «Пастух на берегу моря» рядом с маленькой, прелестно освещенной картиной, изображавшей испанцев, играющих в мяч. Были тут и батальные картины, изображавшие оловянных солдат в разных положениях и целый ряд бездарных попыток воспроизвести античный мир и средние века. Но от всего этого ужасного хаоса веяло молодостью, смелостью и страстью, и если в официальном салоне было меньше плохих картин, зато, в общем, она являлась более бесцветной, более посредственной, чем «салон забракованных». Казалось, что находишься на поде битвы, что вдали слышатся звуки труб и что с наступлением рассвета смельчаки бодро выступят против врага, уверенные в победе.
Клод, ободренный этим воинственным влиянием, возбуждался, сердился, с вызывающим видом прислушивался к смеху толпы, который казался ему свистом пуль. А смех этот становился все громче и непринужденнее; дамы не старались, как в первой зале, заглушить его, прижимая платки во рту, мужчины хохотали во все горло. Это была заразительная веселость толпы, явившейся сюда с целью позабавиться и готовой хохотать по поводу каждого пустяка; все вызывало ее смех – и хорошее, и дурное; Над картиной Шэна смеялись даже меньше, чем над висевшим рядом с ней прелестным этюдом голой женщины, спина которой точно отделялась от полотна и казалась необыкновенно смешной. Дама в белом также забавляла публику; перед ней теснились группы людей, толкая друг друга локтем, покатываясь со смеху. Каждая картина имела своего рода успех, люди издали перекликались, звали друг друга, указывая на какую-нибудь картину, остроты переходили из уст в уста, Клод, входя в четвертую залу, чуть было не побил старую даму, которая возмутила его своим хихиканьем.
– Что за идиоты! – воскликнул он, обращаясь к товарищам, – Так и хочется швырнуть им в головы эти картины!
Сандоз также вышел из себя; Фажероль продолжал громко расхваливать самые плохие картины, а Ганьер рассеянно смотрел куда-то вдаль, таща за собой восхищенную Ирму, юбки которой беспрестанно задевали ноги всех проходивших мужчин.
Вдруг перед ними неожиданно появился Жори. Красивое лицо его с большим розовым носом сияло. Сильно жестикулируя, он бесцеремонно расталкивал толпу, точно опьяненный своей победой. Увидев Клода, он воскликнул:
– Ах, вот, наконец, и ты! Я уже больше часа разыскиваю тебя… Ну, старина, успех обеспечен… И какой успех!..
– Успех чего? – спросил Клод с замиранием сердца.
– Да твоей картины!.. Сам увидишь… Пойдем! Да, просто невероятно!
Клод побледнел, охваченный глубокой радостью, которую он, однако, старался скрыть. Он вспомнил слова Бонграна… неужели же он вышел победителем?
– И вы тут? Здравствуйте, – продолжал Жори, здороваясь с приятелями и с Ирмой, которая, как ни в чем не бывало, улыбалась ему, Фажеролю и Ганьеру, разделяя между ними свою привязанность «по семейному», как выражалась она.
– Да где же, наконец; картина? – воскликнул нетерпеливо Сандоз. – Веди нас поскорей к ней.
Жори пошел вперед, товарищи следовали за ним. В дверях последней залы пришлось употребить б дело локти, чтобы пробраться сквозь толпу. Клод, следуя за товарищами, слышал, что смех становился все громче, что странный гул толпы усиливался, и ему казалось, что он слышит шум морского прибоя, который собирается залить его картину… Войдя в залу, он увидел громадную толпу, теснившуюся в беспорядке с ревом и хохотом перед его картиной. Да, все смеялись над ней!
– Ну, что, – спросил Жори, торжествуя, – это ли не успех?
Ганьер, сконфуженный и растерявшийся, точно ему самому кто-нибудь дал пощечину, пробормотал:
– Да, слишком большой успех… Л предпочел бы нечто другое…
– Как ты глуп! – воскликнул Жори, продолжая горячиться. – Это-то и есть настоящий успех! Какое дело нам до этого смеха? Важно то, что на нас обратили внимание… Завтра все газеты заговорят о нас.
– Идиоты! – пробормотал Сандоз, задыхаясь от волнения. Фажероль молчал со спокойным достоинством друга семьи, сопровождающего погребальное шествие. Одна Ирма продолжала улыбаться, находя все это крайне забавным; ласково опираясь на плечо осмеянного художника, она сказала ему нежным шепотом:
– Не печалься, милый. Все это вздор!
Но Клод стоял неподвижно; страшный холод парализовал его члены, и сердце его замерло от неожиданного удара. Широко раскрыв глаза, точно повинуясь непреодолимой силе, он пристально смотрел на свою картину и, казалось, не узнавал ее. Нет, это была совсем не его работа, не та, которая стояла в его мастерской! Она словно пожелтела под тусклым светом парусинного экрана, казалась меньше и грубее. Под влиянием ли обстановки или соседних картин, но теперь Клод сразу увидел все недостатки произведения, над которым бился в течение многих месяцев. Несколькими взмахами кисти он мысленно переделывал ее, изменял расстояния, переделывал положение членов, смягчал тоны. Господин в бархатной куртке никуда не годился… хороша была только рука его. Две маленькие женские фигуры на заднем плане, блондинка и брюнетка, едва намеченные, могли нравиться только глазу настоящего художника. Но деревья и поляна, залитая светом, вполне удовлетворяли его, а главная фигура – голая женщина в траве, поразила его своей красотой. Ему казалось, что не он писал ее, что он в первый раз видит эту фигуру, полную жизни.
Повернувшись в Сандозу, Он спокойно сказал:
– Публика, имеет основание смеяться, в картине очень много недостатков… Но тем не менее женщина в траве очень хороша! Бонгран не издевался надо мной.
Сандоз пытался увести художника, но тот не слушал его, подошел еще ближе к своей картине. Теперь, когда он произнес уже над ней свой приговор, он стал прислушиваться и присматриваться в толпе. Взрывы безумного хохота следовали один за другим, образуя целую гамму смеха. Он видел, как, войдя в комнату, посетители начинали улыбаться, челюсти раздвигались, глаза суживались, лица расширялись, он слышал, как раздавались громкие раскаты смеха толстяков, скрипучее хихиканье худощавых и пронзительный визг женщин. У стены, прямо против картины, несколько молодых людей покатывались со смеху. Какая-то дама присела на диван и зажала рот платком, задыхаясь от смеха. Вероятно, слух об этой картине распространился по всем залам, отовсюду стекались группы людей, раздавшись возгласы:
– Где она?.. Там?.. Вот потеха! – И остроты сыпались одна за другой. Сюжет картины вызывал главным образом смех; никто не понимал его, все находили его крайне нелепым. – Посмотрите, барышне стало жарко, а господин побоялся схватить насморк и надел бархатную куртку!.. Да нет, господа, барышня вся посинела от холода… Господин вытащил ее из лужи п теперь отдыхает в почтительном отдалении, зажимая себе нос… – Невежливо, господин, сидеть спиной в публике! – Уверяю вас, что это пансионерки, гуляющие в лесу… Две из них играют в чехарду… – Послушайте, он верно выстирал и подсинил свою картину… И тело барышень и деревья все синее!.. – Те, которые не смеялись, разражались бранью: этот своеобразный синеватый свет казался оскорблением искусства. Разве можно допускать подобное глумление? Некоторые старики размахивали палками по воздуху. Какой-то важный сановник удалился, заявляя жене, что он терпеть не может глупых шуток. Другой открыл каталог, желая найти в нем для своей дочери объяснение сюжета картины, и громко прочел название картины: «Pleinair». Толпа подхватила это слово и повторяла его с ревом и свистом на все лады. Толпа все прибывала, на тупых лицах, раскрасневшихся от жары, играла самодовольная улыбка, невежды продолжали осыпать бедную картину всем запасом ослиной мудрости, всеми пошлыми, злыми остротами, которыми располагает тупоголовая буржуазия.
Появление Дюбюша, сопровождавшего Маргальянов, нанесло Клоду последний удар. Очутившись перед картиной, смутившийся архитектор ускорил свои шаги, желая увести подальше своих знакомых и делая вид, что не видит ни картины, им своих товарищей. Но подрядчик уже успел остановиться, расставив свои коротенькие ножки и прищуривая глаза.
– Скажите-ка, – спросил он своим громким, хриплым голосом, – какой сапожник смастерил это?
Эта грубая шутка выскочки – миллионера, резюмировавшая мнение толпы, вызвала новый взрыв веселости, а подрядчик, польщенный успехом, позабавленный странной живописью, разразился таким потрясающим хохотом, что заглушил другие звуки в зале. Этот неистовый смех был заключительным аллилуйя, исполненным большим органом.
– Уведите мою дочь, – шепнула Дюбюшу бледная г-жа Маргальян.
Дюбюш бросился к Регине, которая стояла, скромно опустив глаза, и стал энергично расталкивать толпу, точно торопясь спасти это несчастное существо от неминуемой смерти. Затем, проводив до дверей Маргальянов и обменявшись с ними рукопожатиями и поклонами, он пробрался к друзьям и сказал, обращаясь к Сандозу, Фажеролю и Ганьеру:
– Что же, я не виноват, господа… Ведь я предупреждал Клода, что публика не поймет его. Да и говорите, что хотите, а все-таки это свинство!
– Они ведь осмеяли Делакруа! – прервал его Сандоз, бледнея от ярости и сжимая кулаки. – Они осмеяли и Курбэ!.. Ах, подлые буржуа, тупоумные палачи!
Ганьер, охваченный тем же чувством негодования при воспоминании о своих стычках в воскресных концертах Па- делу, воскликнул:
– И они же освистывают Вагнера!.. Да, именно они!.. Я узнаю их. Смотрите, вот этот толстяк…
Но Жори остановил его. Он твердил, что все складывается блестящим образом, что приобретенная этим скандалом известность может быть оценена в пятьсот тысяч франков. А Ирма, опят забытая всеми, отыскала в толпе двух приятелей, молодых биржевиков, хохотавших больше всех над картиной Клода, и, хлопая их по рукам, старалась убедить их в том, что картина очень хороша.
Один Фаржероль не проронил все время ни слова. Он пристально всматривался в картину и вместе с тем изучал толпу. Одаренный тонким чутьем истого парижанина, он один понимал смысл печального недоразумения, понимал, что эта живопись может покорить мир, если только сделать некоторые уступки публике, изменить кое-что в сюжете, смягчить краски… Фажероль был убежденным последователем Клода, талант которого наложил на него неизгладимую печать. Но он считал безумием выставлять подобную вещь. Разве можно было предположить, что публика поймет эту картину? К чему эта голая женщина рядом с господином в бархатной куртке? К чему эти две маленькие женские фигуры на заднем плене? А между тем картина была написана рукой великого мастера, на официальной выставке не было ни одной, которая могла бы сравниться с нею. И в душе Фажероля поднималось глубокое презрение к даровитому художнику, над которым издевался весь Париж, как над последним пачкуном. Он не йог даже скрыть этого чувства и в порыве откровенности воскликнул, обращаясь к Клоду;
– Ну, послушай, дружок, ты сам виноват в этом. Ты ужасно глуп!
Клод молча взглянул на него. Смех толпы, казалось, не смутил его. Побледневшее лицо его было спокойно, и только по временам губы подергивались нервной дрожью. Лично его никто не знал, осмеивали только его произведение, и это придавало ему мужество. Он опять с минуту смотрел на свое произведение, затем обвел медленным взглядом все другие картины, висевшие в этой зале. И, несмотря на острую боль, которую он испытывал при крушении своих иллюзий, несмотря на оскорбленное самолюбие, он почувствовал прилив новых сил, прилив мужественной отваги при виде этих произведений, от которых веяло здоровьем, молодостью, готовностью смело выступить в поход против старой рутины. И художник ободрился, успокоился, решил не сворачивать со своей дороги, не делать уступок публике, хохотавшей над ним. Конечно, в этих произведениях много ребяческого, много грубых промахов, но сколько жизни, сколько силы в этом рассеянном, серебристом свете, оживленном всеми отражениями воздуха! Казалось, что кто-то отворил окно в затхлой, душной мастерской и в нее ворвались весенние лучи солнца, весело играя на ее стенах. Этот синеватый свет, над которым так смеялась толпа, выделял картину Клода среди других картин. Не предвещал ли он зарю нового дня, наступающего для искусства? Один из довольно известных художественных критиков остановился перед картиной и долго всматривался в нее без смеха; подходили к ней известные художники и, словно пораженные ею задумчиво смотрели на нее. Наконец старик Мальгра, переходивший от одной картины к другой, вдруг остановился, пораженный картиной Клода. Тогда, обернувшись к Фажеролю, Клод ответил:
– Каждый глуп по своему, мой милый! Должно быть я никогда не поумнею… тем лучше для тебя, если ты не глуп!
Пораженный запоздалым ответом, Фажероль дружески хлопнул по плечу Клода, который позволил наконец Сандозу увести себя из залы. Вся компания вышла из «Салона забракованных» и направилась в залу архитектуры, где был выставлен «Проект музея», представленный Дюбюшем. Архитектор смотрел на товарищей такими умоляющими глазами, что- у них не хватило духа отказать ему в просьбе взглянуть на его работу.
– Ах, – воскликнул Жори, входя в залу, – настоящий ледник! Только тут и можно свободно дышать!
Все сняли шапки и с облегчением отерли лбы, как будто после долгой ходьбы под палящими лучами солнца они наконец добрались до тенистого местечка. Зала была совсем пуста. С потолка, Стянутого белым холстом, падал ровный, мягкий свет, отражаясь в блестящем паркете, который казался большой стоячей лужей. На четырех стенах с красными полинялыми обоями висели проекты разных размеров, большие и малые чертежи. Среди этой пустыми стоял какой-то бородатый господин, погруженный в созерцание проекта воспитательного дома. Показались еще три дамы, но, словно испугавшись чего-то, быстро удалились, перебегая через залу мелкими шажками.