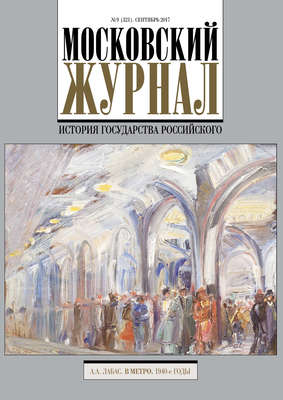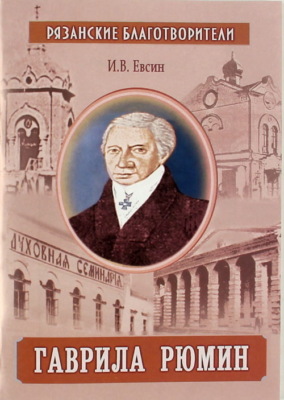Buch lesen: "Инстинкт просвещения"
© Е.С. Пестерева, 2021
© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2021
Предисловие автора
Моя первая публикация как критика – рецензия на поэтический сборник – была написана и опубликована в 2011 году. В тот момент я ясно понимала и могла объяснить, что для меня литература и для чего она нужна миру, что мне важно в критике, чего я хочу от прозы и поэзии, чего я хочу от писателей и читателей, и зачем этим сущностям я сама. С тех пор прошло десять лет. По перечисленным вопросам я чувствую растерянность и недоумение разной степени выраженности.
В эту книгу я собрала статьи, обзоры, рецензии, заметки, интервью, эссе, манифесты и описания литературных вечеров, написанные в разное время, опубликованные и нет. Опубликованные отредактированы, сокращены, дописаны, часть купюр, сделанных при публикации, восстановлена.
Я все еще считаю, что литература – частный случай речи, и ее главная задача – коммуникативная. Это путь от одного человека к другому. Поэтому материалы в книге расположены вне хронологии, отечественная поэзия соседствует с иностранной прозой, а жанры критики перемешаны между собой. Мне хотелось объединить материалы по авторам и группам, таким образом, каким они существуют на моей литературной карте. В результате пришлось рассказывать о Нате Сучковой сразу после Марии Марковой, а о Сергее Гандлевском – сразу после Алексея Цветкова. Этот путь от меня как критика к читателю кажется мне самым прямым.
Вместо введения
– Какие книги на вас повлияли больше всего?
– Первые 25 лет жизни я жила в коммунальной квартире. В библиотеке на несколько полок чудом был Мандельштам, изданный во Владивостоке, сборник с ладонь, мягкая обложка, синий. Первое прочитанное стихотворение – «Сегодня дурной день», второе – рядом на развороте – про то, что «своей булавкой заржавленной / достанет меня звезда», и я решила, что ничего. Третье – про раковину без жемчужин, и мне не понравилось. Четвертое – про «я качался в далеком саду на большой деревянной качели». Была осень, мне было шестнадцать, мне не нравились вообще ничьи стихи, да и проза, да и люди тоже не очень. Но деревянная качель под соснами раскачалась перед моими глазами, и я до сих пор ее вижу.
В школьной библиотеке нашлась книжка с выдержками из дневников Толстого, я читала, как каждый день он мучается виной и отвращением к себе и дает бессмысленные клятвы не шататься по гостям, не играть в азартные игры, не болтать пустых сплетен, не ходить к девкам – и то ли верит, что в этот раз сможет, то ли с самого начала знает, что все это напрасные усилия, то ли и то, и другое одновременно. Я бы сказала, было ощущение, что я прекрасно его понимаю, но на самом деле оно было противоположным: что меня наконец-то кто-то понимает – и это приносит облегчение.
Позже, лет в 18–20, это были «Исповедь» Августина и «Шпиль» Голдинга – как я сейчас замечаю, они продолжили тему внутреннего конфликта и войны человека с самим собой. Мандельштам их спасительно уравновешивал своим изумлением перед даром жизни и воздушным сиянием лирики.
НГEx libris, 21 ноября 2019
Глава первая,
о том, какой хотелось бы видеть критику
Роль критики в современной литературе
(круглый стол, фрагмент)
Последние несколько лет книжные обзоры есть в журналах Marie Clair, Elie, Cosmopolitan, Glamour, Esquire, SNC, Men’s Health, Playboy, Домашний очаг, Медведь, Дилетант, Добрые советы и далее, и далее. Добавлять книжную полосу или книжный разворот стало правилом хорошего тона. Это могут быть регулярные обзоры или тематические подборки.
Работая литературным обозревателем в Psychologies, я три года наблюдаю сопротивление и преодолеваю взаимную неприязнь читателей и писателей. Например, ощутимо предубеждение, что современная отечественная проза это очень скучно, сложно и оторвано от реальности, в смысле, делается писателями для писателей, на замкнутый на себе междусобойчик. Второе предубеждение: современная русская проза выискивает наиболее мрачные и травмирующие фабулы и педалирует темы социальных язв, т. е. это проза кромешного ада из одиноких старушек, детдомовских детей, домашнего насилия, убожества и нищеты, причем конфликты либо не разрешаются, либо разрешаются так, что окончательно отравляют жизнь читателю. Добровольно читать такую литературу читатель не согласен. Личный ад у него и без книжек есть.
Каждый месяц я рассказываю читателю, что современная проза это не так страшно, как кажется, и включаю в обзоры Абгарян, Улицкую, Водолазкина, Данилова, Воденникова, Шишкина, Толстую, Кучерскую, обоих Драгунских. Я сознательно называю отечественных прозаиков, потому что круглый стол, насколько я могу судить, не о переводной литературе. Хотя большей частью я читаю и обозреваю иностранную литературу.
Кроме этого, есть предубеждение, и читательское, и, разумеется, писательское, среди поэтов, критиков и всего «литературного бомонда», что глянцевый журнал это вершина пошлости. Такой антипод «толстого» журнала. Что глянцевый журнал делают люди низкого культурного уровня для себе подобных и хуже – и ради денег. Журнал для масс. Эти самые массы, похоже, современному писателю мерещатся столь дикими, что контакт с ними мучителен и не нужен.
Можно сколько угодно говорить о невстрече автора и читателя, но встреча с позиций снобизма невозможна.
Книжными обзорами присутствие литературы в глянце не исчерпывается. Это могут быть эссе, интервью с писателями, опыты прочтения классики, как делала в свое время Новодворская в «Медведе», могут быть стихотворения или журналистские материалы с инфоповодом типа книжных ярмарок и появления сайта Gorkiy. Глянцевые журналы охотно публикуют рассказы и фрагменты романов. Рассказы – строго неопубликованные ранее, а вот фрагменты могут быть и из только что изданной книги.
Елена Луценко: Лен, а вот такой вопрос… Есть ли в глянцевом журнале цензура в отношении литературной критики? Что автоматически не может попасть на страницы, так сказать, рецензий?
Елена Пестерева: Нет. Цензуры нет, потому что на это нет ни у кого ни сил, ни денег, ни времени, ни желания. Если вы делаете регулярные обзоры для ежемесячника, то процесс устроен примерно так. Издатели присылают свои анонсы и редакционные планы. Могут выделять при этом фокусный ассортимент, а могут и не выделять. Если Редакция Елены Шубиной издает пять книжек в месяц, конечно же, все пять будут анонсированы. Если анонс пришел не от РЕШ, а в обще-эксмовой рассылке, то в ней будет фокусный ассортимент. В него не попадет, например, Мураками – у издателя нет проблем его продать, стало бы, издатель не заинтересован в вас как в рекламной площадке.
Издательские анонсы – это примерно 100–150 книжных наименований в месяц. Ни одна журнальная редакция не будет сидеть и смотреть, что там вышло и про что из этого стоит писать, а про что – не стоит. Для этого, собственно, и есть книжный обозреватель. Он на свой страх и риск выбирает шесть-семь, максимум, восемь книжечек в месяц, стоящих того, чтобы вообще о них хоть что-то говорить. Разумеется, никто не мешает сходить в книжный, найти там нового Мураками или Эрленда Лу, которых в фокусном ассортименте не было – и написать о них.
Елена Луценко: Ну, просто я знаю, что вот на том же «Снобе» электронной версии ведется очень строгий учет того, что происходит, и если, скажем, критика, театральная критика или литературная критика, не близка тому типу читателя, той аудитории, которая воспринимает, то это дело сворачивается. То есть, как ты выбираешь то, что может быть интересно вот этому сегменту читательской аудитории? По каким принципам происходит отбор из вот этих ста пятидесяти новинок ежемесячно? Это же огромный поток литературы.
Елена Пестерева: Конечно, обзор в глянце – это не бессмысленные ревью в жанре «вышла книга». Он должен соответствовать общей концепции журнала, его духу, стилю и тематике. Но это не означает, что Playboy обозревает порнороманы. Playboy регулярно называет книгу месяца и пишет о Кундере, Леклезио и «Железном даре» Крусанова. Адекватность концепции касается самого текста обзора в гораздо большей степени, чем тех книг, которые в него вошли.
Но вопрос о цензуре понятный. Когда я соглашалась на эту работу, я была уверена, что редактор станет навязывать мне книги издательств, с которыми у нас, скажем, бартер или другие сложные взаимоотношения. И, разумеется, станет мне что-то запрещать. Но этого не происходило. И я несколько месяцев не могла привыкнуть к свободе. Перезванивала и спрашивала: а можно из неизвестных никому издательств книжки заказывать? А если тираж 3000 экземпляров, тоже можно? А про поэтический сборник? А если тоненькая книжка? А если совсем маргинальная, нецензурная и 18+? А если периодика? В конце концов, я добавила в обзор один крошечный рассказ Дениса Осокина и в качестве источника публикации указала журнал «Октябрь» за 2013 год, декабрьский, кажется, номер – и только тогда уверилась.
В редких случаях можно добавить в обзор и переиздания, но для этого должен быть весомый информационный повод.
Наш журнал так устроен, что в начале есть рубрика с художественными книгами, книгами общекультурного свойства и детскими новинками, а в конце еще несколько страниц посвящены профессиональному нон-фикшну: книжки по психологии, психотерапии, психиатрии, по нейробиологии, нейрофизиологии, педагогике и т. д.
Выбирая художественную книжку, я оцениваю, могу ли я вообще ее прочитать. Я не имею в виду объем. Текст должен быть написан так, чтобы его можно было читать добровольно, чтобы сам процесс не вызывал стойкого отвращения. Он должен быть хорошо написан. Вот на этом – «это должно быть хорошо написано» – отсеивается большинство новинок.
Дальше – поскольку издание все же тематическое – я пытаюсь понять, можно ли из текста выудить какие-то общечеловеческие темы, а не только литературную игру, языковую игру и интеллектуальную игру. Этика, семья, эмоции, проблемы частной и исторической памяти, конфликты, духовные кризисы, что-то такое, что потенциальному читателю журнала может быть интересно. Или я смогу объяснить условной интеллигентной сорокалетней женщине с высшим образованием, живущей в условном Екатеринбурге – а мы примерно так представляем себе аудиторию – зачем ей читать про жестоких японских школьниц или циничного француза, принявшего ислам.
И третье, это не правило, а нежное пожелание редакции. Хотелось бы, чтобы эти полосы были не очень мрачными. Потому что, ну это же люди, они же будут читать, они же покупают нас, чтобы немножко развеяться и немножко прийти в себя, и чуть-чуть отдохнуть, получить какой-то глоток воздуха, ну хотя бы отчасти. Потому что осень, знаете, у всех депрессия, давайте оказывать посильную поддержку. А потом, вы знаете, Новый год, давайте не будем отравлять людям праздник. А вот еще весна, вы знаете, у всех гормональный подъем, а тут какие-то ужасы на полосе. Или вот лето, у нас сдвоенный номер, предполагается, что мы будем писать про пляжное чтение.
Разумеется, это пожелание касается только фикциональной литературы и, я думаю, оно существует только в нашем журнале. Потому что о физическом, сексуальном, домашнем, духовном и каком угодно еще насилии, о ценностных, возрастных и духовных кризисах, о детских травмах, сиротстве, одиночестве, о страхе смерти, о депрессии, о проживании утраты, коротко говоря – о боли – мы пишем из раза в раз. И у книжного разворота есть задача чуть-чуть сбалансировать номер в целом. Потому что исцеление боли – это психотерапевтическая задача, это не задача художественной литературы. У художественной литературы нет инструментария для исцеления. У нее есть способ указания на точку боли, надавливания на нее – но это бессмысленно. Потому что боли от этого становится больше, а не меньше. Бессмысленно – и жестоко, и самонадеянно – обнажать социальные язвы, если не знаешь, как их залечить.
Вот такой социальный заказ.
Сергей Чередниченко: Спасибо. Я могу задать еще один вопрос, но он касается, скорее… Он такой немножко провокационный. Любой глянцевый журнал на процентов семьдесят, наверное, состоит из рекламы. Насколько критика в глянцевом журнале является рекламой?
Елена Пестерева: Глянцевый журнал не состоит на 70 % из рекламы, это заблуждение. По крайней мере, тот, в котором я работаю, его можно полистать и посчитать количество рекламных и не рекламных полос. Конечно, до кризиса рекламы было больше – но за счет этого мы могли себе позволить больший объем номера, то есть пропорция сохранялась. Найти рекламодателя – наверное, в любой экономической ситуации – это сложная задача, серьезно. И если реклама не собрана, то – по слухам, со мной такого не было – книжная полоса слетает из номера первой.
Насколько рекламными являются тексты обозревателей в глянце? Мои интонационно всегда отчасти рекламные, неважно, в глянцевом журнале они опубликованы или в «толстом», или в интернет-издании. Я не могу писать о том, что мне не нравится, будь то книги, сборники, идеи, люди, тенденции или явления. Я пытаюсь сказать что-то вроде: «Читатель, погляди, какая штука!» – только и всего. Да, так работает мой инстинкт просвещения.
«Вопросы литературы», 3,2017
Я тебе еще пригожусь
Чем дольше я читаю художественную литературу, пишу о литературе и наблюдаю процесс, тем меньше понимаю, зачем она нужна миру.
Как сердцу высказать себя? О, чем короче, тем лучше. В том числе и для сердца. Мне яснее, для чего нужна лирика, особенно верлибр, чем для чего мог бы пригодиться миру псевдоисторический роман (благо, он цвел недолго и вот уж отцветает). Язык есть средство коммуникации. И поэтический язык тоже. Метафора уместна, если облегчает понимание, если иначе мысль выразить никак невозможно, – а теперь она большей частью служит лишней, утомительной красотой. Лирическое высказывание рассчитывает на слушателя. Говорящий всегда рассчитывает быть услышанным, сколько бы поэты ни убеждали самих себя, что могут десятилетиями писать в стол, что не имеют необходимости в реципиенте, что сомнамбулическое бормотание сродни бредовому (бредовое – в буквальном понимании, – кстати сказать, тоже нуждается в слушателе).
Словом, я знаю, что литераторы хотят быть услышанными и понятыми. И от этого, мне кажется, столько гнева, обид, боли, прочих форм фрустрации: редакция не опубликовала, издательство отказало, фестиваль не оплатил дорогу, на юбилейный вечер не позвали, слишком мало критиков высказались о книге, слишком мало лайков. Вопрос «Кто ваша целевая аудитория» звучит маркетингово и комично, но я могу переформулировать: «Папа, а ты с кем сейчас разговаривал?»
Мне кажется – мне не кажется, я совершенно уверена в этом, это просто такая осторожная форма преподнесения мысли, – что жажда говорить и заявлять о себе, жажда быть выслушанным и верно понятым, жажда получить на свое высказывание внятный, адекватный, заинтересованный ответ должна удовлетворяться у психотерапевта. Психотерапевты тоже люди и могут часть богатого разнообразного внутреннего мира рекомендовать отдавать бумаге – метод безотказный и бесплатный. Но к литературе все это отношения не имеет.
И мне с некоторых пор не ясно, что же тогда имеет. Художественная литература ничему не учит – и хорошо. Она не рождает новых идей – философия прекрасно справляется без нее. Она не должна служить формой опосредованного контакта – психотерапия делает это в разы эффективнее и красивее. Рефлексии над недавним прошлым литературе тоже ни к чему – у историков получится лучше. Долгое время мне нравилась мысль, что стихи – это форма молитвы и «писем Богу». Нравилась ровно до тех пор, пока я не стала считать, что Богу совершенно не обязательно писать «в столбик» и что ни есть – все форма молитвы.
Художественная литература все еще есть. Но уже немножко как бардовская песня: трогательный рудимент. Видеть ее в этом качестве грустно и неловко. И меньше всего я хотела бы, чтобы литература существовала как эстетская поделка.
В результате я не знаю, зачем она в сегодняшнем дне.
Мне, кроме того, странно не видеть об этом никакой критики. То, что я читала – может, это я такая невезучая, – коротко сводится к двум мнениям. Первое – обиженное с элементами насилия: они нас не читают, тиражи наши падают, где наши стадионы, вот олухи, куда смотрит правительство, куда катится мир. Второе – обиженное с элементами гордыни: литература – удел немногих, поэзия – для избранных, уйдемте и плотнее задернем шторы. Второе мне чуть ближе. Мне стали нравиться маленькие фестивальчики по признаку дружбы и частной нежности, маленькие издательства на коленке, маленькие презентации с закрытым мероприятием в фейсбуке. Мы стали взрослые и уже не так страстно хотим признания.
Но в целом места литературе в текущей жизни я не вижу. Особенно это чувствуешь, работая учителем литературы в школе, в пятых классах, и вместе с детьми читая, скажем, «Руслана и Людмилу». Зачем это? А «Кавказский пленник» зачем?
Хорошо рассуждать, пока живых детей не видишь. А когда видишь – как они сидят, какие у них глаза, носы, ручки, линейки, пенальчики, шутки, голоса, моды, мелкие обряды, – физически невозможно себя заставить и начать вот это все: Жилин, Костылин, Маруся умирает от чахотки. Давайте напишем сочинение, овладеем приемом «олицетворение». Давайте потренируемся в метафоре.
Давайте не будем. Невозможно отделаться от ощущения, что я своими руками убиваю живую жизнь, удушаю и иссушаю ее. А потом они вырастут и станут писать все эти как бы хорошие и правильные стихи и романы, потому что карусель уже не остановить, или все эти истерически-неправильные разодранные клиповые тексты, чтобы только высвободиться наружу.
Словом, я со своей литературой пытаюсь войти в жизнь – и это невозможно. Жизнь шарахается от меня как черт от ладана. Жизнь готова меня впустить, но только если литература останется на пороге. А я все стою и говорю: ну что ты, она хорошая, пусти меня с ней вместе, она тебе еще пригодится. Но чем, зачем она пригодится и честна ли я в уверениях – неизвестно.
«Вопросы литературы», 4,2019
Критик (не) должен
Критик должен быть злым. Критика должна быть зубастой. Когда вы последний раз слышали это послание? Я — недавно. И до этого «недавно» – еще много-много раз. Что происходит? Нам нравится, когда нас бьют? Нам нравится смотреть, как бьют других? Нет, мне – нет. Каждый раз от этой формулы меня передергивает и внутренне сжимает. Добро должно быть с кулаками. Мы наш, мы новый мир построим. Бросим Пушкина с парохода. «Расстреливайте как можно больше», как завещал великий Ленин.
Нет, критик не должен быть злой. А должен совсем другое, и разговор об этом представляется мне очень важным. Оставим в стороне анархически-инфантильную позицию, в которой критик никому ничего не должен, я позже объясню, почему.
Критик должен быть честным. Прочитанное произведение, корпус произведений, наблюдаемая тенденция, динамика, состояние дел в сообществе и обществе могут нравиться и не нравиться, могут пугать, бесить, радовать, восхищать, вызывать гордость, приводить в ужас, ранить. Критик может ощущать или не ощущать художественную, историческую, политическую, социальную ценность того или иного предмета – и говорить об этом открыто и ясно. В каком-то смысле, он именно должен это делать – не мочь молчать. Критик не должен лгать. Не должен писать заведомую ложь, не должен приписывать другим слова, которые они не говорили, и смыслы, которые не вкладывали, передергивать, провоцировать, манипулировать. Критик не может себе позволить переставить строчки в стихотворении автора в произвольном порядке, чтобы так «доказать», что поэт исписался. Он не может добавить в статью стихотворение, созданное искусственным интеллектом, чтобы так «проиллюстрировать» нежизнеспособность наблюдаемой ветви развития поэзии.
Немного странно писать взрослым интеллигентным людям, что есть ряд риторических приемов, оскорбляющих читателя. Читателю не нравится быть обманутым. Читателю неприятно чувствовать себя идиотом. Мне, как читателю, – очень. Словом, критик должен стремиться к истине – пусть и недостижимой в своем абсолюте – и не должен ее сознательно искажать.
Критик должен быть умным. Я не верю в объективность частного взгляда, но верю, что широко эрудированные, начитанные, образованные люди, способные к простым когнитивным действиям типа анализа и синтеза, к дедукции и индукции, могут говорить взвешенно и осознанно, и их мнения значимы. Словом, критик не может быть глупым. Заявив свою эмоцию и сформулировав личное отношение, критик обязан переходить к аргументации. К аргументации, а не к иронии, насмешке, прямому оскорблению. Аргумент не может звучать так: «К разорванности поэтической ткани, кажущейся бессвязности тут добавляется еще один соблазн. Речь о старинном, еще платоновском, соблазне поэтического безумия. Опять несколько примеров, и начну с самого невинного:
Беременная луна
Разметалась бледна
Голубые губы луны…»
Знаете, чей текст критик приводит? А и действительно человека с диагнозом шизофрения. Что он хочет нам таким образом сказать? Что шизофрения и искусство есть вещи несовместные? Это не так.
Критик должен быть интеллигентным. В смысле, он должен быть джентльменом. Он должен быть хорошо воспитан. Он должен быть вежливым. Он обязан быть корректным. Критик не может быть хамом. Время от времени я бываю шокирована стилем, которым написаны как бы критические статьи. Я спрашиваю коллег, что происходит и как подобная интонация возможна в сообществе. Коллеги говорят: ну, это такое издание, это фельетон, такой жанр, это такая редакция, критик должен будоражить, критик должен ругать, критика должна провоцировать. И, кроме того, это такой автор и таковы индивидуальные черты его личности. Но на самом деле – нет.
Да, человек дик. Да, нас много ругали поколение за поколением. Да, нас провоцировали и манипулировали нами. Да, мир вообще состоит из насилия. Но зачем же поддерживать это? Критик должен быть бережным. Это, кстати, прагматичная мысль – пока вы бережны к собеседнику, он вас, скорее всего, слышит и понимает. Если вы нападаете – он защищается. Чем громче кричишь, тем хуже слышно. И критики, которые и в самом деле пишут, чтобы что-то сказать миру, пишут довольно тихо и бережно: им важно быть услышанными. Тех, кому важно говорить с самим собой и кричать в пустоту, сражаться с невидимым врагом в своей голове и бунтовать против невидимых притеснителей, читать не хочется – хочется обходить стороной.
Собственно, было бы славно, если бы все и всегда стремились к истине, разуму и добру. На том стоит мораль светская и религиозная, и моя частная ценностно-этическая система тоже на этом строится. Ничего принципиально нового я сейчас не говорю. Но видите ли…
Ряд гуманитарных наук знает понятие «тотальный объект» – такой объект, отношения с которым не определяются конкретными итерациями, а существуют как поле. Тотальным объектом для младенца выступают родители. А вот потом им может стать кто угодно, если субъект наделил его свойствами постоянства, власти, разума и т. д. В эту группу часто попадают воспитатель, учитель, семья, школа, страна, государственная дума, президент, медсестра, тренер йоги, психотерапевт, начальник, редактор. Сюда обязательно попадают священники, исповедники, духовные учителя. Сюда же попадают поэты и кинозвезды. То есть когда люди требуют от американского президента не спать с Моникой Левински, от Кирилла – снять золотые часы, от Харви Вайнштейна – не требовать сексуальных услуг, от Николая Некрасова – не набивать гвозди на облучок своей кареты (или что у него там было), они, по-своему, правы. Профессия критика впрямую связана с публичностью. Критик – тоже тотальный объект.
Да, человек слаб, хочет выглядеть умным и смелым, хочет секса и золотые часы. Да, никто никому не судья. Да, люди в любом случае разочаруются в нас (это неизбежно, если вдруг вы – тотальный объект для кого-то). Но выбрав этот путь, нужно понимать его риски и взятую на себя ответственность. Я хотела бы, чтобы, прежде чем говорить во весь голос, критик убеждался, что он находится на стороне истины, разума и света настолько, насколько в настоящий момент для него посильно. А потом отмерял еще раз.
«Новая юность», 6,2018