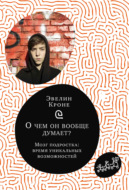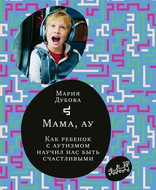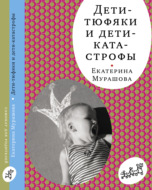Buch lesen: "Берегите(сь) подростков"
⁂


Художественное электронное издание
В соответствии с Федеральным законом № 436 от 29 декабря 2010 года маркируется знаком 16+
Серия «Самокат для родителей»
Оформление серии Ляли Булановой

Любое использование текста и иллюстраций разрешено только с согласия издательства.
© Мурашова Екатерина Вадимовна, текст, 2025
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательский дом «Самокат», 2025
⁂
На южной окраине Петербурга, недалеко от аэропорта и Пулковских высот, посреди зеленых хрущевских кварталов, стоит детская муниципальная поликлиника № 47. В ней вот уже 33 года работает медицинским и семейным психологом Екатерина Мурашова. К ней каждый день с самыми разными проблемами приходят семьи с детьми от нуля до 18 лет.
На основе клинического опыта Екатерина Мурашова пишет научно-популярные книжки для родителей. И ещё истории, в каждой из которых главный герой – отдельная семья. Эти истории вот уже 17 лет регулярно публикует интернет-портал «Сноб».
«Семейные отношения и семья в целом эволюционируют, как и все в нашей Вселенной, – говорит Екатерина Мурашова. – У эволюции нет знака и оценочных категорий, про нее нельзя сказать: это хорошо или это плохо. Но всегда большая удача, если можешь видеть, знать и понимать, что происходит».
В новой книжке мы собрали истории семей с подростками. Драматизм, парадоксальность и одновременно обыденность этих историй позволяют взглянуть на наши собственные проблемы с детьми с неожиданной стороны, начать лучше понимать собственных подростков и, главное, осознать, что из любой, даже самой сложной и запутанной, ситуации всегда можно идти вперед.
Ваш «Самокат»
Так в чем проблема?
Мне часто приходится слышать, что современные подростки эгоистичны и инфантильны. Родители часто объясняют это так:
– Слишком много у них всего. Дефицит лучше переизбытка.
– Слишком много им с самого детства уделяют внимания, они и привыкают, что всё в этом мире для них.
– Родители откупаются от детей материальным, не испытывая к ним реального интереса. Вот подростки потом и требуют материального, рассматривая родителей лишь как обслуживающий персонал.
– Важность личности ребенка, его интересов и потребностей насаждается обществом, и родители идут на поводу у этого тренда, зачастую забывая, что их интересы ничуть не менее важны.
Иногда мне кажется, что современные родители почему-то не доверяют своим детям, считают, вопреки прямым историческим свидетельствам, их какими-то слегка неполноценными, что ли. Ну, они такими и вырастают…
Смотрите: нам точно известно, что в принципе может делать умственно полноценный девятилетний ребенок. Самостоятельно учиться в школе и делать уроки, по известному алгоритму ухаживать за младшими братьями, сестрами, скотиной (даже крупной) и немощными стариками. Работать в огороде и по дому, имея внятные инструкции, рукодельничать (шить, вышивать, выпиливать и т. д.) по образцам. Может готовить простые блюда самостоятельно и непростые – под руководством старшего. Он может играть с младшими и старшими в максимально сложные ролевые игры и игры с правилами, учить читать и писать младших, читать им книги. Самостоятельно передвигаться по известным ему маршрутам. Он может творчески преобразовывать окружающую его среду (построить шалаш, украсить жилище, организовать жилье домашнего животного, создать сайт, аккаунт в соцсети с концепцией и т. д.) с минимальной помощью старших товарищей или родителей.
Возражение: ну скажете тоже! Это же все когда было! Нынешние дети этого не умеют и делать не будут!
Возражение на возражение: во-первых, все это было сравнительно недавно (лет 50–60 назад). А во-вторых, кто сказал, что нынешние дети глупее детей из прошлого? Я бы даже сказала, наоборот: нынешние умнее!
И еще вопрос: многие ли городские девятилетние дети живут сейчас в соответствии со своими реальными возможностями? Или хотя бы в непосредственной видимости этого возможного для них «потолка»?
Я могу ошибаться, но мне почему-то кажется, что это вопрос именно доверия.
А теперь – история из практики.
Юрочку родители очень ждали. Но беременность оказалась тяжелой, и ребенок родился глубоко недоношенным. Лежал в кювезе. Многие системы органов оказались недоразвитыми. ИВЛ. Две операции. Отслойка сетчатки. Два раза с ребенком пускали попрощаться. Но Юрочка выжил.
Однако довольно быстро выяснилось, что ребенок почти не видит и почти не слышит. Физическое развитие постепенно наладилось – Юрочка сел, взял игрушку, потом пошел возле опоры. Но умственное – не шло никак. Родители сперва еще надеялись – сначала бились вдвоем, потом папа тихо растворился в пространстве, и мать продолжала сражаться одна. Нашла какую-то квоту, в три с половиной года Юрочке вставили импланты для восстановления слуха. Теперь он вроде бы слышал, но развитие не шло все равно. Занятия с дефектологами, логопедами, психологами и кто там еще. Мама Юля приходила с Юрочкой ко мне неоднократно. Я говорила: а давайте еще вот это попробуем… а вот это… а вот то… Мать пробовала. Ни-че-го. Бо́льшую часть времени Юрочка тихо сидел в манеже и крутил какую-нибудь вещь. Стучал ею об пол. Кусал свою руку и еще что-нибудь. Иногда выл на одной ноте. Иногда выл модулированно. Мать утверждала, что Юрочка ее узнаёт, зовет ее особым курлыканьем и любит, когда ему чешут спинку и ножки.
В конце концов один пожилой психиатр сказал ей: ну какой уже вам тут диагноз! Овощ ходячий. Примите относительно него решение и живите дальше. Либо сдаете его, либо просто ухаживаете за ним – вы же научились уже? Никакого смысла надеяться на существенный прогресс в его состоянии, как и хоронить себя рядом с его манежем, я лично не вижу.
Это был единственный человек в жизни матери Юрочки, который высказался определенно. Она отдала Юрочку в спецсадик и вышла на работу. Некоторое время спустя купила мотоцикл – ей всегда хотелось. Стала ездить по улицам и за городом с единомышленниками – когда ревел мотор, из головы высыпа́лись все мысли и чувства. Отец платил алименты, она целиком тратила их на сиделок на выходные – Юрочка был в общем-то ненапряжный в уходе, если привыкнуть к его вою.
Потом один из приятелей-мотоциклистов сказал Юле: «Знаешь, я на тебя как-то не по-детски запал. В тебе есть что-то интересно-трагическое».
– Пойдем покажу, – сказала Юля.
Он заулыбался довольно, думая, что она его зовет домой и в постель.
Она показала ему Юрочку. Тот был как раз бодрый, и выл модулированно, и курлыкал – наверное, узнал мать или забеспокоился при виде незнакомого человека.
– Ох и ни черта же себе! – сказал мотоциклист.
– А черта ж ты себе думал? – ответила Юля.
Через некоторое время они стали не только ездить, но и жить вместе. Мотоциклист Стас к Юрочке не приближался (заранее это обговорил), а Юля и не хотела. Потом Стас сказал: давай ребенка родим. Юля ответила резко: а если еще один такой будет? Стас замолчал почти на год, а потом опять сказал: нет, все-таки давай.
Родился Ванечка. По счастью, совершенно здоровый. Стас сказал: может, сдадим теперь Юру в заведение? Раз у нас нормальный сынок есть… Юля ответила: я скорее тебя сдам. Стас тут же пошел на попятный: я ж просто спросил…
Ванечка обнаружил Юру месяцев в девять, когда пополз. Сразу очень заинтересовался. Стас пугался и злился: не пускай мальца к нему, опасно, мало ли что! Но Стас все время на работе или на мотоцикле. Юля – пускала. Когда Ванечка ползал рядом, Юра почему-то не выл.
И еще ей казалось, что он прислушивается и ждет.
Ванечка приносил игрушки, показывал, как играть, сам зажимал и складывал Юрины пальцы.
Однажды Стас приболел и остался на выходные дома. Увидел: Ванечка еще неуверенно ходит по квартире и что-то призывное бормочет, а за ним, как привязанный, Юра (до этого Юра безвылазно сидел в одной комнате в углу). Стас устроил скандал и потребовал «оградить моего сына от твоего идиота или все время следить». Юля молча указала ему на дверь. Он испугался. Они помирились. Юля пришла ко мне.
– Он – буратино, но я его люблю, – сказала она. – Ужасно, да?
– Это естественно, – сказала я. – Любить своего ребенка независимо от…
– Я, вообще-то, о Стасе говорила, – уточнила Юля. – Так Юра для Вани опасен, какое ваше мнение?
Я сказала, что, по всем данным, ведущий в их паре Ваня, но присматривать все равно надо. На том и порешили.
В полтора года Ваня научил Юру складывать пирамидки по размеру. А сам разговаривал предложениями, пел простые песенки и показывал потешки типа сорока-ворона кашку варила.
– Он у нас чего – вундеркинд, что ли? – спросила у меня Юля. – Стас велел узнать. Мужик от гордости того и гляди лопнет – у приятелей в этом возрасте дети папа-мама не говорили.
– Я думаю, это из-за Юры, – предположила я. – Не каждому ребенку в полтора года доводится выступать локомотивом чужого развития.
– Во! – обрадовалась Юля. – Я так этому бревну с глазами и скажу.
Ну и семейка, подумала я: овощ ходячий, бревно с глазами, женщина на мотоцикле и вундеркинд.
Приучившись к горшку, Ваня потратил около полугода, чтобы приучить к нему сводного брата.
Научить Юру есть, пить из кружки, одеваться и раздеваться – эту задачу Юля поставила перед Ваней уже сама. В три с половиной Ваня спросил:
– А что, собственно, с Юрой такое?
– Ну, во-первых, он ничего не видит…
– Видит, – возразил Ваня. – Только плохо. Вот такое видит, а вот такое – уже нет. И смотря какой свет, лучше всего лампочка в ванной над зеркалом – там он много видит.
Когда для объяснений состояния зрения Юры привели трехлетнего ребенка, офтальмолог очень удивился, но все внимательно выслушал, назначил еще одно обследование и по результатам выписал лечение и сложные очки.
С садиком у Вани категорически не заладилось.
– Ему в школу надо! Такой, видишь ли, умник! – раздраженно сказала воспитательница. – Никакого сладу с ним нет, все-то он лучше других знает!
Против раннего начала школы я выступила категорически: пусть Ваня ходит в кружки и занимается развитием Юры. Стас, на удивление, согласился с моим вердиктом и сказал Юле: ну и посиди с ними до школы, чего ему в этом садике дурацком… и ты вообще заметила, что твой-то почти год не воет уже?
А еще через полгода Юра сказал: мама, папа, Ваня, дай, пить и мяу-мяу. В школу мальчики пошли одновременно. Ваня очень переживал: как он без меня? А специалисты там, в этой спецшколе, действительно хорошие? А они его вообще поймут? Уроки он и сейчас, в пятом классе, делает сначала с Юрой, а потом уже свои.
Юра говорит простыми предложениями. Умеет читать и пользоваться компьютером. Любит готовить и прибираться (Ваня или мама им руководят), любит сидеть во дворе на скамейке и смотреть, слушать и нюхать. Знает всех соседей и всегда здоровается. Любит лепить из пластилина, собирать и разбирать конструктор. Но больше всего на свете он любит, когда они всей семьей едут на мотоциклах по загородной дороге – он с мамой, а Ваня с папой – и все вместе орут что-то навстречу ветру.
Немного о правах и обязанностях детей
Сначала два монолога. В последние годы я слышу подобное регулярно.
Монолог первый. Девушка Нина, 15 лет.
– Моя мама никак не хочет понять, что я – уже взрослый человек и у меня есть своя зона приватности. Она хочет все контролировать – куда я хожу, что делаю, с кем общаюсь, может заглянуть ко мне в комнату в любой момент. Если я говорю: не входи! – она говорит: сейчас скажу, что хочу, и уйду. Я, например, общаюсь с подругами, а ей нужно, чтобы я прямо сейчас сходила в аптеку или помыла посуду. Вот прямо сейчас – не раньше и не позже. И еще – я якобы совсем не помогаю ей с младшей сестрой. А я должна? Это, между прочим, она вышла замуж за отчима, родила в 42 года ребенка – это что, мои проблемы? Ну да, я могу иногда с сестрой поиграть, она забавная, но это пока нам с ней в радость. Вот когда у меня будут свои дети… но я еще сильно подумаю, заводить их вообще или нет. Кроме того, мама все время читает мне нотации: если ты не будешь хорошо учиться, то будет то и то. И еще ставит условия: если ты не исправишь свои двойки, то я тебе не… Но ведь это моя собственная жизнь, правда? И учеба тоже. То, как я учусь, повлияет на меня, а не на нее, разве не так? Меня такое отношение унижает, как будто я ее крепостная. Разве она не должна меня обеспечивать всем до 18 лет просто по закону? При этом я сначала хотела поступить на дизайнера в хороший вуз, а она сказала, что туда у нее денег нет платить. А на бесплатное туда мне никак не поступить. Ну и вот у меня, конечно, сразу же пропала вообще всякая мотивация учиться. А вот у моей лучшей подруги мама сказала, чтобы та ни о чем не беспокоилась и она возьмет кредит на ее образование. Я так понимаю, что мне просто не повезло…
Монолог второй. Виталик, 12 лет.
– Мама говорит, что мы с братом должны ей помогать, и все время пишет какие-то дурацкие списки и вешает их на стену – так ей какой-то психолог посоветовал, но это были не вы, я знаю. Но брат все время свою очередь пропускает, а я что – дурак, что ли? И потом она говорит: мы же с вами договаривались, – а никто ни с кем не договаривался, это они с папой или тем психологом чего-то такое придумали, а мне, кроме учебы, еще на тренировки ходить – надо или как? А отдыхать? И когда мне все это по списку делать? И вообще, брат только на рисование один раз в неделю ходит и на английский один, а у меня четыре тренировки, а иногда соревнования еще по выходным, а бабушка не работает уже – что они, не могут сами сделать, что ли? А если это такое «воспитание», то оно, по-моему, никого не воспитывает и всем только вредит – все орут, и никакого толка, я даже один раз дверь с петель уронил и сам испугался, конечно. Но разве это я виноват? Они меня сами довели. И еще вы ей, пожалуйста, скажите, что если у меня телефон за все отбирать, то я от этого становлюсь просто злым, а вовсе не послушным и голова у меня вовсе не «проветривается», а там, наоборот, начинают такие как бы молоточки стучать: телефон, телефон, телефон! Я ей говорил, а она не верит. Может быть, хоть вы поверите и ей скажете. Говорят: «счастливое детство» – а какое оно счастливое, если тебя и дома, и в школе все время дергают? Только я сяду поиграть или пообщаться, как маме, папе или бабушке сразу что-нибудь приспичивает. А иногда мама вдруг говорит: ты поговори со мной, если не помогаешь ничем, мне нужно хотя бы эмоциональное участие. Причем это обычно в то время, когда я собираюсь куда-нибудь, или игра у меня идет, или еще что-нибудь важное. И я тогда прямо опять злюсь и не понимаю – это что я должен сделать-то? О чем с ней поговорить? Ей же все мои интересы безразличны и кажутся дурацкими, и тут я ее, наверное, понимаю: когда я вырасту, мне и самому, наверное, это будет как мне сейчас книжка про курочку Рябу. А когда-то, мама говорит, я ее просто обожал и мог слушать по десять раз кряду. И вот я выхожу все время кругом виноватым, и так жить нельзя, вы уж ей скажите, пожалуйста, может, она хоть вас услышит.
Мой вопрос к Нине был:
– Ты – взрослый человек. Ок. А какие, на твой взгляд, у тебя обязанности в твоей семье?
Мой вопрос к Виталику:
– А может быть, с твоей мамой для этой самой эмоциональной поддержки нужно поговорить не о том, что интересно тебе, а о том, что интересно ей? Чем она у тебя вообще интересуется?
Скажу сразу: оба подростка затруднились с ответом.
⁂
Сегодня очень много говорят о правах детей и подростков. Самим детям разные СМИ и даже в школе на специальных уроках тоже регулярно сообщают о том, какие у них есть права.
А что с обязанностями? Они у современных детей, и особенно подростков, еще остались? Или их уже вообще нет?
Иногда (часто) взрослые говорят детям: твоя главная обязанность – учиться. Но тут я, пожалуй, на стороне Нины: чему и как я сейчас учусь, определит в будущем мою собственную жизнь, и никто не знает, что именно из получаемых мною сегодня навыков завтра пригодится мне больше. Учеба ребенка, и особенно подростка, – его собственная зона ответственности, и именно ему потом пользоваться плодами и расхлебывать неувязки.
А вот другое – обычные повседневные обязанности в составе общества и семьи. Веками они существовали, были четко озвучены и предельно понятны, хотя и различались для детей из разных слоев общества. Кто-то в семь лет уже ухаживал за скотиной в хлеву, кто-то в этом же возрасте высиживал (или даже выстаивал) скучные официальные приемы во дворце. Крестьянская девочка в 12 лет умела практически все по хозяйству и многое и делала. Двенадцатилетний мальчик из военной среды – ординарец – умел совсем другое, но тоже многое, и неплохо со всем этим справлялся. Плюс обязанности, связанные с общественной иерархией, с религией, чти отца и мать своих и все такое прочее.
И вот мне интересно и не совсем понятно – куда и как все это отэволюционировало сейчас в общественном и личном сознании?
Мне кажется, ни большинство родителей, ни, как следствие, их дети толком этого не понимают. И именно отсюда – из непонимания ситуации – проистекает множество взаимных обид и конфликтов.
Есть «Права ребенка», а почему нет книги «Обязанности ребенка»? Или, может, думаю я, нужны даже две такие книги? Одна для детей, а другая – для родителей? Или у детей сегодня, в нынешнем мире избыточного потребления, обязанностей быть и не должно? И их нужно просто любить, обеспечивать всем необходимым, развлекать и учить в игровой форме, чтобы им никогда не было скучно и тягостно? А как тогда эти обязанности должны возникнуть? Где, по какому поводу и в каком возрасте?